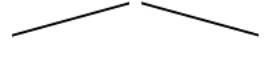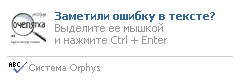5 От редколлегии
Многообразные материалы второго тома, охватывающие широкий круг вопросов эстетики кино, над которыми С. М. Эйзенштейн работал в 1923 – 1940 годах, группируются по трем разделам.
В первом разделе в хронологическом порядке публикуются исследования, посвященные крупным проблемам киноискусства: цикл работ о монтаже, программа преподавания режиссуры во Всесоюзном государственном институте кинематографии, далеко выходящая за рамки учебно-методического документа, выступление С. М. Эйзенштейна на творческом совещании 1935 года, расширенное и подготовленное автором к печати, а также наиболее значительные статьи по общим вопросам эстетики фильма.
Во втором разделе читатель найдет статьи и заметки разных лет, в том числе дискуссионные, которые большей частью были написаны по тому или иному конкретному поводу и дают представление о творческой лаборатории С. М. Эйзенштейна, эволюции его взглядов и его полемическом темпераменте.
В третьем разделе — «Приложения», — публикуется «Заявка» («Будущее звуковой фильмы»), подписанная С. М. Эйзенштейном, Вс. И. Пудовкиным и Г. В. Александровым; перевод доклада, прочитанного С. М. Эйзенштейном на английском языке во время его заграничной поездки, и фундаментальное, но незаконченное исследование С. М. Эйзенштейна «Монтаж», недавно обнаруженное в его личном архиве.
Все содержание тома, несмотря на группировку по разделам в соответствии с характером публикуемых материалов, представляет собой единое целое; вместе с тем второй том неразрывно связан с третьим, в котором печатаются теоретические труды, написанные С. М. Эйзенштейном в последний период его жизни.
Принципы подготовки текстов те же, что и в первом томе.
При публикации исследования «Монтаж» ввиду его фрагментарности и отрывочности купюры текста (незаконченные фразы, черновые записи и т. п.) 6 не отмечаются и не оговариваются; не вставленные автором варианты и дополнения (иногда довольно значительные) даются в основном тексте в острых скобках.
Ввиду того что второй том содержит теоретические работы С. М. Эйзенштейна, к каждой из них кроме чисто справочного комментария дается небольшое вступление, которое кратко характеризует место и значение публикуемой работы в теоретическом наследии С. М. Эйзенштейна.
Все археографические работы по тому проведены ЦГАЛИ.
В подготовке незаконченной рукописи «Монтаж» приняла участие В. А. Мильман.
Переводы иностранных текстов сделаны П. М. Аташевой, В. Д. Линде и Н. В. Снытко, подбор иллюстративного материала — П. М. Аташевой
Именной указатель составлен Ю. А. Красовским.
7 И. Вайсфельд
ХУДОЖНИК ИССЛЕДУЕТ ЗАКОНЫ ИСКУССТВА…
Изобретение кинематографа не просто обогатило человечество новым техническим достижением, разновидностью искусства; оно обозначало гораздо большее. Появление экранного изображения, подобно открытию книгопечатания, определило новые возможности в познании человеком мира, в развитии новых способов исследования действительности. Как известно, возможности кино высоко оценивал В. И. Ленин. Еще в 1907 году Владимир Ильич прозорливо предсказывал, что «когда массы овладеют кино и когда оно будет в руках настоящих деятелей социалистической культуры, то оно явится одним из могущественнейших средств просвещения масс».
Десятилетия истории кино показали, что киноаппарат способен наблюдать и сопоставлять, что экран способен передавать чувства, размышления художника. Не случайно Горький назвал изобретение Люмьера удивительным, «еще раз доказывающим энергию и пытливость человеческого ума, вечно стремящегося все познать», не случайно Лев Толстой высоко ценил кино и намеревался писать сценарий.
В первых оценках природы фильма подчеркивались новые качества объектива и экрана. «Киноглазом» назвал его режиссер Вертов, «видимым человеком» — теоретик Бела Балаш.
Эти попытки определить в кратких формулах особенности фильма и возможности киноаппарата выражали потребность в теоретическом осознании сущности нового искусства.
Вместе с возникновением и развитием искусства кино неизбежно должна была возникнуть и его теория, способная обобщить творческий опыт и наметить перспективы движения вперед. Эту задачу выполнило советское и передовое зарубежное киноискусство и наиболее полно — великий мастер режиссуры и исследователь, чьи достижения составляют гордость мировой культуры, — Сергей Эйзенштейн.
В кинематографе он видел «кусок грядущей эпохи коммунизма», такую область культуры, которая помогает человечеству в решении генеральных задач эпохи.
В статье «Перспективы» С. Эйзенштейн писал о том, что необходимо:
«Вернуть науке ее чувственность,
интеллектуальному процессу его пламенность и страстность.
8 Окунуть абстрактный мыслительный процесс в кипучесть практической действенности.
Оскопленности умозрительной формулы вернуть всю пышность и богатство животно ощущаемой формы».
Как видим, задачи, которые рисовались в воображении молодого Эйзенштейна, далеко выходили за рамки киностудий, просмотровых залов кинотеатров! Кинематограф — это испытательное поле для художников, ученых, исследователей, другими словами, — всеобъемлющее средство научного и художественного освоения действительности.
Колоссальный масштаб научной задачи определил и масштаб теоретической работы Эйзенштейна. Об ее внутреннем содержании читатель получит известное представление по второму и третьему томам, в которых публикуются его исследования.
Но этим не исчерпывается теоретическое наследие Эйзенштейна. За рамками настоящего издания «Избранных произведений» остаются еще многие статьи, стенограммы лекций, прочитанных во ВГИКе на протяжении пятнадцати лет, планы и черновые наброски новых трудов. Кроме того, немало наблюдений и выводов теоретического характера и в остальных томах данного издания, в которых публикуются мемуары, критические и публицистические выступления, статьи о мастерах и фильмах.
Большое количество работ Эйзенштейна по мере их написания публиковалось в советской печати и на разных языках в разных странах. О них спорили, и в то же время они служили творческой практике. Пожалуй, нет ни одного прогрессивного кинематографиста мира, который не считал бы Эйзенштейна самым авторитетным представителем теоретической мысли в киноискусстве, классиком не только режиссуры, но и научного творчества.
Теоретическое наследие Эйзенштейна многообразно: статьи, исследования, дневники, заметки, лекции. Оно неотделимо от всей творческой биографии этого художника. Бывали времена, когда постановка картин определяла строй жизни Эйзенштейна, а теория служила как бы продолжением его режиссерской жизни (двадцатые годы); бывало и иное: основное внимание уделялось научным исследованиям, а им сопутствовала разработка сценарных или режиссерских замыслов (1932 – 1936, 1938 – 1940, 1945 – 1948 гг.) Но, так или иначе, теория всегда была родной стихией Эйзенштейна.
О его научных изысканиях со временем несомненно будут написаны не одна статья, диссертация, книга. Сейчас, во вступлении к публикации теоретических сочинений, можно напомнить лишь о некоторых характерных особенностях Эйзенштейна — ученого, исследователя.
* * *
Порой трудно провести грань, начисто отделяющую Эйзенштейна-художника от Эйзенштейна-ученого.
«На долю нас, советских кинорежиссеров, — писал он, обозревая пройденный советским кино путь, — выпала задача не только делать фильмы, но еще и осознавать, строить и формулировать первичные принципы кинематографической культуры и эстетики вообще» («Неравнодушная природа»).
В построении и формулировании этих первичных принципов ему помогало прекрасное знание трудов Маркса, Энгельса, Ленина. К ним он обращался как к своим учителям и лучшим друзьям. Каждая публикация их неизвестных работ становилась событием в жизни Сергея Михайловича. Из новых публикаций особенно глубокое впечатление на Эйзенштейна произвели «Философские тетради» Ленина. Эта книга сделалась для него настольной. (На основе ленинских мыслей о диалектике построена, например, «Программа преподавания теории и практики режиссуры».)
С полным правом, с вполне понятной гордостью Эйзенштейн, анализируя в «Автобиографии» свой путь, писал, что советский строй дал ему 9 самое нужное: метод, твердую философскую базу для теоретических исканий.
Одержимость Эйзенштейна теорией была широко известна среди кинематографистов.
Но глубоко ошибается тот, кто полагает, что Эйзенштейн создавал фильмы как иллюстрации к заранее разработанным научным схемам, что искусство для него было лишь подопытным исследовательским материалом. Так могли думать люди, не знающие фактов.
Эйзенштейн поставил картину «Броненосец “Потемкин”» в 1925 году. Свое первое исследование, посвященное этому фильму, он написал в 1938, второе — в 1945 году («Органичность и пафос композиции “Броненосца "Потемкин"” и “Двенадцать апостолов”»), то есть через тринадцать и двадцать лет после выхода на экран анализируемого произведения.
Бесспорно, Эйзенштейн, разрабатывая замысел, руководствовался определенными эстетическими принципами. Но в процессе съемок он продолжал поиски, теоретическое значение которых ему становилось ясным позднее. Эйзенштейну чрезвычайно дорога была картина «Старое и новое». Но только через пятнадцать лет после ее выхода на экраны он, обращаясь к прошлому опыту, приходит к интереснейшим эстетическим выводам, публикуемым в третьем томе. Запомним: через пятнадцать. А что было в период работы над фильмом?
«В период работы над фильмом, — говорит Эйзенштейн, — на ум меньше всего лезли формальные задачи или приемы, а весь… пафос творчества был направлен лишь к одному — всеми возможными и невозможными средствами поднять до пафоса, казалось бы, серую и обыденную с виду сельскохозяйственную тему, которая, однако, в самой сущности своей несла наиболее патетическую идею создания колхозного строя» («Пафос» — см. т. III).
Бывало и иное: Эйзенштейн разрабатывал теоретические и творческие задания, которые только предполагал сознательно осуществить в своих сценариях и фильмах. Он, например, является автором теперь достаточно известной теории внутреннего монолога, согласно которой на экране можно изображать не только действия, поступки, события, но и внутреннее состояние героя, ход его мыслей, движение чувств, борение противоречивых начал.
Замысел «внутреннего монолога» изложен в статьях «Родится Пантагрюэль» и «Одолжайтесь!», публикуемых в настоящем томе. Что касается творческой разработки этой проблемы, то она, в сущности, только начата была Эйзенштейном, когда он приступал к экранизации романа Драйзера «Американская трагедия» (см. статью «Одолжайтесь!» и комментарии к ней); стремление передать «внутренний монолог» выражено и в некоторых других его замыслах. Однако Эйзенштейн не создал картины, в которой воплотилось бы намеченное им теоретическое положение. Творческая идея, увлекшая его, самостоятельно и независимо от него осуществлялась другими мастерами — как советскими (например, Довженко — «Поэма о море» и «Повесть пламенных лет»), так и некоторыми зарубежными.
Характерной для Эйзенштейна была также разработка научных проблем в ходе написания сценария и постановки фильма. Так, работа над «Александром Невским» и неосуществленным сценарием «Ферганский канал» помогла Эйзенштейну сформулировать ряд важных положений, связанных со звукозрительным монтажом.
Эйзенштейн был не рационалистом, распределяющим мир эмоций по полочкам затвердевших догм, а художником, который исследует законы искусства — исследует с такой же фанатической преданностью идее, с какой задумывает и снимает фильмы. Ничто не было так враждебно Сергею Михайловичу, как равнодушие и его высшая ступень — самодовольство.
Но было бы неправильно утверждать, что Эйзенштейну всегда удавалось достичь гармоничного слияния научного творчества и творческой практики. 10 В иных случаях темперамент исследователя преобладал над силой художника, и тогда логическое построение ослабляло эмоциональное напряжение действия, оттесняло образное начало на второй план. Однако эти противоречия не могут изменить общей оценки Эйзенштейна-ученого. Он относился к числу тех исследователей, для которых научное творчество требует полной самоотдачи, самовозжигания. Для Эйзенштейна не было такого момента бодрствования, когда останавливается мысль. Даже в состоянии, когда могло бы охватить отчаяние, растерянность, вспыхивает неожиданный, неоформленный, дерзкий замысел исследователя.
От переутомления за монтажным столом у Эйзенштейна однажды наступила временная слепота — частичное выпадение зрения. В темноте выступал лишь один видимый предмет — яркий, движущийся зигзаг.
И что же?
В это мгновение он анализирует линии движения зигзага. Он вспоминает, что эти линии чем-то напоминают роспись… очень ранних перуанских сосудов!
На другой день книга об искусстве Перу перекочевывает с полки его библиотеки на письменный стол. Выясняется, как создавалась графика перуанских сосудов. Устанавливается взаимосвязь рисунка с психологией художника, с его состоянием в момент творчества. Возникает своеобразная цепная реакция парадоксальных сопоставлений, которая мчит мысль исследователя через толщи наслоений культур, традиций, эпох, чтобы озарить молнией открытия непознанный материал.
Впоследствии такие наблюдения, кажущиеся случайными, внешними, формальными, сопоставлялись с другими. Происходил отсев, переплавка отобранного материала; дневниковые записи и импрессионистические наблюдения уступали место более продуманным и глубоким обобщениям. Но и «вспышки», подобно сопоставлению графики перуанских сосудов с линией движения, видимой человеком в момент крайнего напряжения, не проходят бесследно. Они выражают одно из частных проявлений того высокого пафоса мыслей и чувств, какое отличает большого исследователя и художника.
Другой пример. Режиссер обратил внимание во время одного из парадов в Москве на японского военного атташе. Он смотрел в небо, на новые, поразившие его истребители. Самурайская этика требовала абсолютной непроницаемости. Лицо потрясенного атташе было как каменное. Но руки! Руки за спиной двигались, скрытые жесты были предельно выразительны. Руки и неподвижное лицо дипломата вспомнились Эйзенштейну однажды во время посещения им зоосада в Алма-Ате при виде барса — холодные глаза и непрерывно движущийся хвост. Было это в период работы над «Иваном Грозным». У режиссера возникает неожиданное сравнение с Басмановым, роль которого исполнял актер Михаил Кузнецов. Эйзенштейн посылает актера в зоосад: изучай повадки барса, пригодится для «Ивана Грозного».
Теоретические изыскания были для Эйзенштейна жизненной потребностью, они захватывают его целиком.
Часто казалось, что материал давался Сергею Михайловичу сам собой и шел он навстречу научным открытиям с пушкинской легкостью, веселостью, озорством.
Источник научного вывода для Эйзенштейна чаще всего — живое впечатление, наблюдение, поставленное в связь с другими по сходству или по контрасту, проверенное жизненным и художественным опытом.
Читателю первого тома настоящего издания «Избранных произведений» известен эпизод в школе прапорщиков, где служил совсем молодой Эйзенштейн. Напомню этот эпизод. Строится мост. Масса людей, передвижений, кажущихся постороннему глазу хаотичными. Из хаоса постепенно вырисовываются конструкции — четкие, стройные. Главным в этой беспорядочной картине стройки оказались размеренность, расчет пространства и времени, взвешенные до минут и секунд. Отметив это, Эйзенштейн восклицает:
11 «Да, черт возьми! — разве не это лежит в основе слияния разнообразных объектов среды и людей, бытия и поступков, движения и времени — и в фильме в целом, и в сочетаниях его фрагментов — монтажных кусков…»
Живое впечатление, переживание вызывает вспышку, внезапную реакцию, остроту видения, которые помогают прийти к верному обобщению. Нои сама вспышка, какой бы неожиданной она ни казалась, возникает на почве предварительных накоплений знаний, наблюдений.
* * *
Эйзенштейн писал статьи в связи с конкретной производственно-педагогической или научно-творческой задачей — необходимостью разобраться в проделанной работе, составить программу для института, выдвинуть подсказанную практикой теоретическую проблему, откликнуться на последнее кинематографическое событие, наметить рабочую гипотезу, подлежащую проверке на съемочной площадке, за монтажным столом.
В своей теоретической работе, как и в творческой практике, Эйзенштейн, устремляясь вперед, писал и говорил о том, что будет.
Не всеми это признается правильным. На дискуссии о роли печати во время Международного кинофестиваля в Москве в 1959 году одним зарубежным критиком высказывалась иная точка зрения: критика, теория должны идти вслед за художественной практикой. Иначе — «подхлестывание» искусства!
Утверждение, что теория и критика идут лишь вслед художественной практике, часто служит оправданием их вялости, пассивности, равнодушия к интересам искусства. Встречаются авторы эстетических работ, которые ощущают себя не участниками общего дела, а судьями, оценивающими чужие прегрешения или успехи.
Куда как ближе нам пусть и прямолинейно выраженная, но понятная в устах художника мысль Леонардо да Винчи: «теория — капитан, практика — солдаты».
Я думаю, что леонардовский капитан повел бы себя, как командир из знаменитой сцены с картошкой в фильме «Чапаев»: он мог быть впереди колонны, в рядах или идти вслед за бойцами — в зависимости от обстановки и задачи.
(Впрочем, сама жизнь Леонардо да Винчи дает объяснение его формуле: он и художник и ученый; его пример — живой и для нас.)
Многие высказывания Эйзенштейна опережали время.
В наши дни дискутируется вопрос о «вариоэкране» — экране с изменяющимся масштабом, а в 1931 году Эйзенштейн выступает в США с блестящей речью, в которой предсказывает будущность новому явлению и говорит о реальных его возможностях («Динамический квадрат»).
Как только появились первые примитивные телевизоры, Эйзенштейн пишет о преимуществах этого зрелища, и с цитирования его мыслей не раз начинались в наши дни статьи об особенностях телевидения.
«Заявка» о звуковом кино была написана Эйзенштейном, Александровым и Пудовкиным в 1928 году (см. Приложения), то есть за три года до выхода нашей первой полнометражной «говорящей» звуковой художественной картины «Путевка в жизнь». В эти годы на Западе самым модным было писать о гибели — с появлением звука — кино как искусства. У нас раздавались такие же голоса. И на этот раз Эйзенштейн и его товарищи пошли против косности. И невооруженному глазу легко сейчас обнаружить упущения, пробелы в «Заявке». Но разве в этом ее суть? Суть — в смелом «взламывании» рутины, в творческом порыве художников, которые шли навстречу трудностям непонятого, еще не познанного искусства!
Внутренний монолог, «вертикальный монтаж», цветовое кино — все это эстетические проблемы современного для Эйзенштейна кинематографа и кинематографа будущих десятилетий.
12 Иные кинематографисты считали, что все эти броски в неизвестное — блажь Эйзенштейна, что его теоретические изыскания вряд ли нужны. Даже Сергей Васильев, ученик Эйзенштейна, один из создателей фильма «Чапаев», упрекнул учителя в том, что он теряет время в кабинете. В ответ на это учитель сказал ученику:
«… если я сижу и работаю в кабинете, то это для того, чтобы ты не терял времени в кабинетах, а мог бы и дальше делать столь замечательные картины, как твой “Чапаев”.
Известен разговор о “башне из слоновой кости”. И если уже говорить о слоновой кости, то позвольте мне поселиться не в башне, а считать, что я живу в одном из бивней, которыми нужно пробивать те темы, которые есть в кинематографии. … С этого момента я включаюсь на работу в два бивня — в производственный и теоретический».
Таковы некоторые психологические черты Эйзенштейна-ученого.
Каково содержание его теоретической работы, каков круг интересов Эйзенштейна-ученого?
Читатель, ознакомившись с публикациями второго и третьего томов, получит ответ на этот вопрос. Комментарии помогут ему составить представление об обстановке, в которой была написана та или иная работа, и о месте данного исследования в общей системе творчества режиссера. Здесь мы вкратце остановимся на некоторых общих вопросах, важных для ориентации в теоретическом наследии Эйзенштейна.
* * *
Творческий процесс — сложнейшее явление во всех искусствах, в том числе и кино. В этом процессе значительна роль индивидуального видения, склада характера, случайности.
На этом основании идеалистическая наука объявляет художественное творчество непознаваемым, объективные закономерности — немыслимыми. Например, по Бенедетто Кроче, искусство — воплощение первобытной наивности, охватывает лишь сферу чувств, воображения, но не связано с предметным миром самой действительности. Законы и искусство — понятия, по Кроче, взаимоисключающие. Американский литературовед Дж.-Э. Спингар, опираясь на Кроче, писал: «… мы покончили с жанрами или “родами”, с комическим, трагическим, возвышенным и целым сонмом туманных абстракций… со всякими рассуждениями об искусстве с позиций нравственности… с трактовкой искусства как некоей социальной или культурной категории» (цит. по кн.: К. Гильберт и Г. Кун, История эстетики, М., 1960, стр. 571).
Стихия нигилизма, культ подсознательного типичен для буржуазной эстетики в еще большей степени сейчас, чем во времена Эйзенштейна. Буржуазному субъективизму Эйзенштейн противопоставил марксистский метод научного познания объективных закономерностей в художественном творчестве.
Не ограничиваясь рамками кинематографа, Эйзенштейн анализирует общие черты, присущие разным искусствам, сопоставляя их с законами человеческого мышления, поведения. В наше время, когда существуют новые науки (кибернетика, биофизика, астроботаника и другие), когда возникают новые синтезы исследовательской мысли (например, лингвистика ищет связей с кибернетикой, математикой), надо особенно высоко оценить стремление Эйзенштейна разрушить перегородки, отделяющие кино от всех других областей художественного и научного творчества. В процессе исследования кино он также искал новые научные синтезы, глубокие обобщения.
В речи на Всесоюзном творческом совещании в 1935 году, где обсуждались актуальные проблемы развития советского киноискусства, Эйзенштейн делится с друзьями мыслью о двуединости произведений современного 13 искусства: «Воздействие произведения искусства строится на том, что в нем происходит одновременно двойственный процесс: стремительное прогрессивное вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в слои самого глубинного чувственного мышления. Полярное разведение этих двух линий устремления создает ту замечательную напряженность единства формы и содержания, которая отличает подлинные произведения» (стр. 120 – 121 настоящего тома). Эта мысль в свое время вызвала немало споров и опасений, в том числе и у автора этих строк: не рассматривает ли Эйзенштейн первобытное чувственное мышление как нечто неизменное, статическое? Не означает ли вознесение человечества к высшим идейным ступеням сознания также известного изменения и сферы чувственного восприятия?
Эйзенштейн внимательно прислушивался к тревожившим его оппонентов вопросам и возражениям, в ходе работы он видоизменял, совершенствовал первоначальные наброски, формулировки, чтобы достичь главной цели — глубже проанализировать природу, истоки творчества.
Он подчеркивал, что излагает не свой личный опыт, не направление поисков того или иного художника, а «забирается в вопросы природы явлений, то есть в область, в равной мере нужную любому жанру построений внутри нашего единого и общего стиля социалистического реализма» (стр. 123 настоящего тома).
Анализ исходных моментов, определяющих чувства и сознание, необходим для того, чтобы достичь еще большего совершенства киноискусства, классической гармонии содержания и формы и для того, чтобы отсечь чужеродное, ошибочное, наносное.
Анализ исходных моментов, определяющих взаимодействие и слияние в художественном произведении чувственного восприятия и логической основы, необходим был, по мысли Эйзенштейна, для того, чтобы достичь классической гармонии содержания и формы в современном советском киноискусстве:
«… при превалировании одного или другого элемента — произведение неполноценно. Упор в сторону тематически-логическую делает вещь сухой, логической, дидактической. Бесславной памяти “агитпропфильм” (Эйзенштейн имеет ввиду ряд скороспелых, примитивных, лишенных художественной убедительности картин, выходивших на экран в начале тридцатых годов. — И. В.) именно таков. Но и перегиб в сторону чувственных форм мышления с недоучетом тематически-логической направленности — столь же роковое явление для произведения: произведение обрекается на чувственный хаос, стихийность и бредовость. Только на “двуедином” взаимопроникновении этих направленностей держится подлинное напряжение, единство формы и содержания» (стр. 121 настоящего тома).
На этом примере видно, как эстетические проблемы увязывались Эйзенштейном с живой кинематографической повседневностью. Он восставал против «бредовости» идеалистического подхода к искусству, критиковал и конкретные недостатки, ошибки вульгаризаторского характера в практике наших киностудий, и оружием в этом ему служила теория.
Изучение общих закономерностей природы искусства обогащало теорию кино и одновременно преследовало творчески-практические цели.
Эйзенштейн намечает грандиозный план исследований по этапам: физическое движение (переживание) — движение сознания (образ и характер) — движение действия (драма), для того чтобы установить, как каждый из них и все вместе воплощают отражение социального конфликта и движение в противоречиях действительности в целом. (План этот частично воплощен в незавершенной работе «Монтаж», публикуемой в Приложениях.)
Эйзенштейн считал, что творческая молодежь должна не просто получить эмпирическую сумму знаний, приобрести профессиональные навыки, но постигать самую суть творческого процесса.
14 В лекции во ВГИКе (архив ВГИКа 14 169, стр. 31) он говорил о трех фазах каждого творческого акта.
Главная (срединная) фаза — это вдохновение, искра, вспышка. Вы внезапно ощущаете, говорил Эйзенштейн, то задание, которое перед вами возникает. Срединная фаза — это фаза ощущения.
В основе ощущения — мастерство мгновенного отбора решения. Творческое озарение, писал Эйзенштейн в «Программе преподавания теории и практики режиссуры», — «есть не более как сжатый в мгновенность процесс отбора решения, наиболее отвечающего данным частным условиям. Четкое осознавание этих определяющих условий и умение находить разрешение, им отвечающее, — суть основы техники режиссерского мастерства».
Фазе вспышки, озарения предшествует фаза приготовления, зарядки, воспитания себя, для того чтобы быть способным на эту внезапность реакции, на это непосредственное увидение и озарение. (На этой стадии, отмечает Эйзенштейн, огромное значение для кинематографистов имеет опыт Станиславского.)
Наконец, третья фаза — композиционное воплощение увиденного.
Это членения не механические. И здесь Эйзенштейна увлекала «подвижность метода, а не несгибаемость канона». Он стремился проанализировать рациональное и чувственное начало, определяющее быстроту реакции художника на внешние проявления, способность воспламениться, пережить состояние опьянения творчеством, психофизиологические основы вдохновения. Немало метких, новых, плодотворных наблюдений, связанных со второй фазой, разбросано по страницам произведений Эйзенштейна настоящего тома, в лекциях, прочитанных во ВГИКе, и в работах последних лет («Пафос», «Неравнодушная природа»). Но вторую фазу Эйзенштейн не изолирует от стадии «приготовления» художника. Эйзенштейн рассматривал эту проблему как огромный, многосторонний комплекс идеологического, психофизического, художественного, производственно-трудового воспитания, основанного прежде всего на активном участии мастера в преобразовании жизни, активном творческом познании действительности.
Эйзенштейн был яростным противником субъективизма, идеалистического, типично буржуазного противопоставления личности обществу. С другой стороны, Эйзенштейн был непримирим к вульгарному примитивизму, всяким попыткам низвести творчество к сумме упрощенных, рациональных признаков, лишенных образности.
Исследуя фазу воспитания, подготовки, Эйзенштейн, так же как и при анализе второй фазы, выяснял для себя объективные, закономерные основы творчества. Для этого необходимо было обращение к смежным наукам — к учению Павлова, к психологии, к биологии, к физике. Все новое, что появлялось в этой области, немедленно шло на вооружение исследователя. Например, говоря об экстазе, о «многоступенчатости» накопления чувств, настроенности, подготовляющих этот взлет — «выход из себя», Эйзенштейн на одной из лекций разбирает (разумеется, не сводя к примитивным аналогиям) вопрос о… сложных ракетах, способных полететь за пределы земной атмосферы.
Сейчас естественно говорить о «стыке» наук. Мы воочию убеждаемся, какие это приносит открытия в кибернетике, космическом ракетостроении, создании синтетических материалов, проникновении в тайны живой клетки. Необходимость такого сближения остро ощущал Эйзенштейн; он писал около двух десятилетий тому назад о том, что ранее непролазно противостоящие друг другу сферы принципов, которые лежат в основе физики и биологии, все более смыкаются.
Наблюдения, исследования Эйзенштейна, посвященные второй фазе творчества — «вспышке», необычайно интересны, они тревожат и толкают мысль вперед; но все же это только фрагменты, это как бы части грандиозного, но не завершенного архитектурного ансамбля.
15 Наибольшей полноты Эйзенштейн успел добиться в разработке третьей фазы — композиционного воплощения замысла. Здесь можно уже говорить об известной научной системе. Она включает теорию монтажа, изобразительное решение фильма, основы взаимодействия кино со смежными искусствами и литературой, процесс образования синтетического целого, то есть фильма. Таковы некоторые элементы теории творчества, которая разрабатывалась Эйзенштейном.
В соответствии с общей методологической установкой Эйзенштейн намечает контуры исследований, посвященных важнейшим проблемам киноискусства. Остановлюсь на некоторых из них.
Общая теория образности фильма — основа познания закономерностей жизни и выражения их в закономерностях произведений искусства и литературы. Эта теория охватывает композицию сценария, монтаж, проблему выразительного проявления (см. «Программу преподавания теории и практики режиссуры», цикл статей о монтаже).
Общая теория восприятия киноискусства: активность воздействия произведения киноискусства на аудиторию и активность участия зрительской аудитории в восприятии фильма, взаимодействие и слитность этих процессов. На первых порах, например в статье «Монтаж аттракционов», Эйзенштейн исключает образность из сферы взаимодействия. В этой статье находят отражение схематизм, безобразность, пропагандировавшиеся в литературе (журнал «Леф»), театре (ряд высказываний деятелей «левого театра»), изобразительном искусстве и т. д.
Но, читая работы разных лет, мы как бы сопереживаем с Эйзенштейном процесс поисков.
Меняется жизнь, ставятся новые конкретные задачи социалистического строительства, растет культура, молодые мастера обретают зрелость, уверенность, мастерство. Броские лозунги ранних статей-манифестов, не выдержав проверки временем, отпадают, исправляются ошибки. Приведу примеры. На первом этапе кинематографической работы Эйзенштейн склонен был в образности искусства видеть устаревший пережиток старой эпохи. В статье «Монтаж аттракционов» он опровергал образность с «аскетической абстрактностью» (как сам он это называл позднее).
«Мы требуем, — писал он в статье “ИА-28”, — непосредственно пространственного оформления сущности лозунга».
Это очень напоминает раннего Маяковского — его войну против «творчества» (Маяковский, кстати говоря, в кино одно время признавал только хронику, а художественные фильмы со свойственной ему решительностью отвергал).
Эйзенштейн в статье «Монтаж аттракционов» мечтал о прямом воздействии на аудиторию, о непосредственном, как в цирке, мюзик-холле или спортивном стадионе, «раздражителе» эмоций. В этом духе несколько позднее трактовалась на сцене театра Мейерхольда пьеса Вишневского «Последний решительный».
Во время одного из спектаклей театра Пролеткульта под кресла зрителей были заложены небольшие петарды. В определенный момент происходил легкий взрыв под сотнями кресел. Испуганные зрители вскакивали со своих мест: они таким образом активно «участвовали» в действии.
В спектакле Вишневского пулемет давал очередь холостыми патронами… прямо в публику. Тоже — «раздражитель»!
От «петард» впоследствии ушел Эйзенштейн, как ушел и Вишневский. В статье «Еще о строении вещей» Эйзенштейн вспоминает свои настроения до «Броненосца “Потемкин”», когда ему было двадцать шесть лет. В Москве У стены Страстного монастыря, на том месте, где сейчас стоит кинотеатр «Россия», висели яркие рекламы американских боевиков: «Робин Гуд», «Багдадский вор», «Серая тень», «Дом ненависти». Сергей Эйзенштейн задумывается: как перебороть эти гиганты американского киноразмаха? Ему 16 рисовалось это — ни больше, ни меньше — Прометеевой задачей, так как речь шла о противоположности идеологий классов. Ответ был найден в системе отрицаний: фильм без фабул, без «звезд», без драматических персон!
«В центре драмы двинуть массу» — такова положительная программа.
В этой живой зарисовке, сделанной Эйзенштейном, заключено психологическое объяснение противоречий, метаний кинематографической молодежи тех лет.
С одной стороны, искренний, справедливый, гневный протест против буржуазной киноэстетики, с другой — наивные противопоставления, творческие «загибы».
Но было ли «рациональное зерно» в путанице ранних поисков? Бесспорно — да. И одно из главных сформулировано выше:
«В центре драмы двинуть массу».
Именно это жизненное, живое направление получило свое развитие, отразилось в критической и теоретической кинолитературе и нашло воплощение в системе средств выразительности: новаторской съемке массовых сцен, небывалых в истории кино приемах композиции и т. д.
Партийная мысль освещала новый жизненный материал истории революции и современности и требовала новой художественной формы, новой кинематографической эстетики; ее и создавали самые глубокие и смелые представители советской кинематографической культуры.
Правда, «загибы» начала двадцатых годов давали еще себя иногда знать в работах Эйзенштейна и позднее — в некоторых формулировках «интеллектуального кино», в недооценке — до определенного момента — актера, индивидуального героя и т. д., но уже как угасающая, отмирающая инерция.
Начиная с тридцатых годов в теоретической и практической деятельности Эйзенштейна происходит качественный перелом: он целиком погружается в проблемы образности искусства, психологии человека на экране, воздействия фильма на сознание и подсознание зрителя, идейной, интеллектуальной полноты замысла и воплощения.
Пафос познания образности киноискусства — вот что типично для теоретической деятельности Эйзенштейна в тридцатые и сороковые годы. (Если его теперь упрекает критика, то скорее в усложненной трактовке образности — например, в «Вертикальном монтаже», — чем в ее недооценке.)
Для поздних работ Эйзенштейна, публикуемых во втором и третьем томах, характерна тесная взаимосвязь проблемы образного воплощения темы, монтажного решения с вопросом о восприятии фильма, о воздействии его на зрительские аудитории.
Раньше, в начале двадцатых годов, Эйзенштейн, заблуждаясь, полагал, что активность зрительского восприятия покупается дорогой ценой утраты образности. В тридцатые и сороковые годы он и в своей творческой практике и в теории проникает в глубинные слои чувственного мышления, в толщу образной структуры кинопроизведения, и на этой, более высокой основе вновь высоко поднимает значение зрительского соучастия в процессе формирования и воплощения замысла. Какую бы эстетическую проблему Эйзенштейн ни рассматривал, он стремится теперь понять ее значение во взаимосвязи с художественным восприятием произведения искусства.
Поучительно рассмотреть с этой точки зрения, например, статью «Монтаж 1938». Здесь он пишет:
«Сила монтажа в том, что в творческий процесс включаются эмоции и разум зрителя. Зрителя заставляют проделать тот же созидательный путь, который прошел автор, создавая образ. Зритель… переживает динамический процесс возникновения и становления образа так, как переживал это автор».
Приведя слова Маркса о методе исследования истины, Эйзенштейн продолжает размышления:
«… зритель втягивается в такой творческий акт, в котором его индивидуальность не только не порабощается индивидуальностью автора, но раскрывается 17 до конца в слиянии с авторским смыслом так, как сливается индивидуальность великого актера с индивидуальностью великого драматурга. Действительно, каждый зритель в соответствии со своей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фантазии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава и социальной принадлежности говорит образ по этим точно направляющим изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его к познанию и переживанию темы. Это тот же образ, что задуман и создан автором, но этот образ одновременно создан и собственным творческим актом зрителя» (стр. 171 настоящего тома).
Я прошу извинения за столь длинную выписку, но именно она дает представление о взглядах Эйзенштейна. Он нам предложил мысль как нельзя более важную для современного киноискусства и его теории. У нас одно время вопрос о восприятии зрителя теорией фактически не изучался. Это было проявлением догматических эстетических ошибок, существовавших до XX съезда КПСС. Интеллектуальные способности зрителя, согласно этим ошибочным установкам, недооценивались, эмоциональность его восприятия, его способность домысливать, восполнять воображением образный строй фильма часто не принимался во внимание. Такой подход поощрял схематизм, начетничество, штампы в искусстве — тенденцию, и сейчас далеко еще не изжитую в практике нашего кино, в своем существе глубоко чуждую социалистическому реализму.
На участок теоретического фронта, заброшенный нашей кинотеорией, устремились идеалисты и снобы. Они трактовали проблему восприятия с субъективистских позиций. Представители современного антиромана и антифильма договорились до отрицания объективного содержания фильма, идейной направленности в творчестве, характеров, драматургии. Каждый фильм, согласно их взглядам, — только внешний повод для зрительской импровизации. Абстракционистское толкование проблемы восприятия фильма смыкалось с абстракционистской творческой практикой.
Концепция восприятия фильма Эйзенштейна основывается на глубокой вере в талант, воображение, вкус, ценность социального опыта зрителя — народа. Но она утверждает приоритет содержания, образного пафоса произведения, решительно отвергает самую постановку вопроса субъективистско-идеалистической эстетикой, наталкивает художника на реалистическое познание мира.
Проблема синтеза искусства. Взгляд Эйзенштейна на эту проблему также претерпел эволюцию. В своих ранних произведениях он противопоставляет кино театру (см. статью «Два черепа Александра Македонского»), литературе. В его шутливом призыве — «товарищи писатели, не пишите сценариев» все же было заключено известное недоверие к литературе. Но следует особо подчеркнуть, что даже в те годы, когда Эйзенштейн пессимистически оценивал будущее театра, крайне суживал роль литературного сценария, он не разделял пролеткультовского нигилистического взгляда на художественное наследие, всегда оставаясь пламенным пропагандистом лучших достижений человеческой культуры и убежденным сторонником необходимости их творческого использования для развития молодого искусства кино.
В последующих работах, в частности в статьях «Диккенс, Гриффит и мы», «Вертикальный монтаж» и других, Эйзенштейн, не умаляя специфики киноискусства, анализирует своеобразие процесса взаимодействия различных искусств и творческой переработки их в процессе создания кинопроизведения — произведения нового типа.
В своей педагогической деятельности Эйзенштейн постоянно обращается к литературе. Еще в двадцатые годы он проводит занятия, посвященные исследованию романов Золя. В последующее время он исследует произведения Пушкина, Гоголя, Бальзака и советует студентам изучать их для освоения 18 режиссерского мастерства. В статье «Пушкин и кино» он призывает «учиться читать». Для чего?
«Научиться надо этому, чтобы писать: писателю — страницы литературного сценария; режиссеру — листы режиссерского сценария, или кадры своих предварительных набросков, или готовые образы на холсте экрана».
Говоря это, Эйзенштейн был далек от того, чтобы конструировать законы кино, исходя из законов литературы. Сопоставление кино с литературой, музыкой, живописью, театром было необходимо ему для познания общих тенденций, закономерностей художественного творчества и их проявления в практике создания фильмов.
Теория монтажа не только как форма связи, организации материала кинофильма, но и как способ познания действительности, мышления современного художника. Настоящий том дает большой материал читателю для прослеживания в хронологической последовательности огромной работы, проделанной Эйзенштейном по исследованию этой проблемы.
В ранних работах Эйзенштейном противопоставлялось содержание одного кадра их сочетанию в пользу последних, в ущерб первому. Подчеркивалась конфликтная связь между кадрами, их смысловые и ритмические столкновения, но приглушалось значение предметно-сюжетных связей, последовательности монтажной организации материала, что приводило иногда к неоправданной усложненности, а иногда и к изыску.
Статьи настоящего тома «Монтаж аттракционов», «Бела забывает ножницы», «За кадром», «Перспективы», «Четвертое измерение в кино», «Монтаж 1938», «Вертикальный монтаж», впервые публикуемый незавершенный труд «Монтаж» дают отчетливое представление о последовательном освоении Эйзенштейном вопросов монтажа, подсказанных практикой.
В статье «Четвертое измерение в кино» дана характеристика разных форм монтажа — метрического, ритмического, тонального и обертонного.
В более поздних работах он говорит о монтаже горизонтальном и вертикальном, то есть охватывающем как зримое действие кинопроизведения, так и сочетание звука, изображения, цвета в определенном единстве, выдвигает понятие «хромофонного» монтажа (см. статью «Вертикальный монтаж»), основанного на закономерных сочетаниях изображения не только со звуком, но и с цветом.
Сама эволюция киноискусства давала исследователю материал для обобщений. Они охватывали не только выразительные средства, видоизменявшие монтажный строй фильма, но прежде всего содержание искусства. В самой общей форме можно говорить о двух основных этапах разработки Эйзенштейном своей монтажной теории. На первом этапе его больше всего увлекает пафос изображения революционных событий, революционных взрывов, массовых движений, поддержанных и возглавлявшихся партией большевиков. Это были картины народных битв с врагом — царским самодержавием («Стачка», «Броненосец “Потемкин”», «Октябрь»). Перед зрителем представала не безликая масса, но коллектив людей действующих, охваченных революционной страстью, мыслью, великой целью. Но в центре фильма было событие. Постепенно индивидуальная характеристика героя начинала все больше занимать Эйзенштейна. Уже в фильме «Старое и новое» он внимательно прослеживает поступки, жизнь одного героя — Марфы Лапкиной. В более поздних, относящихся к тридцатым годам, неосуществленных замыслах — плане сценария «Американская трагедия» по Драйзеру, в неоконченном фильме «Да здравствует Мексика!», особенно в материале картины о современности «Бежин луг» Эйзенштейн все большее место уделяет индивидуальной характеристике человека как средоточия, как воплощения исторических классовых движений и конфликтов данной страны, эпохи.
Свое наиболее полное выражение эта тенденция нашла в историко-биографических произведениях «Александр Невский» и «Иван Грозный». В этих 19 картинах режиссер изображал эпоху через человека, рассматривая его и как неповторимую индивидуальность и как олицетворение пафоса времени. В личной судьбе он искал отражения исторических столкновений классов, стран, поколений.
Усложнившееся содержание потребовало иных выразительных средств, более емких, способных передать в синтезе и полутона внутреннего состояния персонажа и повороты в судьбах, изменения в соотношении борющихся гигантских социальных, национальных, государственных сил. Одним из важнейших теоретических обоснований этих новых задач и явились статьи о монтаже, публикуемые в настоящем томе. В первой статье «Вертикального монтажа» Эйзенштейн пишет, например, о природе звукозрительного феномена: «как и всегда, неисчерпаемым кладезем опыта останется и остается человек».
Теория звукозрительного образа, вертикального и горизонтального монтажа в соединении с другими научными изысканиями Эйзенштейна в области драматургии, выразительного проявления человека и т. д. служили своеобразным обобщением личного творческого опыта режиссера и обоснованием для открытий, имеющих общекинематографическое и общеэстетическое значение.
Надо обратить внимание читателя и еще на одну сторону эволюции монтажной теории Эйзенштейна. Если пафос его ранних статей заключался скорее в обособлении кино от театра, литературы, в выявлении скрытых неповторимых особенностей фильма, то пафос последующих исследований в ином — в творческом освоении смежных искусств и литературы, в поисках их общности, диалектического единства, закономерного для искусства социалистического реализма — искусства жизнелюбивого, могучего, народного, способного не только подарить человечеству новое Возрождение, но и небывало превзойти его вершинные достижения. На всех этапах разработки монтажной теории Эйзенштейн выходил за рамки кинематографа. Читатель обнаружит в публикуемых трудах трактовку монтажа как разновидности мышления в искусстве, литературе, науке.
Монтаж для Эйзенштейна — это как бы композиция в широком смысле этого слова, и поэтому в универсальности применения термина «монтаж» нет ничего одиозного. «Пушкин и кино», «Золя и кино», «Серов и кино» — эти сопоставления воспринимались когда-то как эксцентрика, проявление парадоксальности мышления Эйзенштейна. Теперь это никому не кажется странным, ибо речь идет, строго говоря, о самых глубоких и общих принципах композиции, об освоении кинематографом художественного опыта реалистической классики.
Для подтверждения этой мысли приведем выдержку из третьей статьи «Вертикального монтажа»:
«Искусство пластической композиции в том и состоит, чтобы вести внимание зрителя тем именно путем, с той именно последовательностью, которые автор предпишет глазу зрителя двигаться по полотну картины (или по плоскости экрана)». Речь идет, судя по содержанию, о монтаже, но применяется термин «композиция».
Обращение к проблемам, общим для кино и других искусств и науки, стремление выявлять закономерности мышления обогащало эстетику, вплотную подводило Эйзенштейна к обобщениям, плодотворным и для художника и для ученого. В то же время это помогало режиссеру находить новый угон зрения — новый подход к собственным задачам. Эту сторону поисков Эйзенштейна характеризует его теория интеллектуального кино. Она родилась во время съемок фильма «Октябрь», когда Эйзенштейн монтировал кадры с богами.
Смонтировав в монтажной последовательности изображения богов всех веков и вероисповеданий, создав таким образом кинематографическое обличение религии, Эйзенштейн пришел к выводу о возможности экранизации 20 абстрактных понятий, о создании интеллектуального кино. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы в уста героев фильма вкладывать философские размышления, а о том, чтобы самой монтажной организацией определенным образом снятого материала передавать ход мысли автора сценария и режиссера.
Под впечатлением неожиданного для него самого монтажа кадров с богами Эйзенштейн приходит к далеко идущим выводам, к теории интеллектуального кино.
В чем ее смысл?
В преодолении дуализма между рациональным и чувственным началом в искусстве и вообще в жизни человека.
Эйзенштейн в статье «Перспективы» (как впоследствии в упоминавшемся выше докладе на Всесоюзном творческом совещании 1935 года) отмечал, что в эпоху социалистического строительства предстоит взорвать китайскую стену между антитезой «языка и логики» и «языка образов».
Всю свою жизнь он страстно, неутомимо бился над этой проблемой, он хотел достичь гармонии чувства и логики, непосредственности восприятия мира и глубинности идейно-логических выводов.
Достигнув в «Броненосце “Потемкин”» классического единства мысли и чувства, содержания и формы, он как будто бы мог успокоиться: искомое найдено! Но единство, найденное в «Броненосце “Потемкин”», — не трафарет, «накладываемый» на содержание фильма. Каждый шаг искусства вперед требовал новых синтезов, новых решений. Однажды в шутку, озорно Эйзенштейн сказал: «Умри я после “Броненосца "Потемкин"”, меня причислили бы к лику святых».
В действительности ему, конечно же, не нужно было никакой «святости». Он был создан для бесстрашного познания неизведанных путей в творчестве. Он мог бы произнести знаменитую пушкинскую строку: «Есть упоение в бою!»
Глубоким рейдом по «тылам» неизведанных возможностей кино и была теория интеллектуального кино. Эйзенштейн хотел экранизировать понятия, идеологические дебаты. По его предположению, интеллектуальное кино должно решать тематику такого рода: «диалектический метод», «тактика большевизма»; он подчеркивал: именно «тактика большевизма», а не «Октябрьский переворот» или «пятый год». Таким путем Эйзенштейн хотел решать задачу «нерушимого внедрения коммунистической идеологии в миллионы» (см. «Перспективы», стр. 44).
Эпизоды из «Старого и нового» (например, крестный ход, сепаратор в действии — анализ см. в третьем томе, в разделе «Пафос»), а также наброски из неосуществленных замыслов Эйзенштейна представляли собой лабораторное воплощение теоретической формулы. Однако в своей кинематографической практике Эйзенштейну не удалось реализовать теорию интеллектуального кино. Почему? Потому прежде всего, что он противопоставлял понятию образ человека. (Правда, он это делал, полемизируя с упрощенным ошибочным пониманием героя, выраженного в рапповской теории «живого человека». Но, воюя с «живым человеком», Эйзенштейн вместе с водой выплеснул и ребенка.)
Восстав против дуализма, он как бы его… утверждал! Оттеснив на второй план художественный анализ человека, его поступков, жизни, режиссер оказался во власти рационального. В данном случае теоретическая гипотеза вносила в процесс творчества глубочайший внутренний конфликт между эмоциональным и логическим началом.
Вспоминая впоследствии о работе над фильмом «Октябрь», о монтаже кадров с богами и о теории интеллектуального кино, Эйзенштейн с юмором писал в «Автобиографических записках»:
«Но боги покарали своего обидчика, наслав на него временное помрачнение разума».
21 И все же: помрачнение ли? Не обнаружило ли время светлые, обнадеживающие стороны в давних изысканиях Эйзенштейна?
В своих сценариях и фильмах тридцатых и сороковых годов Эйзенштейн использовал некоторые наблюдения, опыты, связанные с интеллектуальным кино, для того чтобы глубже исследовать действительность и передать ее на экране в форме эмоционального, взволнованного драматического повествования. Патетика мысли, которой захвачен был Эйзенштейн, в той или иной мере отразилась на самостоятельных поисках Вертова, Пудовкина, Юткевича, Ромма и других мастеров кино.
Но это — проявление отраженного, косвенного влияния поисков Эйзенштейна, что не снимает основного вопроса, поставленного им: возможна ли на экране передача понятий, научных истин, процесса формирования мысли.
Бурное развитие научного и научно-популярного кино, поиски документалистов подтвердили жизненность мечты Эйзенштейна. Экран способен не только показывать, но, показывая, и «размышлять», сопоставлять, передавать обобщенные понятия. Стремление к раскрытию на экране хода размышлений героя — характерная черта и для художественной кинематографии наших дней. Мы имеем в виду не внешние признаки (скажем, введение дикторского текста, монолога персонажа), а широкое обогащение кино современными проблемами, волнующими человечество, выраженными творчески — в системе кинообразов. В этих поисках новаторские открытия Эйзенштейна, в том числе и элементы теории интеллектуального кино, очищенные от искусственных наслоений, — с нами.
Проблемы драматургии кино. В немом кино сценарий только складывался как самостоятельная область творчества. Многие рассматривали сценарий лишь как толчок, эмоциональный образ будущего фильма, «стенограмму эмоционального порыва» (термин Эйзенштейна).
Звуковое кино изменило характер сценария, и это раньше других понял Эйзенштейн. Его теория «внутреннего монолога», «контрапункта», взаимосвязи литературы и кино, творческий анализ Золя, Пушкина, Драйзера, Бальзака, Гоголя, советских писателей — Вс. Вишневского, И. Бабеля, В. Некрасова, открыли перед киноискусством огромный мир возможностей — сложную, умную, глубокую, реалистически осмысленную драматургию.
Некоторые кинематографисты помнят пресловутую «стенограмму эмоционального порыва», но не изучают должным образом подлинно современного Эйзенштейна, устремленного к нам.
Характерно, что в статье «“Э!” О чистоте киноязыка» Эйзенштейн пишет о сюжете, остроумно отмечая: не назад, а «вперед к сюжету», то есть призывает к новым композиционным поискам.
В противоположность этому отдельные кинематографисты, особенно на Западе, склонны видеть в отказе от сюжета новизну кино. Обратимся по этому поводу к Эйзенштейну. Ему довелось раньше, чем нам, прочитать Уильяма Сарояна. Приведя слова Шервуда Андерсона о том, что «нужна не интрига, а форма — вещь гораздо менее уловимая и доступная», Эйзенштейн пишет:
«Со времени Ш. Андерсона американская литература далеко двинулась вперед по этому пути, во многом предначертанному его рассказами: такие великолепные в своем очаровании вещи, как “Человеческая комедия” Сарояна (роман и фильм), целиком свободны не только от интриги, но, пожалуй, даже от нормально развивающегося сюжета: они кажутся свободно нанизанными друг за другом, независимыми эпизодами — часто без начала и конца; на самом же деле они представляют собой тончайше сплетенную ткань единой тематической картины, которую так же строго сдерживает единая внутренняя система лирических лейтмотивов, как держат в едином напряжении пьесу Скриба или детективный роман — внешние перипетии головокружительной 22 интриги» («Неравнодушная природа», подчеркнуто мною. — И. В.)
Далее Эйзенштейн приводит следующее высказывание Мопассана из предисловия к роману «Пьер и Жан», как бы продолжающее изложенную мысль: «… Понятно, что подобная манера композиции, столь отличная от старого наглядного метода, доступного каждому глазу, часто сбивает с толку критиков и что они часто не обнаруживают всех тончайших нитей, засекреченных и часто незримых, которыми пользуются некоторые из современных писателей взамен прежней единственной нити, имя которой: “интрига”» (там же).
Какая это прекрасная отповедь современным апологетам бессюжетности!
Эйзенштейн ждал от сценариста такой же одержимости жизненной задачей и такого же знания кинематографа, как и от режиссера. Он хотел, чтобы сценарий можно было трактовать, постигать, как приходится постигать пьесу Шекспира.
На «Мосфильме» однажды произошел характерный случай. Сценарист А. принес свое недоношенное творение. Эйзенштейн (он в то время был художественным руководителем студии) по этому поводу сказал:
— Прежде чем Толстой дал читать в журналы «Анну Каренину», у него накопился ящик черновиков и вариантов. Работа А. даже в ящик черновиков еще не могла попасть, а он ее предлагает читать. Существуют известные лекарства «606» и «914». Почему 606 и 914? Да потому, что до этого было сделано 605 и 913 экспериментов. Автомобиль ЗИС называется «101» потому, наверное что до этого было сто проб, опытов. А у сценаристов что вышло из-под пера — готовая работа. Им надо пробовать, искать, экспериментировать…
* * *
В заключение краткого разбора некоторых сторон теоретического наследия Эйзенштейна хотелось бы поделиться с читателем личными воспоминаниями о темпераменте, индивидуальном складе характера художника, исследовавшего законы искусства.
Начну с одного памятного эпизода.
… 9 февраля 1948 года. Поздний вечер.
Телефонный звонок.
— Вы не могли бы зайти ко мне сейчас?
Поднимаюсь в квартиру Сергея Михайловича (мы жили в одном доме на Потылихе, возле киностудии «Мосфильм»). Встречает:
— Хочу похвастаться: сегодня приходили вручать мне медаль в память 800-летия Москвы. Был этакий эскиз банкета. Жаль, я не пью.
Говорю о другом празднестве — вечере в честь 50-летия Эйзенштейна, который неоднократно откладывался юбиляром.
— Отложили на две недели. Будет вечер памяти Эйзенштейна, — улыбаясь говорит Сергей Михайлович. — Пора умирать! По кардиограмме видно. Уже подготовил литературное наследство — могу сдавать. — Он улыбается и встает с кресла.
Эйзенштейн действительно знал, что после тягчайшего инфаркта сердца смерть приближалась, хотя он и продолжал читать книги, писать, общаться с друзьями.
Но именно в эти дни с поразительной остротой и отчетливостью проявлялся темперамент, жизнелюбие Эйзенштейна.
Продолжая разговор, он отодвигает дверцу шкафа в небольшой комнате. Там только рукописи.
— Вот здесь проблема цвета, здесь — история крупного плана, мемуары, теория режиссуры «Неравнодушная природа», Гоголь, Пушкин… И самое 23 неотложное — «Иван Грозный». По «Грозному» работа серьезная, но ее не так много — доснять несколько крупных сцен, перемонтировать. План по «Грозному» готов. Утверждать сценарий не нужно. Но как я смогу выйти на съемочную площадку? Палящее солнце — нет, это не по мне…
… Так с чего же начать? С картины? С цвета? Режиссуры? С Гоголя? Пушкина? Вот смотрите — Пушкин.
Эйзенштейн показывает на стопку книг, лежащих на маленьком столике, и продолжает говорить о своеобразии творческого пути поэта. Наблюдения его ярки, неожиданные выводы ведут мысль в глубь гениальных замыслов Пушкина. Эйзенштейн анализирует закономерности творчества, рассматривает те или иные стилевые признаки как выражение метода художника, его идейно-тематической задачи.
— … Читаю Гоголя… Неновая проблема — взаимоотношения Пушкина и Гоголя. Известна их дружба: Пушкин отдал Гоголю сюжет «Мертвых душ», «Ревизора». Ему они не были нужны: они не связаны с центральной пушкинской темой.
Дальше Эйзенштейн говорит о центральной теме творчества Чаплина и ее воплощении в «Мсье Верду». После паузы продолжает:
— Или цвет. Ведь дело, по-моему, теперь ясное. Принцип тот же, что и в нашей заявке — моей, Александрова и Пудовкина — о звуковом кино. Грубо говоря, скрип сапога, изображенного в кадре, это еще не искусство. Образ начинается там, где он не совпадает с естественной окраской. Я, как мне кажется, нашел принцип решения самой трудной проблемы цветного кино — зеленого. Зеленая ли трава? Зеленая. Но это «химически» чистый цвет. В действительности нельзя абстрагировать цвет травы от цвета неба. Без цвета обстановки, всего лежащего рядом нельзя составить верного представления о цвете данного предмета. «Зелени» травы без голубизны неба не существует. Природа смешивает краски. Придайте цвету травы отражение голубизны неба — и вы получите верный цвет, который не совпадает с естественной окраской, но является единственным настоящим. Я это докажу практически. Нет, не докажу, — смеется Сергей Михайлович, — ничего не поделаешь, помирать приходится.
(Проблема цвета, как я потом узнал, подробно и блестяще разрабатывалась в статье, которая лежала на столе Эйзенштейна в день его смерти.)
Сергей Михайлович говорит то увлеченно, размышляя, а не вспоминая знакомые формулы, то, неожиданно меняя тему, — с легкой иронией, особенно когда это касалось его болезни. Он часто вставал с места, подходил к столу, книжным полкам, брал книгу или выписку и снова усаживался в кресло. Движения его были легки, быстры, как будто смертельная сердечная болезнь навсегда оставила его.
Но она не оставила его.
Через день, в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года, Сергей Михайлович умер. Разговор поздним вечером 9 февраля 1948 года был моим последним разговором с Эйзенштейном. Я привожу его потому, что он напоминает нам о настроениях, планах художника в последние часы жизни, когда он как бы отдавал себе отчет в прожитом и совершенном, размышлял о том, что начато или не завершено. Эйзенштейна занимал «Иван Грозный», он намечал план завершения трилогии… Литература, ее закономерности, философия, биографии художников, структура сюжета, психология творчества, настоящее и будущее киноискусства мира. Его интересовало в искусстве все — общие законы, связи с современной действительностью, историей, культурными традициями, с техникой, наукой.
Все сливалось: работа над сценариями и фильмами, их теоретический анализ, который в свою очередь давал новый толчок творческой мысли, помогал ей глубже проникать в социальный смысл событий, в психологию людей разных классов и эпох.
24 … Снова я в квартире Сергея Михайловича. О нем говорят только вещи, рисунки, портреты, книги…
Книги… С полным правом мог бы Эйзенштейн вслед за Марксом на вопрос — какое занятие его любимое, ответить:
— Рыться в книгах…
Однажды перебирая книги в букинистическом магазине, Эйзенштейн сказал мне о громадной библиотеке одного театроведа, вероятно, одном из крупнейших частных книжных собраний Москвы:
— Это склад, а не библиотека. Книги не живут, они хранятся на полке…
Книги библиотеки Эйзенштейна отраженно передавали характер их владельца, круг его духовных интересов, если хотите — даже темперамент.
Прямо на подоконнике и встроенной полке около письменного стола — сочинения классиков марксизма. На маленьких столиках — стопки книг Гоголя, Пушкина, материалы по фильму «Броненосец “Потемкин”».
Закладки, пометки на полях.
На полках его библиотеки сталкивались эпохи, мировоззрения, художественные стили, высокое вдохновение поэзии и строгая точность словарей, легковесность детектива и достоверность мемуаров; сталкивались языки, наречия. Соседствовали литературы Востока и Запада, культуры и искусства эпох, психология и история религии, естествознание и техника. Сопоставлялись сатира и юмор со словарем арго; монографии о выдающихся деятелях, биографические романы — со всеобщей историей стран мира; книги о кино с исследованиями о Мексике, Китае, Америке, Японии; история живописи, театра, скульптуры, архитектуры — с историей дипломатии; языкознание — с рассказами о судебных процессах; романы, новеллы, стихи на русском, французском, английском, немецком, испанском, китайском, японском языках — с философскими трактатами.
Рядом примостились… оккультные науки и руководства по графологии (как они точно использованы, покажет читателю, например, «Неравнодушная природа» в третьем томе настоящего издания). Древнейшая антикварная книга мирно соседствовала с последним изданием Госполитиздата.
Особое место занимали издания, посвященные культуре и искусству первобытных народов. Эйзенштейн искал и находил в «пралогике» первичные и непреходящие элементы, влияющие на формирование художественного мышления. Сопоставления казались столь же неожиданными, сколь условными. Но Сергей Михайлович захватывал многих, в том числе и несогласных с ним, своей увлеченностью, своеобразным творческим азартом.
Однажды Всеволод Пудовкин попросил у меня книгу Герберта Кюна о первобытном искусстве. Как бы объясняя эту просьбу, он сказал:
— Как то Сергей Михайлович спросил меня: «Вы интересуетесь первобытным искусством?» И, услышав отрицательный ответ, смеясь добавил: «Ничего, придет время, начнете интересоваться». Он оказался прав…
Но вернемся к библиотеке Эйзенштейна.
Его великое мастерство монтажа проявилось в подборе, размещении книг по бесчисленным полкам и полочкам. Они не нависали тяжелым пыльным грузом, не подавляли человека, не превращали его в придаток к частоколу стеллажей.
Книг много, очень много, но создавалось впечатление, что их мало; они, подобно обстрелянным солдатам в укрытии, казалось, всегда ждали приказа своего умного командира. (Кстати, они и сейчас хорошо послужили Эйзенштейну: при подготовке настоящего издания «Избранных произведений» его книги раскрыли свои страницы перед комментаторами и текстологами, чтобы дать справку, помочь сверить цитату, найти объяснение сложной формуле, проверить тексты на иностранных языках.)
25 Бесконечно разнообразная, разноязычная библиотека Эйзенштейна составляла гармоническое целое. В ней была доминанта, определявшая все. Это — сам Эйзенштейн, русский советский художник, убежденный марксист, новатор в высоком, истинном значении этого слова.
* * *
Материал тома дает возможность проследить эволюцию взглядов Эйзенштейна на киноискусство, монтаж, драматургию — по всему фронту киноэстетических проблем.
В данный том включены не только работы с отчеканенными и проверенными выводами, но и ранние произведения Эйзенштейна, такие, в которых художник, исследуя законы киноэстетики, не находит еще верных оценок той или иной творческой проблемы. Благодаря этому мы как бы видим Эйзенштейна в пути — в росте, в поступательном движении.
Эйзенштейн был — это хорошо известно — яростным врагом буржуазного строя, и в борьбе с ним не допускал никаких компромиссов. С первого дня Октябрьской революции он на стороне Советской власти, в рядах Красной Армии. Его индивидуальное «я» перевоплощается в революционное «мы», и все, что напоминало осужденные историей традиции дооктябрьского прошлого, решительно им отбрасывается. Он дышит чистым, вдохновляющим художника воздухом революции, ленинских идей.
В чем источник трудностей и противоречий, которые испытывал Эйзенштейн, встречающихся и в публикуемых исследованиях?
Они, по-видимому, связаны с его ощущением и пониманием творческой задачи советского художника как Прометеевой. Первооткрыватель, он не всегда сразу находил единственно верное решение, отвечающее требованиям времени, его собственным представлениям о совершенстве кинематографического воплощения нового содержания, о глубине и плодотворности научного анализа вопросов эстетики.
Основная тенденция в развитии теоретических взглядов Эйзенштейна, неразрывна с постепенным расширением его творческого опыта и, следовательно, художественного освоения реальной действительности, с процессом органического овладения научным мировоззрением — методом марксистско-ленинского анализа явлений жизни и искусства.
Мы решительно отвергаем клеветнические утверждения некоторых буржуазных историков кино, старающихся оторвать Эйзенштейна от революции, представить его изолированным и одиноким.
Эйзенштейн вырос с Октябрьской революцией, принадлежит ей, и его творчество развернулось только благодаря тому, что он работал в условиях социалистической действительности, о чем он сам свидетельствовал неустанно и вдохновенно во всех своих фильмах и теоретических статьях.
Именно слитность художника с революцией, партией, народом обусловила мощный, поразивший мир, расцвет его дарования. Эта слитность, послужившая источником художественного и научного творчества Эйзенштейна, дала ему силы и для преодоления трудностей и сложностей в его творческой биографии, которые вызваны были ошибочными установками Сталина в искусстве.
В результате последовательного ознакомления с работами Эйзенштейна перед читателем должен возникнуть образ художника-ученого, который творчески преодолевал противоречие между возможностями отдельного человека, даже такой гениальной одаренности, как Эйзенштейн, и грандиозным масштабом увлекательнейших задач, выдвинутых Октябрьской революцией перед советским искусством и его мастерами.
В связи с публикацией теоретического наследия Эйзенштейна возникает еще один вопрос: в какой степени оно принадлежит нашему времени? Не изленился 26 ли язык кино настолько, что надо зачеркнуть киноэстетику сравнительно недавнего прошлого?
Один современный французский критик, говоря о языке нового французского и итальянского кино, приходит к негативному выводу: «кино Эйзенштейна… сегодня отброшено». Некоторые критики на Западе «отбрасывают» Эйзенштейна, так как он является воплощением идейности, осознанной революционной тенденциозности в искусстве. Ему они противопоставляют столь же многозначительный, сколь фальшивый и жалкий объективизм с его слепым преклонением перед буржуазной действительностью. Жизнь отбрасывает эти предвзятости, эти искажения истины.
Сохранились, живы эстетические идеи реалистического киноискусства; они разработаны советскими мастерами, среди которых почетное место принадлежит Эйзенштейну. В его трудах содержатся материалы, гипотезы, теоретические выводы, написанные как будто сегодня.
Восприимчивость ко всему новому, обнадеживающему, хотя пока и не проверенному практикой, — характерная черта Эйзенштейна. Ученый поразительной эрудиции, знаток культуры и искусства прошлого, он жил социалистическим настоящим и всеми своими помыслами обращен был в коммунистическое будущее, в наши дни.
В этом источник его современности.
27 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1923 – 1940
29 ОТ АВТОРА*
Кино, конечно, наиболее интернациональное из искусств.
И не только потому, что вокруг земного шара по самым разнообразным странам прокатываются фильмы производства разных стран.
Но прежде всего потому, что именно в кино, с его все обогащающимися возможностями техники и все развивающейся творческой изобретательностью, самой практикой установлен очень живой международный контакт творческой мысли.
Но все же я считаю, что за первое полстолетие из бездонного кладезя возможностей кинематографа реализованы лишь крохи.
Не поймите меня превратно.
Вопрос идет не о сделанном — сделано так много прекрасного! В смысле содержания на первом месте, конечно, безудержный поток новых идей и новых идеалов, которые струили с экрана новые социальные идеи и новые социалистические идеалы победоносной Октябрьской революции.
Вопрос идет о том, что могло быть сделано, и при этом сделано только кинематографом.
О том специфическом и неповторимом, что только средствами кинематографа можно сотворить и создать.
Не до конца еще решена проблема синтеза искусств, которые стремятся к своему полному и органическому слиянию в лоне кинематографа.
А между тем на нас уже наступают все новые и новые проблемы.
Мы только что окончательно овладели техникой цвета, как перед нами уже стоят новые проблемы объема и пространства, которые обрушивает выходящее из пеленок стереокино.
30 И вот перед нами как реальность стоит живая жизнь в чуде телевидения, уже готовая взорвать еще не до конца освоенное и осознанное опытом немого и звукового кинематографа.
Там монтаж, например, был лишь более или менее совершенным следом реального хода восприятия событий в творческом преломлении сквозь сознание и чувства художника.
А здесь он станет самым непосредственным ходом в момент свершения этого процесса.
Произойдет поразительный стык двух крайностей.
И первое звено в цепи развивающихся форм лицедейства — актер-лицедей, в непосредственности переживания передающий зрителю содержание своих мыслей и чувств, протянет руку носителю высших форм будущего лицедейства — киномагу телевидения, который, быстрый, как бросок глаза или вспышка мысли, будет, жонглируя размерами объективов и точками кинокамер, прямо и непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей свою художественную интерпретацию события в неповторимый момент самого свершения его, в момент первой и бесконечно волнующей встречи с ним.
Разве это не вероятно?
Разве это не возможно?
Разве это не осуществимо в эпоху, которая посредством радара уже подслушивает полет эхо с Луны и посылает самолеты со скоростью [звука] за пределы голубого купола нашей атмосферы?
И как ничтожно мало сделала пока эстетическая наука в овладении средствами и возможностями кино!
Об этом нужно говорить и твердить неустанно. Ибо здесь не только неумение или недостаток порыва.
Здесь часто поражает консерватизм, косность, своеобразный эстетический «эскапизм» перед лицом новых и небывалых проблем, которые ставят перед нами обгоняющие друг друга новые этапы технического развития кинематографа.
Не надо бояться наступления этой новой эры.
Еще меньше — смеяться ей в лицо, как смеются дикари при виде зубной щетки или смеялись наши предки, забрасывая комьями грязи первые зонтики.
Надо готовить место в сознании для исхода новых тем и новых явлений техники, которые потребуют новой, небывалой эстетики.
И наша задача неутомимо собирать и суммировать весь опыт пройденных и проходимых эпох, чтобы во всеоружии этого опыта встречаться с этапами новыми и бесконечно увлекательными и победоносно покорять их, неизменно при этом помня о том, что подлинной основой эстетики и полноценным владением новой техникой есть, будет и навсегда останется глубокая идейность темы и содержания, для которых все более совершенные средства 31 выражения будут лишь средствами воплощения возвышенных форм мировоззрения — возвышенных идей коммунизма.
В разгар войны мечталось о том, что с наступлением мира победоносное человечество устремит освобожденную свою энергию на творчество новых культурных ценностей, на новый подъем культуры.
Долгожданный мир наступил.
И что же мы видим?
Обезумевшие атомщики, опьяненные опасной игрушкой чудодейственной разрушительной силы, уходят все дальше и дальше от идеалов мира и единства, все ближе и ближе к тому, чтобы вызвать к жизни образ милитаризма в еще более страшных формах, чем только что поверженный идол фашистского человеконенавистничества и мракобесия.
Советский Союз и лучшая, передовая часть мыслящего человечества зовут к подлинно демократическому мировому и международному сотрудничеству.
Злая воля противников мира всеми силами пытается навязать человечеству новую бойню, новые войны, новое человеко- и братоубийство.
И именно поэтому, как никогда прежде интенсивно, народы должны добиваться взаимного понимания и единства.
Кинематограф уже имеет позади себя пятьдесят лет международного творчески прогрессивного сотрудничества. Перед ним своя громадная и сложная стихия возможностей, которыми надо овладеть не менее, чем человечеству в целом надо овладеть благотворной стороной открытий атомной эры новой физики.
Беспрестанная забота о том, чтобы не пропадала малейшая крупица коллективного опыта, настойчивая требовательность к тому, чтобы каждый проблеск мысли в области кинотворчества становился достоянием всех творящих в кино, с самых первых дней существования нашего советского кино заставляли нас, советских киномастеров, не только в фильмах, но и в статьях и исследованиях широко и подробно разворачивать картину того, что мы ищем, того, что мы находим, того, к чему мы стремимся.
Так рождались и мои статьи.
И сейчас, собирая между крышками переплета одного сборника написанное в разное время, по разному поводу, в разные годы, я обуреваем теми же чувствами: помочь личным вкладом окончательному победоносному штурму кинематографистов за овладение всеми возможностями кино. Этими чувствами должен гореть всякий, имеющий счастье творить в этой неповторимо прекрасной и беспрецедентно увлекательной области.
И не в пример тем, кто ревностно таит за семью печатями атомные «тайны», мы, советские кинематографисты, неизменно и упорно сотрудничая со всеми демократическими друзьями, будем выносить 32 на благо общего дела все то, что с годами практики мы узнаем из тайн нашего удивительного искусства.
Идея всеобщего и неделимого мира не может оказаться задушенной себялюбием и эгоизмом отдельных стран и государств, готовых попрать всеобщее благополучие во имя собственной алчности.
Наиболее передовое из искусств — кино — должно оказаться наиболее передовым и в этой борьбе. Пусть укажет оно народам путь солидарности и единодушия, которым двигаться и идти.
С этими чувствами я подготовлял собрание разных по времени и месту написания материалов.
Многое, быть может, устарело. Многое преодолено. Многое превзойдено.
Многое может иметь интерес исторический, как вехи на пути общего движения в самые горячие годы кинематографических исканий.
А все вместе взятое, надеюсь, найдет свое место в качестве одной из ступеней лестницы коллективного опыта кинематографии, по которой, вопреки и наперекор всем тем, кто хочет тянуть человечество назад, в хаос раздора и взаимного порабощения, шаг за шагом подымается и будет подыматься советская кинематография — воплотитель величайших идеалов человечества.
1946
33 ИССЛЕДОВАНИЯ
35 ПЕРСПЕКТИВЫ*
В сутолоке кризисов, мнимых и действительных,
в хаосе дискуссий, серьезных или никчемных (например, «с актером или без актера?»1),
стиснутые ножницами необходимости двигать кинокультуру вперед и требовани[й] на немедленную общедоступность,
зажатые в противоречия между необходимостью найти формы — на равной высоте с посткапиталистическими формами — нашего социалистического строя
и культурной емкостью класса, создавшего этот строй,
при неуклонном соблюдении основной тенденции на непосредственную массовость и понятность миллионам, —
мы, однако, не вправе ставить себе пределом теоретических разрешений решение только этой задачи и этого основного условия.
Мы обязаны параллельно с решением повседневного тактического хода [поисков] форм кинематографии работать над вопросами общепринципиального характера на путях развития и перспектив нашего кино.
Бросая все остроумие практики на выполнение узкосегодняшнего наказа социального потребителя, тем острее надо задумываться над программностью теоретических пятилеток в будущем.
И искать перспективы новой функциональности подлинно коммунистической кинематографии в резком отличии от всех имевших и имеющих место кинематографий.
В таком направлении и стараются работать излагаемые соображения.
36 * * *
«Понять марксизм вообще приятно и полезно. А г. Горькому понимание его принесет еще ту незаменимую пользу, что ему станет ясно, как мало годится роль проповедника, т. е. человека, говорящего преимущественно языком логики, для художника, т. е. для человека, говорящего преимущественно языком образов. А когда г. Горький убедится в этом, он будет спасен…»
Так некогда писал Плеханов (предисловие к третьему изданию «За двадцать лет»).
Прошло еще лет пятнадцать.
Горький благополучно «спасен».
Марксизмом, кажется, овладел2.
Роль же проповедника тем временем слилась с ролью художника. Возник — пропагандист.
Однако распря между языком образов и языком логики продолжается. Им никак не «договориться» на языке… диалектики.
Правда, на фронте искусства в центре внимания на смену плехановской антитезе сейчас стоит другое противопоставление.
Займемся сперва им, чтобы уже потом наметить возможности синтетического выхода из противопоставления первого.
Итак, современное искусствопонимание группируется от полюса к полюсу, примерно от формулы «искусство есть познание жизни» до формулы «искусство есть строительство жизни». Полярное противопоставление, на мой взгляд, глубоко ошибочное.
И не в плане функционального определения искусства, а в неправильном обосновании понятия, скрытого за термином «познание».
Сталкиваясь с определением какого-либо понятия, мы напрасно пренебрегаем методом чисто лингвистического анализа самого обозначения. Произносимые нами слова подчас значительно «умнее» нас.
И совершенно нерационально наше нежелание разобраться в том очищенном и сведенном в формулу определении, каким по отношению к понятию является его словесное обозначение. [Нужно] анализировать эту формулу, освободив ее от постороннего багажа «ходкого» ассоциативного материала, чаще всего наносного, искажающего сущность дела.
Доминирующими являются, конечно, ассоциации, отвечающие классу, доминирующему в эпоху сложения или максимального потребления того или иного термина или обозначения.
Мы весь наш «рассудительный» словесный и терминологический багаж получили из рук буржуазии.
С доминирующим буржуазным пониманием и чтением этих обозначений и с сопутствующими ассоциативными рядами и строем, соответствующим буржуазной идеологии и установке.
37 Между тем каждое обозначение, как всякое явление, имеет двойственность своего «чтения», я бы сказал, «идеологического чтения»: статическое и динамическое, социальное и индивидуалистическое.
Между тем традиционализм ассоциативного «окружения», отвечавшего предыдущей классовой гегемонии, постоянно сбивает нас с толку.
И вместо того чтобы произвести внутрисловесное «классовое расслоение», слово-понятие нами пишется, понимается и потребляется в традиционности, нам классово абсолютно не отвечающей.
Факт значения слова для анализа обозначаемого им понятия отмечал еще Беркли3 (Berkeley, A treatise concerning the principles of human knowledge. Цитировано по [книге] E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, B. 1, «Die Sprache», Berlin, 1923):
«Нет возможности отрицать, что слово блестяще служит тому, чтобы дать овладеть каждому всем огромным запасом знания, включенного в него объединенным исследовательским опытом его слагавших…»
Вместе с тем он отмечает и указанное нами выше — искаженность восприятия понятий от одностороннего или неправильного пользования этими обозначениями:
«Одновременно же следует отметить, что подавляющее большинство понятий через злоупотребление словесными их обозначениями и вульгаризованную разговорность совершенно запутаны и затемнены…»
Выход из этого положения Беркли видит, как и пристало идеалисту, не в классово-аналитической расчистке обозначений с точки зрения их социального осмысления. Выход видит в устремлении в сторону «чистой идеи».
«Поэтому было бы желательно, чтобы каждый приложил свои силы, чтобы постичь ясным взглядом сущность идеи, которую он хочет созерцать путем освобождения ее от наряда и обрамления слов… Нам достаточно отдернуть завесу слов, чтобы четко и ясно узреть древо познания, чьи плоды доступны рукам нашим».
Совершенно иначе подходит к подобному же «словообращению» Плеханов. Он рассматривает слово в неразрывной социально-производственной связи, для анализа возвращая его из сфер надстроечных в сферу базового производственного и практического сложения и возникновения слова.
В таком виде оно является таким же убедительным материалистическим аргументом, как любой другой из [ис]пользуемых нами материалов исследования.
Так, обосновывая «неизбежность материалистического объяснения истории на наиболее изученном участке идеологий первобытного 38 общества — искусстве», он приводит в качестве одного из доказательств лингвистические соображения фон ден Штейнена4: «… фон ден Штейнен считает, что рисование (zeichnen) развилось из обозначения предметов (Zeichnen) с практическими целями» (Г. В. Плеханов, Основные вопросы марксизма, ГИЗ, Москва, 1920, стр. 33).
Наше традиционное приятие и нежелание вслушиваться в слова и игнорирование этого исследовательского участка приводит ко многим огорчениям и морям нерациональной затраты различных полемических темпераментов!
Сколько, например, поломано штыков вокруг вопроса «формы и содержания»!
Потому лишь, что динамический, активный и действенный акт «содержания» (содержания как «сдерживания между собой») подменивался аморфным и статическим, пассивным пониманием содержания как содержимого. Хотя никому не приходит в голову говорить о «содержимом» пьесы «Рельсы гудят» или романа «Железный поток»!5
Сколько чернильной крови пролито из-за настоятельного желания понимать форму только как производную от греческого «формос» — ивовая корзина — со всеми последующими отсюда «организационными выводами»!
Ивовая корзина, в которой, покачиваясь на чернильных потоках полемики, покоилось это самое несчастное «содержимое».
Между тем стоило только заглянуть в словарь не греческий, а в словарь «иностранных слов», где оказывается, что форма по-русски — образ. Образ же на скрещивании понятий «обреза» и «обнаружения» («Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского). Два термина, блестяще характеризующие форму с обеих точек зрения: с индивидуально-статической (an und für sich1*) точки зрения, как «обрез» — отмежевание данного явления от иных соприсутствующих (напр[имер], немарксистское определение формы хотя бы у Леонида Андреева6, ограничивающееся только этим определением).
«Обнаружение» же характеризует образ и с другой — социально-актовой стороны — «обнаружения», то есть с точки зрения установления социальной связи данного явления с окружающим.
«Содержание» — акт сдерживания — принцип организации, сказали бы мы в более текущей манере выражаться.
Принцип организации мышления и является фактическим «содержанием» произведения.
Принцип, материализующийся совокупностью социально-физиологических раздражителей, средством к обнаружению чего и является форма.
39 Никто же не считает, что содержанием газеты является: сообщение о пакте Келлога7, скандал с «Газетт дю фран» или дневник происшествий о том, как пьяный муж на пустыре молотком жену ухлопал.
Содержанием газеты является принцип организации и обработки содержимого в газете в установке на классовую обработку читателя.
И в этом производственно обоснованная неотделимость совокупности содержания и формы от идеологии.
В этом пропасть между содержанием газеты пролетарской и газеты буржуазной при одинаковом фактическом содержимом.
И так не в одной газетной практике — так и во всем, начиная от форм произведений искусства и кончая социальными формами быта.
В чем же ошибочность в обращении с термином «познание»?
Его корневая связь с древнесеверогерманским «kna» — могу2* и др[евне]саксонским «biknegan» — принимаю участие дотла вытеснена односторонне-созерцательным пониманием «познания» как функции абстрактно-созерцательной, «чистого познания идей», то есть глубоко буржуазн[ым пониманием].
Мы никак не можем произвести в себе переустановку в восприятии акта «познания» как акта непосредственно действенной результанты.
Хотя рефлексологией8 достаточно обосновано, что процесс познания есть увеличение количества условных раздражителей, располагающих действенной рефлекторной реакцией со стороны данного субъекта, то есть даже в самой механике процесса [это] активно действенное, а не пассивное проявление.
Между тем практически, когда дело идет о рассуждениях в связи с познанием, мы трактуем его все еще в извращенной формуле отделимости от деятельности и труда, как об этом выражался, напр[имер], Эрнест Ренан9 в установке на «чистое познание». В «La réforme intellectuelle et morale» он требовал сильного правительства, «которое заставляло бы добрую деревенщину исполнять за нас часть труда, в то время когда мы предаемся размышлению» (Плеханов, Искусство и общественная жизнь).
Познавательная абстракция вне непосредственно действенной эффективности для нас неприемлема.
Разобщение познавательного процесса от продуктивного для нас не может иметь места.
Не напрасно во французском тексте цитата заканчивается: «… tandis que nous spéculons». «Spéculons» переводится — «пока 40 мы предаемся размышлению». Но не напрасно же у нас неразрывно с этим термином связана совсем иная цепь ассоциаций!
Абстрактную науку, научное мышление вне связи с непосредственной действенностью — «науку для науки», «познание для познания» — мы столь же беспощадно готовы клеймить, как и другие явления, объединяемые сродственным «спекулятивным» обозначением, — «спекуляцию», в каких бы отраслях она ни возникала.
Спекулятивной философии так же мало места в условиях социалистического строительства, как и спекуляции на продуктах первой необходимости!
Для нас знающий — это участвующий.
В этом мы стоим на библейском термине: «И позна Моисей жену свою Сарру…», ведь это отнюдь не значит, что он с ней познакомился!
Познающий — строящий!
Познание жизни — неразрывно — строительство жизни — пересоздание ее.
Противопоставления этих понятий в эпоху строительства быть не может! Даже в форме исследовательского расчленения.
Самый факт существования нашей эпохи социалистического строительства и нашего строя опровергает его.
Наступающей эпохе нашего искусства предстоит взорвать китайскую стену и между первой антитезой «языка логики» и «языка образов».
Мы требуем от вступающей эпохи искусства отказа от этого противопоставления.
Качественно дифференцированное и разобщенно индивидуализированное мы желаем вернуть в количественно соотносительное.
Науку и искусство мы не желаем далее качественно противопоставлять.
Мы хотим их количественно сравнивать и, исходя из этого, ввести их в единый новый вид социально воздействующего фактора.
Есть ли основание к предвидению подобного синтетического пути?
Синтетического.
Ибо мы полагаем это решение бесконечно далеким от ведомственной формулы, что «поучительные произведения должны быть не лишены занимательности, а занимательные — не без дидактики».
Есть ли основания? И где общность в сферах воздействия этих, пока противопоставляемых друг другу областей?
Нет искусства вне конфликта.
Будь то столкновение стрельчатого взлета готических сводов с неумолимыми законами тяжести,
41 столкновение героя с роковыми перипетиями в трагедии,
[столкновение] функционального назначения здания с условиями грунта и строительных материалов,
преодоление ритмом стиха мертвенной метрики стихотворного канона.
Везде борьба.
Становление, рождаемое в столкновении противоречий,
захват которого возрастает в своей интенсивности вовлечением все новых и новых сфер чувственного реагирования воспринимающего. Пока, в апогее, он не вовлечен целиком. Не единицей, индивидом, а коллективом, аудиторией. Больше того, пока сам он не вступает в творческую игру, раздвоившись.
Коллективом на коллектив. Стенкой. Стенкой на стенку устремляется в спортигре раздвоенный коллектив друг к другу. Спортигра как совершеннейший вид искусства, всецело втягивающий зрителя в творца, в участника.
В современном преломлении возврат через спорт к замыканию кольца с предтрагедийной игрой древних,
конечно, в такой же «формальной» соотносительности, при некоей общности, как современный коммунизм к коммунизму первобытному.
Но тем не менее!
А наука?
Книга. Печатное слово. Глаза. Глаза — мозги. Плохо!
Книга. Слово. Глаза. Хождение из угла в угол. Лучше!..
Кто не зубрил, бегая из угла в угол четырехстенного загона с книжкой в руках?
Кто не барабанил ритмически кулаком, запоминая… «прибавочная стоимость есть…», то есть кто не помогал зрительному раздражению включением моторики в дело запоминания отвлеченных истин?
Лучше! Аудитория. Лектор. Конечно, не выхолощенный бюрократ от просвещения. А кто-нибудь из тех пламенных стариков-фанатиков (их становится все меньше), как покойный проф[ессор] Сохоцкий10, который мог часами с таким же огнем говорить об интегралах и анализе бесконечно малых [величин], как Камиль Демулен11, Дантон12, Гамбетта13 или Володарский14, громившие врагов народа и революции.
Темперамент лектора, захватывающий вас целиком. И кругом. В стальном охвате внезапно ритмизующегося дыхания наэлектризованная аудитория.
Аудитория, внезапно ставшая… цирком, ипподромом, митингом,
ареной единого коллективного порыва, единого пульсирующего интереса.
Математическая абстракция внезапно — в плоть и в кровь.
42 Вы помните сложнейшую формулу — ритмов своего дыхания…
Сухой интеграл запоминается в лихорадочном блеске глаз. В мнемонике коллективно пережитого восприятия.
Дальше. Теория музыки. Хриплые одиночки тщетно пытаются охватить пыльными горташками шкалу интервалов. Do-re, re-mi, mi-fa… sol. Надрывается рояль. Вконец издерганы и струны и нервы… Не выходит! Не вправишь обратно в органику дизассоциированный процесс связи голоса и слуха. И вот внезапно хором включены отдельные «сопелки». И «чудо» совершается. В строгой чеканке, интервал за интервалом, в коллективном действе голосишки вытягиваются, выстраиваются. Звучит. Звучит!! Выходит! Взято.
Вдруг срываются с мест. В странно размеренном плясе начинают двигаться по комнате. Что это? Дионисийский экстаз?15 Нет. Это Жаку Далькрозу16 пришло на ум усовершенствовать ритмическую память своих учеников по сольфеджио путем введения в ритмическое отстукивание такта всего организма в целом заместо стукающей руки. Тончайшие нюансы в длительностях времени преодолены с величайшей легкостью.
Но дальше! Р-р-раз! И разодран коллектив надвое. Не кафедра оратора. Два пульта. Два оппонента. Два «катапульта». В огне диалектики, в дискуссии выковывается объективная данность, оценка явления, факт.
«Стенка на стенку».
Авторитарно-телеологическое «так есть» летит к чертям. Аксиоматичности принятого на веру — крах! «Вначале бе слово»…17. А может быть, не «бе»? Теорема в противоречиях, требующих доказательств, включает диалектический конфликт.
Включает диалектически исчерпывающе в противоречиях постигаемую сущность явления. Неопровержимо. Предельно интенсивно. Мобилизовав во внутреннюю схватку противоположных точек зрения исчерпывающие элементы личной логики и темперамента.
Комплекс умудренных опытом — условных и непосредственную пламенность рефлексов безусловных.
В горниле диалектического огня выплавлен новый фактор строительства. Выкован новый социальный рефлекс.
Где разница? Где пропасть между трагедией и рефератом? Коль скоро смысл обоих в том, чтобы вздыбить внутренний конфликт и в диалектическом его разрешении снабдить новым стимулом активности и средством жизнетворчества воспринимающие массы!
Где разница между совершенным методом оратории и совершенным методом постигания знаний?
Дуализму сфер «чувства» и «рассудка» новым искусством должен быть положен предел.
43 Вернуть науке ее чувственность,
интеллектуальному процессу его пламенность и страстность.
Окунуть абстрактный мыслительный процесс в кипучесть практической действенности.
Оскопленности умозрительной формулы вернуть всю пышность и богатство животно ощущаемой формы.
Формальному произволу придать четкость идеологической формулировки.
Вот вызов, который мы делаем. Вот требования, которые мы предъявляем вступающему периоду искусства.
Какому виду искусства это будет под силу?
Единственно и только средствам кинематографии.
Единственно и только интеллектуальной кинематографии. Синтезу эмоциональной, документальной и абсолютной фильмы.
Только интеллектуальному кино будет под силу положить конец распре между «языком логики» и «языком образов» — на основе языка кинодиалектики,
интеллектуальному кино небывалой формы и обнаженной социальной функциональности; кино предельной познавательности и предельной же чувственности, овладевшему всем арсеналом воздействий раздражителей зрительных, слуховых и биомоторных.
Но на пути к нему кто-то стоит.
Поперек пути.
Кто это? Это — «живой человек».
Он просится в литературу. Он уже наполовину забрался в театр с подъезда МХАТа.
Он стучится в кинематографию.
Товарищ «живой человек»! За литературу не скажу. За театр — тоже.
Но кинематограф — не ваше место!
Для кинематографа вы — «правый уклон».
Вы — требование не на высоте уровня технических средств, возможностей, а следовательно, и обязанностей его выражения. Степень развития орудий производства диктует формы идеологии. Вы — диктант, соответствующий низшей стадии индустриального развития в области искусства.
Вы как тема слишком — соха для высокоиндустриальной формы искусства, каким является кино вообще, а интеллектуальное кино в своих устремлениях в особенности.
К тому же кино приспособлено к вам и вы к нему не более, чем стрелка секундомера к потрошению белорыбицы!
«Живой человек» исчерпывающе уместен в пределах культурного ограничения и культурной ограниченности средств театра…
Притом театра не левого, а именно МХАТа,
44 МХАТа и мхатовских тенденций, пышно справляющих сейчас вокруг этого требования свою «вторую молодость». И это вполне логично и последовательно.
Левого же театра, за неприменимостью, фактически не стало. Он расслоился либо в свою последующую стадию развития — кино, либо вернулся в свою предшествующую форму ахрровского типа18.
Между ними остался только Мейерхольд, и не как театр, а как мастер.
Кино же, не отказываясь в условиях реальной политики от частичного мхатовства, курс свой упорно должно равнять в сторону интеллектуальной кинематографии как высшей формы развития возможностей кинематографической техники…
Кинематография способна, а следственно — должна осязаемо чувственно экранизировать диалектику сущности идеологических дебатов в чистом виде. Не прибегая к посредничеству фабулы, сюжета или живого человека.
Интеллектуальное кино может и должно будет решать тематику такого вида: «правый уклон», «левый уклон», «диалектический метод», «тактика большевизма»,
не только на характерных «эпизодиках» или эпизодах, но в изложении целых систем и систем понятий.
Именно «тактика большевизма», а не «Октябрьский переворот» или «пятый год» как частный пример.
А самую методику и систему, — несомненно, конечно, используя конкретный материал, но в совершенно иной установке и под иным углом зрения.
Схемы более кустарные, как в тематике — психологические и психологически-отобразительные, — так и более кустарные в методике изложения «через посредников-протагонистов» останутся на долю менее высокоиндустриальных средств выражения,
театру и кино старого игрового типа.
На долю же нового кино, единственно способного включать диалектический конфликт в становлении понятия, выпадет задача нерушимого внедрения коммунистической идеологии в миллионы.
Являясь последним звеном в цепи средств культурной революции, нанизывающей все, работая на единую монистическую систему, от коллективного воспитания и комплексного метода обучения до новейших форм искусства, переставая быть искусством и переходя в следующую стадию своего развития,
только при таком решении своей проблемы кино действительно заслужит обозначения «важнейшего из искусств».
Только так оно коренным образом будет отлично от буржуазного кино.
Только так оно станет куском грядущей эпохи коммунизма
1929
45 ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В КИНО*
I
Ровно год тому назад — 19 августа 1928 года, еще не приступая к монтажу «Генеральной линии», я писал в «Жизни искусства», № 34, в связи с гастролями японского театра:
«… В “Кабуки”1… имеет место единое, монистическое ощущение театрального “раздражителя”. Японец рассматривает каждый театральный эксперимент не как несоизмеримые единицы разных категорий воздействия (на разные органы чувств), а как единую единицу театра.
Адресуясь к различным органам чувств, он строит свой расчет (каждого отдельного “куска”) на конечную сумму раздражений головного мозга, не считаясь с тем, по которому из путей он идет…» («Жизнь искусства», № 34, 19 августа 1928 г.).
Эта характеристика театра Кабуки оказалась пророческой.
Этот прием лег в основу монтажа «Генеральной линии».
* * *
Ортодоксальный монтаж — это монтаж по доминантам, то есть сочетание кусков между собой по их подавляющему (главному) признаку. Монтаж по темпу. Монтаж по главному внутрикадровому направлению. Монтаж по длинам (длительностям) кусков и т. д. Монтаж по переднему плану.
Доминирующие признаки двух рядом стоящих кусков ставятся в те или иные конфликтные взаимоотношения, отчего получается тот или иной выразительный эффект (мы имеем здесь в виду чисто монтажный эффект).
Это условие обнимает все стадии интенсивности монтажного сопоставления — толчка:
46 от полной противоположности доминант, то есть резко контрастного построения,
до еле заметного «переливания» из куска в кусок. (Все случаи конфликта — стало быть, и случаи полного его отсутствия.)
Что же касается самой доминанты, то рассматривать ее как нечто самостоятельное, абсолютное и неизменно устойчивое никак нельзя. Теми или иными техническими приемами обработки куска его доминанта может быть определена более или менее, но никак не абсолютно.
Характеристика доминанты изменчива и глубоко относительна.
Выявление ее характеристики зависит от того самого сочетания кусков, условием для сочетания коих она является сама.
Круг? Одно уравнение с двумя неизвестными?
Собака, ловящая себя за хвост?
Нет, просто точное определение того, что есть.
Действительно,
если мы имеем даже ряд монтажных кусков:
1) седой старик,
2) седая старуха,
3) белая лошадь,
4) занесенная снегом крыша,
то далеко еще не известно, работает ли этот ряд на «старость» или на «белизну».
И этот ряд может продолжаться очень долго, пока наконец не попадется кусок — указатель, который сразу «окрестит» весь ряд в тот или иной «признак».
Вот почему и рекомендуется подобный индикатор ставить как можно ближе к началу (в «правоверном» построении). Иногда это даже вынужденно приходится делать… титром.
Эти соображения совершенно исключают недиалектическую постановку вопроса об однозначности кадра в себе.
Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом.
И чтение свое получает лишь из сопоставления, как и иероглиф, приобретающий специфические значения, смысл и даже устные произношения (иногда диаметрально противоположные друг другу) только в зависимости от сочетаний изолированного чтения или маленького значка, индикатора чтения, приставленного к нему сбоку.
В отличие от ортодоксального монтажа по частным доминантам «Генеральная линия» смонтирована иначе.
«Аристократизму» единоличной доминанты на смену пришел прием «демократического» равноправия всех раздражителей, рассматриваемых суммарно, как комплекс.
Дело в том, что доминанта является (со всеми оговорками на ее относительность) если [и] наиболее сильным, то далеко не единственным 47 раздражителем куска. Например, сексуальному раздражению (sex appeal) от американской героини-красавицы сопутствуют раздражения: фактурные — от материала ее платья, светоколебательные — от характера ее освещенности, расово-националистические (положительные: «родной тип американки» или отрицательные: «колонизатор-поработительница» для аудитории негритянской или китайской), социально-классовые и т. д.
Одним словом, центральному раздражителю (пусть, наприм[ер], сексуальному в нашем примере) сопутствует всегда целый комплекс второстепенных.
В полном соответствии с тем, что происходит в акустике (и частном ее случае — инструментальной музыке).
Там наравне со звучанием основного доминирующего тона происходит целый ряд побочных звучаний, так называемых обер- и унтертонов. Их столкновение между собой, столкновение с основным и т. д. обволакивает основной тон целым сонмом второстепенных звучаний.
Если в акустике эти побочные звучания являются лишь элементами «мешающими», то в музыке, композиционно учтенные, они являются одними из самых замечательных средств воздействия левых композиторов (Дебюсси2, Скрябин3).
Точно то же и в оптике. Присутствуя в виде аберраций, искажений и пр[очих] дефектов, устраняемых системами линз в объективах, они же, композиционно учитываемые, дают целый ряд композиционных эффектов (смена объективов от «28» до «310»).
В соединении с учетом побочных же звучаний самого заснимаемого материала это и дает в полной аналогии с музыкой зрительный обертонный комплекс куска.
На этом приеме и построен монтаж «Генеральной линии». Монтаж этот строится вовсе не на частной доминанте, а берет за доминанту сумму раздражений всех раздражителей.
Тот своеобразный монтажный комплекс внутри куска, возникающий от столкновений и сочетания отдельных присущих ему раздражителей,
раздражителей, разнородных по своей «внешней природе», но сводимых к железному единству своей рефлекторно-физиологической сущности.
Физиологической, поскольку и «психическое» в восприятии есть лишь физиологический процесс высшей нервной деятельности. Таким образом, за общий признак куска принято физиологическое суммарное его звучание в целом как комплексное единство всех образующих его раздражителей.
Это есть то особое «ощущение» куска, которое производит кусок в целом.
И это для монтажного куска является тем же, чем являются приемы Кабуки для отдельных его сцен (см. начало).
48 За основной признак куска принят суммарный конечный его эффект на кору головного мозга в целом, безотносительно — по которым путям слагающие раздражения к нему добрались.
Так достигаемые суммы могут ставиться друг с другом в любые конфликтные сочетания, вместе с тем открывая совершенно новые возможности монтажных разрешений.
Как мы видели — в силу самой генетики этих приемов — должна сопутствовать им необычайная физиологичность.
Как и той музыке, которая строит свои произведения на сугубом использовании обертонов.
Не классика Бетховена, а физиологичность Дебюсси или Скрябина.
Необычайная физиологичность воздействия «Генеральной линии» отмечается очень многими.
И именно потому, что она — первая картина, смонтированная на принципе зрительного обертона.
Самый же прием монтажа может быть любопытно проверен.
Если в мерцающих классических далях будущего кинематографа кино, конечно, будет использовать как монтаж в обертонике, так одновременно и по признаку доминант (тоника), то, как всегда, на первых порах новый прием утверждает себя всегда в принципиальном заострении вопроса.
Обертонный монтаж на первых шагах своего становления должен был взять линию резко наперекор доминанте.
Во многих случаях, правда, и в самой «Генеральной линии» можно уже найти такие «синтетические» сочетания монтажей тонального и обертонного.
Напр[имер], «нырянье под иконы» в «крестном ходе» или кузнечик и сенокосилка, смонтированные зрительно по звуковой ассоциации с нарочитым выявлением и их пространственной схожести.
Но методически показательны, конечно, построения а-доминантные. Или такие, где доминанта является в виде чисто физиологической формулировки задания (что то же). Например, монтаж начала «крестного хода» по «степени насыщенности жаром» отдельных кусков или начала «совхоза» по линии «плотоядности». Условия внекинематографических дисциплин, ставящие самые неожиданные физиологические знаки равенства между материалами, логически, формально и бытово абсолютно нейтральными друг к другу.
Есть же и масса случаев монтажных стыков, звучащих издевательством над ортодоксальным схоластическим монтажом по доминантам.
Обнаружить это легче всего, провертев картину «на [монтажном] столе». Только тогда совершенно явственно обнаружится совершенная «невозможность» тех монтажных стыков, которыми 49 «Генеральная линия» изобилует. Тогда же обнаружится и крайняя простота метрики ее и «размера».
Целые громадные разделы частей идут на кусках совершенно одинаковой длины или абсолютно примитивных кратных укорачиваний. Вся сложная ритмически чувственная нюансировка сочетания кусков проведена почти исключительно по линии работы над «психофизиологическим» звучанием куска.
Предельно заостренно излагаемую особенность монтажа «Генеральной линии» я и сам обнаружил «на столе». Когда пришлось делать сокращения и подрезку. «Творческий экстаз», сопутствующий сборке и монтажному компонованию, «творческий экстаз», когда слышишь и ощущаешь куски, к такому моменту уже проходит.
Сокращения и подрезки не требуют вдохновения, а только техники и знания.
И вот, разматывая на столе «крестный ход», я сочетание кусков ни под одну из ортодоксальных категорий (внутри которых хозяйничаешь чистым опытом) подогнать не смог.
На столе, в неподвижности, — совершенно непонятно, по какому признаку они подобраны.
Критерий для их сборки оказывается вне обычных формальных кинематографических критериев.
И здесь обнаруживается еще одна любопытная черта сходства зрительного обертона с музыкальным.
Он также не зачерчиваем в статике куска, как не зачертимы в партитуру — обертоны музыки.
Как тот, так и другой возникают как реальная величина только в динамике музыкального или кинематографического процесса.
Обертонные конфликты, предучтенные, но «незапиеуемые» в партитуру, возникают лишь диалектическим становлением при пробеге киноленты через аппарат, при исполнении симфонии оркестром.
Зрительный обертон оказывается настоящим куском, настоящим элементом… четвертого измерения.
В трехмерном пространстве пространственно неизобразимого и только в четырехмерном (три плюс время) возникающего и существующего.
Четвертое измерение?! Эйнштейн? Мистика?
Пора перестать пугаться этой «бяки» — четвертого измерения. Обладая таким превосходным орудием познания, как кинематограф, даже свой примитив феномена — ощущение движения — решающий четвертым измерением, мы скоро научимся конкретной ориентировке в четвертом измерении так же по-домашнему, как в собственных ночных туфлях!
50 И придется ставить вопрос об измерении… пятом!
Обертонный монтаж является новой монтажной категорией известного нам до сих пор ряда монтажных процессов.
Непосредственно прикладное значение этого приема громадно.
И как раз для наиболее жгучего вопроса киносовременности — для звукового кино.
* * *
В уже цитированной вначале статье, указывая на «нежданный стык» — сходство Кабуки и звукового кино, я писал о контрапунктическом методе сочетания зрительного и звукового образа.
«… Для овладения этим методом надо выработать в себе новое ощущение: умение приводить к “единому знаменателю” зрительные и звуковые восприятия…»
Между тем звуковое и зрительное восприятия к одному знаменателю не приводимы.
Они величины разных измерений.
Но величины одного измерения суть зрительный обертон и обертон звуковой!
Потому что, если кадр есть зрительное восприятие, а тон — звуковое восприятие, то как зрительный, так и звуковой обертоны суть суммарно физиологические ощущения.
И, следовательно, одного и того же порядка, вне звуковых или слуховых категорий, которые являются лишь проводниками, путями к его достижению.
Для музыкального обертона (биения), собственно, уже не годится термин: «слышу».
А для зрительного — «вижу».
Для обоих вступает новая однородная формула: «ощущаю»3*.
Теория и методология музыкального обертона разработана и известна (Дебюсси, Скрябин).
«Генеральная линия» устанавливает понятие обертона зрительного.
На контрапунктическом конфликте между зрительным и звуковым обертонами родится композиция советского звукового фильма.
51 II
Является ли метод обертонного монтажа каким-то посторонним и искусственно привитым к кинематографу приемом или он просто такое количественное перенакопление одного признака, что он делает диалектический скачок и начинает фигурировать новым качественным признаком?
Другими словами, есть ли обертонный монтаж последовательный диалектический этап развития общемонтажной системы приемов и существует ли стадиальная преемственность его по отношению к другим видам монтажа?
Известные нам формальные категории монтажа сводятся к следующим. ([Существует] категория монтажа, так как характеризуют монтаж с точки зрения специфики процесса в разных случаях, а не по внешним «признакам», сопутствующим этим процессам.)
1. Монтаж метрический.
Имеет основным критерием построения абсолютные длины кусков. Сочетает куски между собой согласно их длинам в формуле-схеме. Реализуется в повторе этих формул.
Напряжение достигается эффектом механического ускорения путем кратных сокращений длины кусков с условием сохранения формулы взаимоотношения этих длин («вдвое», «втрое», «вчетверо» и т. д.).
Примитив приема: кулешовские трехчетвертные, маршевые, вальсовые монтажи (3/4, 2/4, 1/4 и т. д.).
Вырождение приема: метрический монтаж на метре сложной кратности (16/17, 22/57 и т. д.).
Подобный метр перестает физиологически воздействовать, так как противоречит «закону простых чисел (отношений)».
Простые соотношения, обеспечивая отчетливость восприятия, обусловливают тем самым максимальное воздействие.
И потому встречаются всегда в здоровой классике во всех областях:
архитектура, цвет в живописи, сложная композиция Скрябина — всегда кристально четкие в своих «членениях»; геометризация в мизансценах, отчетливые схемы рационализированных госучреждений и т. д.
Подобным отрицательным примером может служить «Одиннадцатый» Дзиги Вертова5, где метрический модуль6 настолько математически сложен, что установить в нем закономерность можно только с «аршином в руках», то есть не восприятием, а измерением.
Это отнюдь не значит, что метр при восприятии должен «осознаваться». Совсем наоборот. Не доходя до сознания, он тем не менее непреложное условие организованности ощущения.
52 Его четкость приводит «в унисон» «пульсирование» вещи и «пульсирование» зрительного зала. Без этого никакого «контакта» обоих быть не может.
Слишком большая сложность метрических отношений взамен этого дает хаос восприятия вместо четкого эмоционального напрягания.
Третий случай метрического монтажа лежит между обоими: это метрический изыск в сложном чередовании простых, во взаимоотношении друг с другом, кусков (или наоборот).
Примеры: лезгинка в «Октябре» и патриотическая манифестация в «Конце Санкт-Петербурга»7. (Второй пример может считаться классическим по линии чисто метрического монтажа.)
Что касается внутрикадровой стороны подобного монтажа, то она целиком соподчинена абсолютной длине куска. Поэтому она придерживается грубодоминантного характера разрешения (возможной «однозначности» кадра).
2. Монтаж ритмический.
Здесь в определении фактических длин кусков равноправным элементом вступает внутрикадровая их наполненность.
Схоластика абстрактно устанавливаемых длин заменяется гибкостью соотношения фактических длин.
Здесь фактическая длина не совпадает с математической длиной, отводимой ей согласно метрической формуле. Здесь практическая длина куска определяется как производная длина из специфики куска и той «теоретической» длины его, которая ему полагается по схеме.
Здесь же вполне возможен и случай полной метрической одинаковости кусков и получения ритмических фигур исключительно через комбинирование кусков по внутрикадровым признакам.
Формальное напряжение через ускорение достигается здесь укорачиванием кусков не только согласно формуле кратности основной схемы, но и в нарушение этого канона.
Лучше же всего введением материала более интенсивного в тех же темповых признаках.
Классическим примером может служить «Одесская лестница». Там «ритмический барабан» спускающихся солдатских ног нарушает все условности метрики. Он появляется вне интервалов, предписанных метром, и каждый раз в ином кадровом разрешении. Конечное же нарастание напряжения дано переключением ритма шагов спускающихся с лестницы [солдат] в иной — новый вид движения — [в] следующую стадию интенсивности того же действия — в скатывающуюся по лестнице коляску.
Здесь коляска работает по отношению к ногам как прямой стадиальный ускоритель.
53 «Сошествие» ног переходит в «скатывание» коляски.
Сравните для контраста упомянутый выше пример из «Конца Санкт-Петербурга», где напряжения разрешены дорезкой одних и тех же кусков до минимального клеточного монтажа.
Метрический монтаж для подобных упрощенно-маршевых разрешений вполне исчерпывающе пригоден.
Для более сложных ритмических заданий — он оказывается недостаточным.
Насильственное его применение «тем не менее» к подобным случаям приводит к монтажным неудачам. Так случилось, напр[имер], в «Потомке Чингис-хана»8 («Sturm über Asien») с религиозными плясками. Смонтированный на основе сложной метрической схемы, не выправленной спецификой нагрузки кусков, этот монтаж нужного ритмического эффекта достичь не смог.
И во многих случаях вызывает недоумение у специалиста и сбивчивость восприятия у простого зрителя (подобный случай может быть искусственно выправлен музыкальным сопровождением, что и имело место в данном примере).
Третий вид монтажа я назвал бы —
3. Монтаж тональный.
Термин этот вступает впервые. Он является следующей стадией за ритмическим монтажом.
В ритмическом монтаже за движение внутри кадра принималось фактическое перемещение (или предмета в поле кадра, или перемещение глаза по направляющим линиям неподвижного предмета).
Здесь же, в этом случае, движение понимается шире. Здесь понятие движения обнимает собой все виды колебаний, исходящих от куска.
Здесь монтаж идет по признаку эмоционального звучания куска. Причем доминантного. Общий тон куска.
Если со стороны восприятия он характеризуется эмоциональной тональностью куска, то есть, казалось бы, «импрессионистическим» измерителем, то это простое заблуждение.
Характеристика куска так же закономерно измерима и здесь, как в простейшем случае «аршинного» измерения в грубометрическом монтаже.
Только единицы измерения здесь иные. И самые величины измерения другие.
Например, степень светоколебания куска в целом не только абсолютно измерима посредством селенового фотоэлемента, но вполне градационно воспринимается невооруженным глазом.
И если мы условно эмоционально обозначим кусок, решенный по преимуществу светово, как «более мрачный», то это может быть с успехом заменено математическим коэффициентом простой степени освещенности (случай «световой тональности»).
54 В другом случае, обозначая кусок как «резко звучащий», весьма легко свести это обозначение на подавляющее количество остроугольных элементов кадра, превалирующих над дугообразными (случай «графической тональности»).
Игра на комбинировании степеней софт4*-фокусности или разных степеней резкости — типичнейший пример тонального монтажа.
Как сказано выше, этот случай строится на доминирующем эмоциональном звучании от куска. Примерами могут служить: «Туманы в одесском порту» (начало «Траура по Вакулинчуку» в «Потемкине»).
Здесь монтаж построен исключительно на эмоциональном «звучании» отдельных кусков, то есть на ритмических колебаниях, не производящих пространственных перемещений.
Здесь интересно то, что рядом с основной тональной доминантой одинаково работает как бы вторая, второстепенная ритмическая доминанта кусков.
Она как бы связующее звено тонального построения данной сцены с ритмической традицией, дальнейшим развитием коей и является тональный монтаж в целом.
Как ритмический монтаж есть специальное видоизменение монтажа метрического.
Эта второстепенная доминанта реализована в еле заметном колебании воды, легком покачивании спящих на якорях судов, в медленно подымающемся дыму, в медленно опускающихся в воду чайках.
Собственно говоря, и это уже элементы тонального порядка. Движения — перемещения монтируемого по тональному, а не [по] пространственно-ритмическому признаку. Ведь здесь пространственно несоизмеримые перемещения сочетаются по эмоциональному их звучанию.
Но главный индикатор сборки кусков остается целиком в области сочетания кусков по основным оптическим светоколебаниям их. (Степени «туманности» и «освещенности».) И в строе этих колебаний обнаружен полный идентид5* минорному разрешению в музыке.
Кроме того, этот пример дает нам образец консонанса в сочетаниях между собой движения как перемещения и движения как светового колебания.
Интенсификация напряжений и здесь идет по линии нагнетания одного и того же «музыкального» признака доминанты.
Особенно наглядным примером такого нарастания может служить сцена «Запоздалой жатвы» («Генеральная линия», часть 5-я).
Как и для построения картины в целом, так и в этом частном случае соблюден основной ее постановочный прием.
55 А именно, конфликт между «содержанием» и традиционной для него «формой».
Патетическая структура приложена к непатетическому материалу. Раздражитель отделен от свойственной ему ситуации (например, трактовка эротики в картине) вплоть до парадоксальных тонических построений. Индустриальный «монумент» оказывается пишущей машинкой. Свадьба… но быка с коровой. И т. д.
Поэтому тематический минор жатвы разрешен мажором бури, дождя. (Да и сама жатва — традиционно мажорная тема плодородия в пылающих лучах солнца — взята для разрешения темы минорной и к тому же смоченной дождем.)
Здесь нарастание напряжения идет путем внутреннего усиления звучания одной и той же доминантной струны. Нарастающее предгрозовое «давление» куска.
Как и в предыдущем примере, тональной доминанте — движению как световому колебанию — сопутствует и здесь вторая доминанта, ритмическая, то есть движение как перемещение.
Здесь она реализована в усиливающемся ветре, уплотняющемся из воздушных «токов» в водяные «потоки» дождя. (Полная аналогия: шаги солдат, переходящие в коляску.)
В общей структуре роль дождя и ветра здесь вполне идентична связи между ритмическими качаниями и сетчатой бесфокусностью первого примера. Правда, характер взаимоотношений прямо противоположен. В противоположность консонансу первого примера мы имеем здесь обратное.
Сгущающиеся в черную неподвижность небеса противопоставляются усиливающемуся в динамике ветру, нарастающему и уплотняющемуся из воздушных «токов» в водяные «потоки» — следующую стадию интенсивности динамической атаки на женские юбки и запоздалую рожь.
Здесь это столкновение двух тенденций — нарастание статики и нарастание динамики — дает нам наглядный пример диссонанса в тонально-монтажном построении.
С точки зрения эмоционального восприятия «Жатва» является примером трагического (активного) минора, в отличие от минора лирического (пассивного), чем является «Одесский порт».
Любопытно, что оба примера смонтированы по первому же виду движения, следующему за движением как перемещением. А именно по «цвету»:
в «Потемкине» от темно-серого к туманно-белому (бытово оправдываемому «рассветом»),
в «Жатве» от светло-серого в свинцово-черный (бытово оправдываемый «приближением грозы»), то есть по линии частоты световых колебаний, ускоряющихся по частоте в одном случае и замедляющихся по этому признаку — в другом.
56 Имеем полный повтор картины простого метрического построения, но взятого в новом, значительно высшем разряде движения.
Четвертым видом категорий монтажа мы с полным правом можем выставить
4. Монтаж обертонный.
Как видим, обертонный монтаж, охарактеризованный в начале статьи, является органическим дальнейшим развитием линии монтажа тонального.
От него он отличается, как указано выше, суммарным учетом всех раздражений куска.
И этот признак выводит восприятие из мелодически эмоциональной окрашенности в непосредственно физиологическую ощущаемость.
Я думаю, что и это является стадиальным по отношению друг к другу.
Эти четыре категории являются приемами монтажа.
Собственно монтажным построением они становятся тогда, когда они вступают в конфликтные взаимоотношения друг с другом (в приводимых примерах это именно и имеет место).
В этом они, схемой взаимоотношений повторяя друг друга, идут ко все более изощренным разновидностям монтажа, органически вытекающим друг из друга.
Так, переход от метрического приема к ритмическому создавался как установление конфликта между длиной куска и внутрикадровым движением.
Переход на тональный монтаж — как конфликт между ритмическим и тональным началом куска.
И, наконец, обертонный монтаж — как конфликт между тональным началом куска (доминантным) и обертонным6*.
Эти соображения дают нам сверх того любопытный критерий оценки монтажного построения с точки зрения его «живописности». Живописность здесь противопоставляется кинематографичности. Эстетическая живописность — физиологической животности.
57 Рассуждать о живописности кадра в кинематографе — наивно. Это под стать людям неплохой живописной культуры, но абсолютно неквалифицированным кинематографически. К такому типу рассуждений могут быть отнесены, например, высказывания о кино со стороны Казимира Малевича9. Разбирать «кинокадрики» с точки зрения станковой живописи не станет сейчас ни один киномладенец.
Я думаю, что критерием для «живописности» монтажного построения, в самом широком смысле слова, должно служить условие: если конфликт решается внутри одной какой-либо категории монтажа, то есть без того, чтобы конфликт возникал между разными категориями монтажа.
Кинематограф начинается там, где начинается столкновение разных кинематографических измерений движения и колебания.
Например, «живописный» конфликт фигуры и горизонта (в статике или динамике — безразлично), или чередование разноосвещенных кусков только с точки зрения конфликтов световых колебаний, или — форм предмета и его освещенности и т. д.
Следует еще отметить, чем характеризуется воздействие отдельных разновидностей монтажа на «психофизиологический» комплекс воспринимающего.
Первая категория характеризуется грубой моторикой воздействия. Она способна приводить зрителя в определенные внешнедвигательные состояния.
Так смонтирован, например, «сенокос» («Генеральная линия»). Отдельные куски взяты — «однозначно» — одним движением из бока кадра в бок, и я от души смеялся, наблюдая за более впечатлительной частью аудитории, мерно раскачивающейся из бока в бок с возрастающим ускорением по мере укорачивания кусков. Эффект такой же, как от барабана и меди, играющих простой походный марш.
Вторую категорию мы называем ритмической, ее можно было [бы] еще назвать примитивно эмоциональной. Здесь движение более тонко учтенное, ибо эмоция есть тоже результат движения, но движения, не допускаемого до примитивно внешнего путем перемещения.
Третья категория — тональная — могла бы назваться мелодически эмоциональной. Здесь движение, уже во втором случае переставшее быть перемещением, отчетливо переходит в эмоциональное вибрирование еще более высокого разряда.
Четвертая категория — новым приливом чистого физиологизма как бы повторяет в высшем разряде интенсивности категорию первую, снова обретая стадию усиления непосредственной моторики.
В музыке это объясняется тем, что с моментом вступления обертонов параллельно основному звучанию вступают еще так называемые 58 биения, то есть такой тип колебаний, которые снова перестают восприниматься как тона, а воспринимаются скорее как чисто физические «смещения» воспринимающего. Это относится к резко выраженным тембровым инструментам с большим превалированием обертонного начала.
Ощущения физического «смещения» они достигают иногда почти буквально: очень большие турецкие барабаны, колокола, орган.
В некоторых местах «Генеральной линии» удалось провести конфликтные сочетания линий тональной и обертонной. Иногда же столкнуть еще и с метро-ритмической. Например, отдельные узлы внутри крестного хода: «нырки» под иконы, тающие свечи и задыхающиеся овцы к моменту экстаза и т. д.
Любопытно, что по ходу разбора мы совершенно незаметно провели знак субстанционного равенства между ритмом и тоном, установив между ними такое же стадиальное единство, как я в свое время установил стадиальное единство понятий кадра и монтажа.
Итак, тон есть стадия ритма.
Для пугающихся подобных стадиальных сведений воедино и продления свойств одной стадии в другую в целях исследовательских и методологических напомню одну цитату, касающуюся основных элементов диалектики:
«… Таковы элементы диалектики, по-видимому. Можно, пожалуй, детальнее эти элементы представить так:
1) …
11) бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности.
12) от сосуществования к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей.
13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и
14) возврат якобы к старому…»
(Конспект Ленина к «Науке логики» Гегеля. Ленинский сборник IX, стр. 275, 277, изд. 1929 г.).
После этой цитаты, я думаю, не встретит возражения и следующий разряд монтажа, устанавливаемый как еще более высокая категория монтажа, а именно интеллектуальный монтаж.
Интеллектуальный монтаж это есть монтаж не грубо физиологических обертонных звучаний, а звучаний обертонов интеллектуального порядка,
то есть конфликтное сочетание интеллектуальных сопутствующих эффектов между собой.
Стадиальность здесь устанавливается тем, что нет принципиальной разницы между моторикой качания человека под влиянием грубо метрического монтажа (см. пример сенокоса) и интеллектуальным 59 процессом внутри его, ибо интеллектуальный процесс есть то же колебание, но лишь в центрах высшей нервной деятельности.
И если в первом случае под влиянием «чечеточного монтажа» вздрагивают руки и ноги, то во втором случае такое вздрагивание при иначе скомбинированном интеллектуальном раздражении происходит совершенно идентично в тканях высшей нервной системы мыслительного аппарата.
И если по линии «явлений» (проявлений) они кажутся фактически различными, то с точки зрения «сущности» (процесса) они, конечно, идентичны.
А это на приложении опыта работы по низшим линиям к разделам высшего порядка дает возможность вести атаку в самую сердцевину вещей и явлений.
Итак, пятым разделом был случай интеллектуального обертона.
Примером его могут служить «боги» в «Октябре», где все условия к их сопоставлению обусловливались исключительно классово-интеллектуальным (классовым, ибо если эмоциональное «начало» общечеловечно, то интеллектуальное с корня же классово окрашено) звучанием куска «бога».
По нисходящей интеллектуальной гамме эти куски и собраны и низводят идею бога к чурбану.
Но это, конечно, еще не интеллектуальное кино, провозглашаемое мною уже скоро несколько лет.
Интеллектуальное кино будет тем, которое решит конфликтное сочетание обертонов физиологических и обертонов интеллектуальных (см. ст[атью] «Перспективы» в журнале «Искусство», № 1 – 2), создав небывалую форму кинематографии — вклада революции в общую историю культуры, создав синтез науки, искусства и воинствующей классовости.
Как видим, вопрос обертона на будущее имеет громадное значение.
Тем более внимательно надо вникать в вопросы его методологии и проводить всестороннее его исследование.
1929
60 «ОДОЛЖАЙТЕСЬ!»*
Очень меня расстраивают разговоры о «развлекательности» и «занимательности»…
Потратив немало трудов в деле «увлечения» и «вовлечения» аудиторий в единый порыв общего захвата, мне в… «развлечении» слышится что-то противоположное, чуждое и враждебное.
Когда же говорят, что фильма должна «занимать», мне она чудится идущей… «одолжаться».
Причем в манере, достойной угощения Ивана Ивановича Перерепенко1, который «если попотчует вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: “Смею ли просить, государь мой, об одолжении?”, если же не знакомы, то: “Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отечества, об одолжении?”»
Я стою за Довгочхуна,
Ивана Никифоровича;
за короткое: «Одолжайтесь».
И «одолжать» должна картина, а не «занимать»,
захватывать, а не развлекать,
снабжать аудиторию зарядкой, а не транжирить энергию, принесенную зрителем с собой.
«Занимать» — совсем не такой невинный термин: под ним очень конкретный действенный процесс.
И «захват» в первую очередь, конечно, должны иметь в виду эти указания и разговоры.
А развлекательность и занимательности следует понимать именно так, лишь как количественное облегчение внутри самой тематики, но никак не качественное.
61 Пока у нас были захватывающие картины, не говорили о занимательности.
Скучать не успевали.
Но затем «захват» куда-то потерялся.
Потерялось умение строить захватывающие вещи. И заговорили о вещах развлекательных.
Между тем не осуществить второго, не владея методом первого.
Многими лозунг в сторону развлекательности воспринимается как позволительность некоего «нэпачества», в наихудшем смысле его извращенного понимания по отношению к идеологическим предпосылкам наших картин.
Мы снова должны овладеть методом: директивное указание воплощать в волнующие произведения.
Никто нам в этом не поможет.
Надо самим.
О том, как это делается и как мы собираемся это делать, я и хочу сказать.
Реабилитировать идеологическую предпосылку не как нечто, извне привносимое «в угоду Реперткому»2, а как основную живительную силу, оплодотворяющую наиболее увлекательную часть режиссерского творчества — режиссерскую «трактовку», — вот задача данной статьи.
И по совершенно конкретному поводу, — а именно в связи с постановкой учебного дела на третьем, выпускном курсе режиссерского факультета ГИКа, где по учебной программе студентам надо выходить на творческое овладение режиссерской работой.
Талмудисты метода — ученые «горе-марксоиды», ругайте меня, но к этой теме и к учебе я хочу подойти запросто, по-бытовому, «по-рабочему».
Все равно никто конкретно пока не знает, как этим овладеть,
прячась за ученые цитаты или не прячась.
Сам я достаточно долго, годами мучился о некоей сверхъестественности, превышающей здравый смысл и человеческое разумение, необходимые якобы для постижения «удольфских тайн»3 режиссерского творчества. Разъять музыку режиссерского творчества!
Разъять, но не как труп, музыку творчества режиссера — вот над чем нам придется работать с выпускниками ГИКа.
К этому мы подойдем запросто и не с позиций предвзятых схоластических методов.
И не на трупах отживших произведений будем мы наблюдать процессы становления произведений.
«Анатомический театр» в диссекционный7* зал наименее подходящий полигон для изучения театра.
62 Изучение же кино должно идти неразрывно с изучением театра.
Строить кинематографию, исходя из «идеи кинематографа» и отвлеченных принципов, дико и нелепо. Только из критического сопоставления с более стадиально ранними зрелищными формами можно будет критически овладеть методологической спецификой кино.
«Критика должна состоять в том, чтобы сравнить и сопоставить данный факт не с идеей, а с другим фактом; для нее важно только, чтобы оба факта были по возможности точно исследованы и чтобы они представляли из себя один по отношению к другому различные моменты развития…» (Ленин, «Что такое друзья народа?», 1894 г.).
Изучать мы это дело будем на живом творческом процессе.
Делается это впервые в такой форме.
Нужно будет одновременно создавать и процесс работы и метод.
И мы отправляемся не по-плехановски, с предвзятых позиций «метода вообще» к конкретному частному случаю, а рассчитываем через данную конкретную работу на частном материале возойти до методов кинематографического творчества режиссера.
Для этого мы вынесем «интимный» творческий процесс режиссера во всех его фазах и извивах становления перед аудиторией «на публику».
Много неожиданного предстоит полному иллюзий молодняку.
В одном отношении крен в сторону «занимательности» нам на руку.
Можем цитировать по величайшему «развлекателю» — Александру Дюма-отцу, о котором родной сын — Дюма-фис4, говорит: «Имею честь представить вас моему отцу, взрослому ребенку, которого я родил, когда был очень маленьким».
Кто не восхищался классической стройностью композиционного лабиринта «Графа Монте-Кристо»?!
Кого не поражала убийственная логика сплетений и переплетений людей и событий, как будто с самого изначала так и в таких взаимоотношениях зачатая и возведенная?!
Кому, наконец, не приходила в голову картина внезапного озарения мозгов «жирного негра» Дюма экстазом, в котором он охватывает единым орлиным взглядом будущую храмину романа во всех его деталях и тонкостях… с заглавием «Граф Монте-Кристо», пылающим на ее фронтоне?!
«Где уж мне уж!» — вторилось этому… И как бодряще приятно узнать на ощупь ту кухню, как фактически слагается и свертывается такая замечательная композиция.
Как в зверском прилежании, а не в божественном озарении приходит сработка вещи.
63 Действительно «негритянский» труд, но не жирного негра-тунеядца, а труд, достойный негра-поденщика с плантаций.
Дюма, действительно происходивший из негров, был родом с Гаити, как Туссен-Лувертюр, герой нашей будущей фильмы «Черный консул»5.
Прозвище Дюма-деда — генерала Томаса Александра — было «Черный дьявол»6.
А «жирный негр» была кличка, данная Дюма завистниками и конкурентами.
Некий Эжен де Мирекур, под пышным именем скрывавший свое жалкое [имя] Жако7, писал о Дюма:
«Поскоблите бока господину Дюма, и вы обнаружите дикаря… Он завтракает горячей картошкой, взятой прямо с угольев, и пожирает ее, даже… не сняв шкуру, — он негр!..» Но так как ему нужно для разгула 200 000 франков в год, то «он для литературной работы нанимает безымянных интеллектуальных дезертиров и переводчиков по оплате, унизительной даже для негров, работающих из-под бича мулата» (Eugéne do Mirecourt, Alexandre Dumas et Cie, Fabrique de Romans, Paris, 1845).
«Ваш отец был черным!» — бросает ему кто-то в лицо. «Мой дедушка был обезьяной», — отвечал он хохоча.
Другу же Беранже8, начавшему подпадать слухам «о литературном пиратстве жирного негра», Дюма писал:
«Дорогой старый друг. Мой единственный “негр” — моя левая рука, которая держит открытой книгу, в то время как правая работает двенадцать часов в день»…
Он слегка преувеличивал — сотрудники у него были, но «как у Наполеона… генералы»9.
Трудно заставить себя работать с такой остервенелостью. Но еще трудней без этого достичь чего-нибудь.
Чудеса же композиции — только вопрос упорства и времени, затраченного в «тренажный период» своей автобиографии.
С точки зрения продуктивности как раз эта эпоха романтизма отличалась головокружительной быстротой творческих темпов:
за восемь дней (с 17 сентября по 26 сентября 1829 г.) Виктор Гюго пишет три тысячи стихов «Эрнани», поставившего классический театр вверх ногами, «Марион де Лорм» — в двадцать три дня, «Король веселится» — в двадцать дней, «Лукрецию Борджиа» — в одиннадцать дней, «Анджело» — в девятнадцать дней, «Марию Тюдор» — в девятнадцать дней, «Рюи Блаза» — в тридцать четыре дня.
Этому же вторит и количественный размах.
Так, литературное наследие Дюма-отца исчисляется в 1200 томов.
Сама же оказия как таковая, чтобы создать их, всемерно общедоступна.
64 В частности, о «Графе Монте-Кристо».
Вот как Люка Дюбретон10 повествует об истории его произведения:
«… Во время путешествия по Средиземному морю Дюма проезжал мимо маленького островка, где ему не дали сойти на берег, так как остров “находился в заразном состоянии” и посещение его грозило карантином. Это был остров Монте-Кристо. Имя это поразило его тогда. Несколько лет спустя, в 1843 году, он договаривался с одним издательством написать “Впечатления путешественника по Парижу”, но ему нужен был романтический сюжет. Однажды случайно ему удалось набрести на рассказик в двадцать страничек “Бриллиант и месть”, относящийся к эпохе второй реставрации и включенный в сборник Пеше “Разоблаченная полиция”. Он напал на то, о чем смутно мечтал. Здесь был сюжет: Монте-Кристо будет разыскивать врагов своих, спрятанных в Париже.
Потом его сотруднику, историку Маке11, пришла в голову любовная история Монте-Кристо с прекрасной Мерседес и предательством Данглара. И оба приятеля пустились по рельсам “Графа Монте-Кристо”, ставшего из романтических дорожных впечатлений — заправским романом.
Аббат Фариа, лунатик, родившийся в Гоа, которого Шатобриан12 видел тщетно пытающимся загипнотизировать насмерть канарейку, способствовал нарастанию таинственностей; и на горизонте стал вырисовываться замок Иф… казематы Эдмона Дантеса и старика Фариа…»
Так фактически складываются вещи.
И пережить то, как это происходит, и самим в этом участвовать — вот что мне кажется наиболее полезным и продуктивным для студентов.
«Методисты» же, проповедующие иначе и утверждающие иные «рецепты», просто… арапы, и даже не Великого Петра.
Но «случайностей» здесь гораздо меньше, чем кажется, и «закономерность» внутри творческого процесса ощутима и обнаружима. Есть метод. Но вся подлость в том, что от предвзятой методологической установки ни фига не родится. Совершенно так же, как из бурного потока творческой потенции, не регулируемой методом, родится еще меньше.
Подробный анализ становления произведения шаг за шагом уясняет строжайшую закономерность, каждым надстроечным изгибом возникающую из базисных социальных и идеологических предпосылок13.
И золотая горячка делячества и обогащения эпохи Луи-Филиппа14 не менее определяюща для позолоченной легенды о легендарных богатствах бывшего матроса, ставшего всесильным графом, не менее определяюща, чем детские воспоминания Дюма о Шахразаде15 и кладах Али-Бабы16.
65 И самый факт, что графом мог стать матрос, то есть «всякий».
В общей погоне за золотом и аристократическими титулами матрос Дантес, ставший сказочным богачом графом Монте-Кристо, служил прекрасным «общественным идеалом» для лихорадочно обогащавшейся буржуазии.
Недаром этому образу приписывают и черты идеализированного автопортрета.
Ведь сам Дюма, как и другие, жадно купался в мутном море подозрительного золота сомнительных спекуляций королевства «короля-буржуа».
«Миллион? Это именно то, что я привык носить с собой на карманные расходы!»
Эта строчка в одинаковой мере была недосягаемым идеалом как самого «жирного негра», тогда литературного властелина газеты, фельетона и драмы тогдашнего Парижа, без удержу сорившего деньгами, так и несметных жадных полчищ бесчисленных беспортошных проходимцев авантюризма, наводнявших этот Париж.
Однако сполна ощутить, как остро определяющи эти социальные экономические и идеологические предпосылки для каждой малейшей извилины формы и как неразрывно процессуально они увязаны, можно лишь на «рапиде»17 самостоятельно и до конца ответственно проделанного полного творческого цикла.
Конечно, интереснее всего было поймать эдакого Гете или Гоголя и заставить перед аудиторией написать третью часть «Фауста» или заново сочинить второй том «Мертвых душ»18.
Под рукой же нет даже живого Александра Дюма.
Поэтому мы третий курс ГИКа обращаем в… коллективного режиссера и фильмостроителя.
Руководитель не более как primus inter pares — первый среди равных.
Коллективу, как в будущем каждому поодиночке, придется пробираться через все затруднения и муки творчества, сквозь весь процесс творческого созидания, от первого мелькнувшего, мерещащегося намека на тему вплоть до определения съемочной пригодности пуговиц на кожанке последнего фигуранта.
Задача руководителя — только умелым толчком вовремя направить в сторону «правильных» и «плодотворных» затруднений и в сторону правильной и отчетливой постановки перед собой именно тех вопросов, которые ответами ведут в построение, а не в бесплодный брех «по поводу» вещи.
Так учат в цирках летать.
Беспощадно при этом задерживают трапецию или чуть-чуть подставляют кулак при неверном «темпе», взятом учеником.
Не беда, если он раз-другой мимо спасительной сетки врежется в стулья партера.
Следующий раз — не «навалит».
66 Но не менее заботлив должен быть на каждом этапе развертывающегося творческого процесса подсобный материал указаний и опыта «наследства», своевременно и к месту подсовываемый в руки запутавшихся или застрявших «бойцов».
Но мало того. Если нет под рукой единого исчерпывающего синтетического гиганта, то на каждом поворотном этапе есть кроме «наследства» и «живой наследник», сформировавшийся на ном в крепкого техника на своем участке.
В истекшие три года систематический курс специальных предметов в ГИКе (тогда еще ГТК) подменивался налетами редких эпизодических лекций всяких «выдающихся» работников.
Люди забегали в ГИК, как в трамвай, и чуждо и безотносительно друг к другу, как пассажиры, стремящиеся вырваться поскорей на волю, выпаливали за свои 45 минут что-то бессвязно-эпизодическое, после чего вновь уносились из поля зрения прозелитов по орбитам своей личной деятельности.
Эту «эпизодику» тоже надо коренным образом перестроить!
В плане общего курса специальности приглашенный должен быть к месту, к определенному конкретному случаю, к определенному этапу общего хода развертывания творческого процесса,
и по тому вопросу, где он действительно «мастак».
Все это в установке на вещь «большого калибра» и до конца ответственную.
Покончив с «эпизодикой» в преподавании, разделаемся с убогими «эпизодиками» студентов-выпускников.
Эти короткометражные «этюдики» выпускников, разрозненные, убогие, но самодовольные, еще более короткомозглые, чем короткометражные, должны отпасть как целиком нецелесообразные.
После проектной выпускной работы масштаба, скажем, блаженной памяти Хе-Хе-Се (храма Христа Спасителя, ныне благополучно разъятого в кирпичики) архитектор всегда сумеет выстроить общедоступный… нужник.
Но, спроектировав на выпуске один маленький писсуар, рискованно браться за… да за что угодно!..
Между тем из года в год мы это видели с выпускниками.
Здесь должна быть коренная ломка.
Пленки на брата все равно будет немного. Много Союзкино все равно не даст.
Для пленки у Союзкино свои собственные полки… и полки.
Снять, стало быть, все равно удастся не более как эпизодик.
Но и на практике картина распадается в самостоятельные эпизодики.
Но эпизодики там держатся на едином стержне единой идеологической, композиционной и стилистической цельности.
Искусство не в том, чтобы затейливо взять кадр или «загнуть» понеожиданнее ракурс.
67 Искусство в том, чтобы каждый осколок картины был бы органической частностью органически задуманного целого.
Такими органически продуманными и снятыми частностями одной большой значительной и общной концепции должны быть эти отрывки некоего целого, а отнюдь не беспризорными этюдными «бродягами».
На этих заснятых отрывках, на не заснятых, но поставленных эпизодах, предшествующих и последующих им, на разработке монтажных планов и листов по доставшимся им частям целого — в студентах будет действительно ответственно ликвидирована и творческая «обезличка».
Их работа будет до конца подконтрольна и одновременно же ответственным показом, как и в какой мере они способны реализовать на практике твердо намеченную общую концепцию; пусть на этих порах еще не индивидуально свою концепцию, а коллективно выработанную, но это только еще жестче приучит к самодисциплине,
самодисциплине, еще более нужной к моменту, когда концепция станет индивидуальной и собственной.
Но к этому последнему этапу, к этой последней грани, уже соприкасающейся с внешкольным производством, студенты подойдут через длинный ряд «шпицрутенов» живых и мертвых «мастаков»19.
На определенном этапе это будет долгая дискуссия о типе, образе и характере действующего лица. Будет ворошиться прах Бальзака, Гоголя, Достоевского или Бена Джонсона.
Встанет вопрос о воплощении такого типа образа или характера. Здесь мы рассчитываем на авторские исповеди Качалова20 о том, как делал он Барона, поговорит Баталов21 или Макс Штраух расскажет механику создания Рубинчика22.
Пройдя по лесам конструирования сюжета, разобрав с Аксеновым костяки елизаветинцев23, послушаем Дюма-отца и Виктора Шкловского24 о сценарном сюжетосложении и о методах [создания] произведений Вельтмана25.
Потом, занявшись обсуждением драматизма ситуации с покойным Вебстером26, Зархи27 и Волькенштейном28, заинтересуемся тем, как «одевается» ситуация словами.
Алексей Максимович Горький, наверно, не откажется посвятить нас в методы написания диалогов «На дне» или «Егора Булычова». Николай Эрдман29 расскажет, как это делается у него.
А Бабель30 скажет про специфику фактуры образа и слова и о технике предельного лаконизма словесных выразительных средств. Бабель, который практически знает, может быть, как никто, великую тайну, что «… никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя». О том, 68 как [с] этим лаконизмом неподражаемо сделан его замечательный и далеко не оцененный по заслугам «Закат».
Между тем это, пожалуй, лучший образец лучшего театрального диалога последних лет.
Все это будет возникать на соответствующих этапах единого поступательного творческого процесса нашего коллективного режиссера над своей фильмой.
Размычка отдельных этапов на самостоятельные аналитические экскурсы нисколько не страшна. Конструирование темы и сюжета может быть подчас совершенно независимо от разработки слова. Разве «Ревизор» и «Мертвые души» не блестящие примеры обработки сюжетов, «заданных» со стороны?!31
Вопрос музыкального оформления звучащей среды… Вопрос материальной среды… Разбор немалого количества образцов «наследства» и по другим статьям, и каждого под углом специальной узкой специфики: чем он, и именно он, может быть сугубо полезен?!
Тулуз-Лотрек36 или Стендаль37.
И долго и обстоятельно будет разобран марксистско-ленинскими специалистами вопрос правильной идеологической постановки вопроса в отношении подхода к теме и общественного понимания вещи. Таким путем мы рассчитываем обеспечить мобилизованным опытом и квалифицированной поддержкой руководства тех, кому придется пробиваться в создание вещи.
Самое же серьезное и интересное в этой работе — это центральная часть режиссерского творчества — приучить людей к «трактовке» и проработать с ними процесс того, как это происходит и делается.
Мы работаем, по существу, на такой низкопробной пошлятине упрощенного восприятия заданий, что подлинного, живого, творческого взаимодействия социальной трактовки и концепции с проявлениями формы произведения просто не имеем случая наблюдать.
Наши произведения на таком уровне упрощенчества, что напоминают известную карикатуру на колбасную фабрику-автомат: с одной стороны ящика с ручкой входит свинья, с другой — выходит колбаса.
Между схематикой скелетного костяка «лозунговости» и пустой шкурой внешней «формы» нет никаких слоев конкретного, живого мяса и мускулатуры,
нет никакой органики, взаимодействия и связи.
Потом удивляются, что шкура висит… бесформенно и сквозь нее упрощенчески таращится остриями механистически воспринятая «социальность» тематики.
69 Мускульности и мяса недостает.
Вот почему так дружно и празднично был встречен «Егор Булычов и другие» М. Горького. Хотя вещь еще не ответила на один коренной вопрос:
человеки-то в ней показаны еще не наши и не сегодняшние.
Их мы продолжаем ждать от Алексея Максимовича.
Но зато есть мясо. Есть мускулы.
И это мясо сделано сегодня, когда кругом на сцене и экранах даже не «люди в футлярах»38, а просто футляры без людей,
зато туго набитые опошленными цитатами.
Наши произведения похожи на рогатки колючей проволоки жестких истин, покрытых батистом, а мы поражаемся, что по этой проволоке не бежит кровообращение, а кисея не бьется заражающим пульсом.
От великого до смешного один шаг.
От великой предпосылочной идеи, сформулированной в лозунг, до живого произведения — шагов двести.
А шагая одним — смешные результаты приспособленческой дряни налицо.
Надо начать учиться делать трехмерные выпуклые вещи, уйдя от двухмерности плоских шаблонов «прямого провода»: из лозунга в сюжет — без пересадки.
Как фактически работает по-серьезному определяюще идеологическая установка в отношении определения вещи, нам пришлось проследить на собственной работе, хотя и в несколько необычайных социальных условиях.
Это было в Голливуде.
«В людях» у «Парамаунта»39.
И дело касалось высококачественного объекта обработки в сценарий.
Если и не лишенная идеологических изъянов, «Американская трагедия» Т. Драйзера40 прежде всего вещь и, как никак, а классная, если еще и не классовая с точки зрения наших позиций,
вещь, имеющая все шансы зачислиться даже классической для своего времени и места.
О том, что на этом материале имели столкнуться два непримиримых мировоззрения — «хозяйское» и наше, стало явственно с момента сдачи первого чернового либретто.
«Виновен или не виновен Клайд Гриффит в вашей трактовке?» — был вопрос «босса» калифорнийских студий «Парамаунта» Бена — Б. П. («Би-Пи») — Шульберга.
«Не виновен», — был наш ответ.
«Но тогда ваш сценарий — чудовищный вызов американскому обществу!..»
Мы объяснили, что преступление, на которое идет Гриффит, считаем суммарным результатом тех общественных отношений, 70 воздействию коих он подвергается на каждом этапе его развертывающейся биографии и характера, развивающегося по ходу фильмы.
«В этом для нас, по существу, весь интерес работы…»
«Нам бы лучше простую крепкую полицейскую историю об убийстве…
… и о любви мальчика и девочки…» — сказали нам со вздохом. Возможность двух столь коренно противоположных трактовок в отношении центрального действующего лица не должна удивлять.
Роман Драйзера широк и безбрежен, как Гудзон; необъятен, как сама жизнь, и допускает любую точку зрения на себя; как всякий «нейтральный факт» самой природы, роман его — это девяносто девять процентов изложения фактов и один процент отношения к ним. Эту эпику космической правдивости и объективности надо было «свинтить» в трагедию, что немыслимо без мировоззренческой направленности и заостренности.
Хозяев беспокоил вопрос виновности и невиновности совсем с другой стороны: виновен — значит, несимпатичен. Ведущий герой и вдруг несимпатичный. Что скажет касса? А если не виновен…
Из-за затруднения вокруг «этого проклятого вопроса» «Американская трагедия» уже не год и не пять лежала без движения в портфеле «Парамаунта».
За нее брался и… Гриффит (на этот раз не Клайд, а патриарх кинематографии — Давид Уарк), и Любич41, и еще многие другие. С обычной предусмотрительной осторожностью и на этот раз хозяева от решения увильнули.
Предложили нам доделать сценарий «как мы его чувствуем» («as you feel it»), а там будет видней…
Из изложенного явствует совершенно, что в нашем случае, в отличие от других, дело расхождения во мнениях шло отнюдь не вокруг частного ситуационного разрешения, а гораздо глубже и насквозь о вопросе социальной трактовки в целом и основном. Теперь любопытно проследить, как таким образом взятая установка начинает определять лепку отдельных частностей и как она, и именно она, своими требованиями оплодотворяет вопросы ситуационного решения, психологического углубления, «чисто формальную» сторону конструкции вещи в целом, как наталкивает на совершенно новые, «чисто формальные» приемы, которые, обобщаясь, собираются даже в новые теоретические осознания ведущих дисциплин кинематографии как таковой.
Всю ситуацию романа излагать тут трудно: не сделать в пять строчек того, подо что Драйзеру понадобилось два толстых тома. Коснемся только центральной точки внешне сюжетной стороны трагедии — самого убийства, хотя трагедия, конечно, не в нем, 71 а в том трагическом пути становления Клайда, которого социальный строй доводит до убийства. И этому в нашем сценарии отводилось основное внимание.
Дело касается того, как Клайд Гриффит, соблазнивший молодую работницу мастерской, где он был старшим, не сумел помочь ей сделать аборт, строго запретный в США и посейчас.
Он видит себя вынужденным жениться на ней. Однако это в корне разбивает все его виды на карьеру, так как расстраивает брак его с богатой наследницей, без ума в него влюбленной.
Ситуация сама по себе глубоко специфическая для Америки, где среди кругов среднего калибра промышленности еще нет кастовой отгороженности, исключающей подобный «мезальянс». Здесь еще превалирует патриархальный «демократизм» отцов, продолжающих помнить, как они сами без штанов приходили в город завоевывать благополучие. С последующим поколением дело уже близится к денежной «аристократии пятой авеню»42: в этом отношении характерно различие отношений к Клайду со стороны дяди и со стороны двоюродного брата.
Так или иначе, перед Клайдом дилемма: или навсегда отказаться от карьеры и социального благополучия, или… разделаться с первой девушкой.
Приключения Клайда в столкновениях с американской действительностью к этому моменту так уже успели его психологически «оформить», что он после долгой внутренней борьбы (правда, не с моральными принципами, а с собственной развинченной бесхарактерностью) решается на последнее.
Он тщательно обдумывает и приуготовляет убийство с помощью перевернувшейся, якобы от несчастного случая, лодки.
Он обдумывает все детали именно с той сверхтщательностью неопытного преступника, которая неминуемо такого дилетанта впоследствии запутывает в невылазную сеть неопровержимых улик.
И едет с девушкой на лодке.
На; лодке конфликт между жалостью и отвращением к ней, между бесхарактерной нерешительностью и жаждой вырваться к блистательным материальным благам достигает апогея.
Полусознательно, полубессознательно, в дикой внутренней панике происходит опрокидывание лодки.
Девушка тонет.
Клайд, бросив ее, спасается по преднамеченным путям и попадается в непредусмотренные петли им же сплетенных нитей спасения.
Дело с лодкой совершается так, как подобные дела и происходят:
не до конца отчеканенно, не окончательно осознанно — недифференцированным клубком.
72 Так «беспартийно» дело Драйзер и оставляет, предоставляя событиям развиваться дальше формально, логическим ходом не сюжета, а… процедуры правосудия.
Нам же необходимо было заострить фактическую и формальную невиновность Клайда внутри акта самого совершения преступления.
Только тогда достаточно отчетлив был бы «чудовищный вызов» тому обществу, которое своим механизмом доводит достаточно бесхарактерного парня до такой ситуации, а затем, взывая о морали и правосудии, его же сажает на электрический стул.
Святость формального начала в кодексах чести, морали, правосудия и религии в Америке — главное и основное.
На этом бесконечная игра адвокатуры в судах, юристов между собой, парламентариев друг с другом. Сущность того, о чем идет формальный спор, совершенно ни при чем. Сущность перепадет тому, кто формально загибистей.
Поэтому и осуждение Клайда, по существу, вполне заслуженное по той роли, которую он, по существу, сыграл в этом деле (до чего никому нет дела), при его формальной невиновности — воспринялось бы на американском фоне как нечто «чудовищное»: судебное убийство.
Такова не глубокая, но сквозная и незыблемая психология американца, сопутствующая ему повсюду.
С этой стороной американского характера знакомился я не по книгам…
Поэтому необходимо было развернуть эту сцену с лодкой в бесспорно отчетливую формальную невиновность, однако нисколько самого Клайда не обеляя и не снимая его вины.
Была выбрана трактовка: Клайд хочет убить, но не может.
В момент необходимости решительного действия он насует. Просто от безволия.
Однако до своего внутреннего «поражения» он успевает вселить Роберте (девушке) такое чувство тревоги, что, когда он наклоняется к ней, уже внутренне сраженный и готовый «все взять назад», она в ужасе отскакивает от него. Лодка выбивается из равновесия. Когда же он, пытаясь поддержать ее, случайно задевает ее фотоаппаратом по лицу, она окончательно теряет голову, в ужасе, спотыкаясь, падает, и лодка переворачивается.
Для вящей подчеркнутости мы даем ей еще раз вынырнуть. Мы даже даем Клайду попытаться подплыть к ней. Но заведенная машина преступления реализуется до конца уже помимо воли Клайда: Роберта с слабым криком шарахается от него в испуге и, не умея плавать, тонет.
Клайд — прекрасный пловец — выбирается на берег и, придя в себя, продолжает двигаться дальше по чуть-чуть не сорвавшейся роковой схеме действий намеченного преступного круга.
73 Психологическая и трагическая углубленность ситуации в таком виде — несомненна.
Трагедийность даже разрастается до некоей греческой «слепой Мойры43 — судьбы», раз вызванной к действию и уже не отпускающей посмевшего ее «спровоцировать».
До трагически вздыбленной «каузальности», которая, раз вступив в свои права, доводит до логического конца однажды вызванный к жизни неумолимый ход своего процесса.
В этом раздавливании человеческой единицы «слепым» космическим «началом», инерцией хода законов, не подвластных ему, — одна из основных предпосылок античной трагедийности, отображение пассивной зависимости тогдашнего человека от сил природы. В этом есть аналогичное тому, что Энгельс в отношении другого этапа пишет о Кальвине:
«Его учение о предопределении было религиозным выражением того факта, что в торговом мире… успех или банкротство зависят не от деятельности или ловкости отдельной личности, а от обстоятельств, вне ее лежащих» (Энгельс, Исторический материализм, ГИЗ, 1924).
Восхождение к атавизму первичных космических концепций, сквозящих через сегодняшнюю случайную ситуацию, всегда есть одно из средств для «вздыбления» драматической сцены до высот трагедийности.
Но этим наша трактовка не ограничивается. Она чревата значительным заострением целого ряда этапов и дальнейшего хода действия…
У Драйзера «во имя сохранения чести семьи» богатый дядя снабжает Клайда «аппаратом» защиты.
Сомнений в преступлении у защиты там, по существу, нет.
Тем не менее придумывается защитная версия о «change of heart», испытанном Клайдом; о будто бы совершившемся «переломе» в сердце Клайда под влиянием любви и жалости к Роберте.
Неплохо, когда оно и просто «с места» придумано.
Но насколько оно становится злее, когда действительно был перелом. Когда перелом [был] совсем по другим мотивам. Когда действительно преступления не было. Когда убеждены, что преступление было. И явной ложью, столь близкой к правде и вместе с тем столь далекой, пытаются облыжным путем обелить и спасти подсудимого.
И еще драматически злее становится это, когда и по другому смежному моменту, «идеологией» трактовки нарушаешь пропорцию и в другом месте эпической бесстрастности повествования Драйзера.
Весь второй том почти заполнен целиком процессом слушания дела Клайда по убийству Роберты и затравливанием Клайда до изобличения, до электрического стула.
74 Только в немногих строках указано, что истинная цель процесса и осуждения Клайда, однако, отношения к нему никакого не имеет. Цель эта лишь одна — создать необходимую популярность среди фермерского населения (работница Роберта — дочь фермера) обвинителю Мезону, чтобы быть избранным на выборную должность судьи.
Защитники берут заведомо проигрываемое дело («в лучшем случае — десять лет каторги») все в том же плане политической борьбы. [Они] принадлежат к противоположному политическому лагерю (но отнюдь не к иному классу), их основная цель — чем можно, навредить одиозному кандидату в судьи.
Как для одних, так и для других Клайд только средство.
Игрушка в руках «слепой» Мойры — судьбы, «казуальности» à la greque — на греческий манер, Клайд становится игрушкой в руках отнюдь не слепой машины буржуазного правосудия, машины, не более как инструмента политического авантюризма в высшей степени зрячих политических деляг.
Так трагически разрастается и обобщается судьба частного случая — Клайда Гриффита, в некую действительно «американскую трагедию вообще», в своеобразную историю американского «молодого человека» начала XX века.
Из конструкции же сценария почти целиком вылетает все хитросплетение узоров судебного процесса, а на его место вступает предвыборный ажиотаж, сквозящий сквозь прикладную значимость залы суда как частного плацдарма предвыборной драки, а не как самоцели.
Но основная трактовка убийства решает трагическое углубление и сильное идеологическое заострение еще одного места и одной фигуры.
Мать.
Мать Клайда — глава религиозной миссии. Слепой фанатизм. Столь полная убежденность в нелепом религиозном догматизме, что эта фигура приобретает какой-то невольно внушающий почтение и уважение монументализм и какой-то мученический ореол.
Несмотря даже на то, что она, по существу, является первым конкретным носителем вины американского общества в отношении Клайда: ее учение и принципы, установка на бога и небесное вместо трудового воспитания сына были первыми предпосылками к разыгрывающейся трагедии.
У Драйзера она до конца борется за невиновность сына. Она работает сама судебным репортером провинциальной газеты, чтобы иметь материальную возможность присутствовать на его процессе. Она, как матери и сестры черных ребят из Скоттсборо44, объезжает Америку, выступая с докладами, чтобы собрать деньги на кассационный пересмотр дела, когда все отвернулись от Клайда.
75 Мать приобретает определенное жертвенное величие героини. У Драйзера это величие способно иррадиировать симпатиями на морально-религиозные ее доктрины.
У нас, в камере смертника, Клайд сознается матери, что он Роберту не убил, но намеревался.
Мать — на ультрахристианской концепции: «я же словом, я же делом» — в мыслях или на деле грех одинаков. Мать потрясена.
И неожиданной гримасой от обратного по отношению к величию горьковской матери — и эта мать становится предательницей сына.
У губернатора с петицией о помиловании. Мать теряется перед вопросом в упор: «Верите ли вы сами в невиновность вашего сына?» В этот критический для сына момент — мать смолчала.
Христианский софизм об единстве идеального (деяние в помыслах) и материального (деяние де-факто), забавно пародируя диалектические принципы, приводит к финальной трагической развязке.
Петиция остается без внимания, одинаково дискредитируя догматику и догматизм ее носительницы. И этого момента уже не могут переплюнуть слезы последнего прощания с сыном, собственноручно сданного жертвой в пасть «христианского Ваала»45. И чем острее печаль последних сцен, тем хлеще бьют они по этой шаманской идеологии.
Здесь любопытный формализм американского догматизма полярно дополняется, казалось бы, противоположным принципом мессианства, на деле оказывающимся тем же бездушным догматизмом формального начала и в религии. И это неминуемо, поскольку оба в равной мере питаются теми же социально-классовыми предпосылками.
Таким решением нам, на наш взгляд, удалось сорвать если не «все» и далеко не «всяческие маски» с этой монументальной фигуры, но некоторые из них во всяком случае.
Этим же удалось несколько выправить и то, что глубоко правильно отмечал когда-то по поводу матери Клайда С. С. Динамов46 в предисловии к переводу «Американской трагедии» (ЗИФ, 1928 г.):
«… Персонажи “Американской трагедии” взяты из буржуазной и мелкобуржуазной среды. Точно и как бы равнодушно обрисовывая их, Драйзер почти не показывает своего к ним отношения. Это позволяет думать, что сам Драйзер в большинстве этих образов не раскрывается со стороны утверждения. Иное наблюдается в отношении двух персонажей — матери Клайда и пастора Мак Миллана… Драйзер изменил своей обычной реалистической манере в показе этой фанатички, он идеализировал ее, вложил в ее 76 образ краски подкупающей и искренней симпатии. … Узкая и невежественная женщина вырастает в мужественную целеустремленную, не сгибающуюся под ударами жизни героиню. Не менее симпатично обрисован пастор Мак Миллан, последний утешитель Клайда в те жуткие часы, когда он судорожно готовится встретить смертельную струю тока. Грех наказуется смертью, искупается смирением, прощается богом — эти морально-христианские сентенции Мак Миллана увенчивают роман, и Драйзер не раскрывает ложности этих положений… Художественный метод Драйзера в отношении матери Клайда и Мак Миллана есть отступление от реализма. Объективность Драйзера — это объективность передового мелкобуржуазного писателя, имеющего свои пределы…»
Мать мы «перестроили», как сумели. Пастора Мак Миллана «поперли» вовсе из сценария. И Драйзер первый приветствовал все то, что вносила наша перетрактовка его вещи47.
Недаром все мы сейчас свидетели его все большего и большего приближения из лагеря мелкобуржуазного все ближе и ближе к нам.
По нашей же трактовке трагедия внутри стенок романа фактически «доигрывается» гораздо раньше.
И камера. И тень электрического стула. И ярко начищенная… плевательница (из личных наблюдений в тюрьме «Синг Синг») у ножки его — все это не более как концовка для частного воплощения той трагедии, что продолжает ежечасно и ежеминутно неумолимо нестись и свирепствовать по Соединенным Штатам, далеко за пределами обложек романа.
Но не только к ситуационным заострениям и более глубокому вскрытию образов и характеров действующих лиц приводит выбранная, казалось бы, столь «сухая» и «прописная» формула социальной трактовки.
Она оказывает глубокое действие и на чисто формальные приемы. Так, собственно, благодаря ей и из нее окончательно сформулировалась концепция «внутреннего монолога» в кино, идея, с которой я ношусь уже лет шесть, еще до того как овладение звуком дало ей возможность действительно реализоваться.
Нуждаясь, как мы видели выше, в чрезвычайно дифференцированной отточенности экспозиции того, что происходит внутри Клайда перед самым моментом «несчастия с лодкой», мы увидели отчетливо, что одним показом внешних проявлений тут дела не разрешить.
Арсеналом сдвигаемых бровей, катящихся глаз, прерывисто «дышащей» или корчащейся фигуры, каменным лицом или крупными планами судорожной игры рук нам не обойтись, 77 чтобы выявить все тонкости внутренней борьбы и во всех ее нюансах…
И аппарат скользнул «вовнутрь» Клайда, тонально-зрительно стал фиксировать лихорадочный бег мысли, перемежающийся с внешним действием, с лодкой, с девушкой, сидящей напротив, с собственными поступками.
Зарождалась форма «внутреннего монолога».
Чудными были эти монтажные наброски.
Даже литература почти бессильна на этом пути. Ей приходится ограничиваться либо примитивной риторикой драйзеровской записи внутреннего лепета Клайда, или еще худшей фальшью ложноклассических тирад о’нейлевских героев48, произносящих вторичные монологи «а парте» о том, «что думают», сообщив публике то, что говорят («Strange Interlude»8*).
Театр еще более колченог в этом деле, чем ортодоксальная литературная проза.
Только киностихии доступно ухватить представление полного хода мыслей взволнованного человека.
Или уж если литературе, то только литературе, вышедшей за пределы своих ортодоксальных ограничений.
Предельно блестяще это решено внутри жестоких рамок литературных ограничений в бессмертных «внутренних монологах» агента по сбору страховых объявлений Леопольда Блума в замечательном «Улиссе» Джемса Джойса9*.
Недаром, встретившись со мной в Париже, Джойс так интенсивно интересовался моими планами в отношении «внутреннего киномонолога» гораздо более необъятных возможностей, чем литературный.
Несмотря на почти полную слепоту, он хотел видеть те части «Броненосца» и «Октября», что на киноучастке культуры выразительных средств движутся по сродственным путям50.
«Внутренний монолог» как литературный прием упразднения различия между субъектом и объектом в изложении переживаний героя в откристаллизовавшейся форме впервые отмечается в литературе и относится исследователями к 1887 г., к работам Эдуарда Дюжардена над «Срезанными лаврами»51.
Как тема, как мировосприятие, «ощущение», предмет описания, но не прием его, он встречается, конечно, и раньше. «Скольжение» из объективного в субъективное и обратно сугубо характерно для писаний романтиков: Э. Т. А. Гофман52, Новалис53, Жерар де Нерваль54 (о последнем см. «Двойная жизнь Жерара де Нерваль» Рене Бизе).
78 Но как прием литературного письма, не сюжетного переплетения, а формы литературного написания, как специфический прием изложения, как специфический прием конструкции, он впервые встречается у Дюжардена; своего же абсолютного литературного совершенства он достигает лишь у Джойса и Ларбо55 тридцать один год спустя.
Полное выражение, однако, он, конечно, сумеет получить только в кино.
Ибо только тонфильм способен реконструировать все фазы и всю специфику хода мысли.
Что это были за чудные наброски монтажных листов!
Как мысль, они то шли зрительными образами, со звуком, синхронным или асинхронным,
то как звучания, бесформенные или звукообразные: предметно-изобразительными звуками…
то вдруг чеканкой интеллектуально формулируемых слов — «интеллектуально» и бесстрастно так и произносимых, с черной пленкой, бегущей безобразной зрительности…
то страстной бессвязной речью, одними существительными или одними глаголами; то междометиями, с зигзагами беспредметных фигур, синхронно мчащихся с ними…
то бежали зрительные образы при полной тишине,
то включались полифонией звуки,
то полифонией образы.
То и первое и второе вместе.
То вклиниваясь во внешний ход действия, то вклинивая элементы внешнего действия в себя.
Как бы в лицах представляя внутреннюю игру, борьбу сомнений, порывов страсти, голоса, рассудка, «рапидом» или «цейтлупой»56, отмечая разность ритмов того и другого и совместно контрастируя почти отсутствующему внешнему действию: лихорадкой внутренних дебатов — каменной маске лица.
Как увлекательно прислушиваться к собственному ходу мышления, особенно в аффекте, чтобы ловить себя на том, что видишь? как? что слышится?!
Как говоришь «в себе», в отличие от «из себя». Каков синтаксис внутреннего языка, в отличие от внешнего. Каким дрожаниям внутренних слов сопутствует совпадающее зрительное изображение. Каким состояниям противоречащее. Как работает взаимоискажение…
Прислушиваться и изучать, чтобы понять структурные законы, и собрать их в конструкцию внутреннего монолога предельной напряженности борьбы трагического переживания.
Как увлекательно!
И какой разгон для творческой изобретательности и наблюдательности!
79 И как очевидно, что материал тонфильмы совсем не диалог.
Подлинный материал тонфильмы, конечно, — монолог57.
И как внезапно в своей практической воплощенности непредвиденного частного конкретного случая выразительности это целиком перекликнулось с теоретически давно предвидимым мною «последним словом» о монтажной форме вообще,
с тем, что монтажная форма как структура есть реконструкция законов мышленного хода.
Здесь трактовочная частность, оплодотворив новым и не бывшим формальным приемом, выходит за рамки его и обобщает в новый теоретический и принципиальный охват теорию монтажной формы в целом.
(Это, однако, отнюдь не означает, что мышленный ход как монтажная форма обязательно всегда должен иметь сюжетом ход мысли!)58 10*
… Записи томятся в нераспакованных чемоданах — в моей однокомнатной анфиладе, похороненной, как Помпея59, под грудой книг, — их даже распаковать некуда. Записи томятся в ожидании повода реализоваться.
… А картину снял фон Штернберг60, и прямо, буквально «как раз наоборот», изгнав все то, на чем базировались мы, и ввернув в картину все отвергнутое нами.
О «внутреннем же монологе» так Штернбергу и не приснилось никогда…
Фон Штернберг ограничился тем, что действительно все свел к полицейскому «простому случаю».
Сам Драйзер седовласым львом дрался за наше «искажение» его произведения и злобно судился с «Парамаунтом», формально внешне воплотившим протокол его сюжета.
Спустя два года экран увидел «Strange Interlude» О’Нейля, еще усугубив двойной и тройной экспозицией говорящих голов вокруг молчащего лица героя неповоротливую грузность его драматургической клинописи. Кровавая насмешка над тем, чем может быть монтажно правильно решенный принцип внутреннего монолога!
Работа подобного типа. Трактовочное решение вещи. Трактовочная расценка. А главное, осознание конструктивно-художественной и формально оплодотворяющей роли этой «скучной», «обязательной», «навязанной» идеологичности в идеологической выдержанности.
80 Осознание не схемой, а живым организмом произведения — вот та основная работа, что предстоит нашему коллективному режиссеру — режиссерскому коллективу третьего курса ГИКа.
И хотя и самую тему для этой работы мы будем искать по всем приемам нахождения ударной тематики из многообразия тематического океана вокруг нас, я все же думаю, что первым опытом на нашем пути будет решение фильмы на тему, давно ожидающую своего разрешения, — на тему о «молодом человеке XX века»,
— о «молодом человеке СССР».
1932
81 «Э!»
О
чистоте киноязыка*
Моя фамилия начинается на «Э». Тем не менее совершенно не важно, кто первый скажет «э»1 по данному вопросу. По вопросу о чистоте киноязыка.
Но так или иначе откликнуться на выступление т. Горького о языке в литературе — соображениями о состоянии киноязыка — нам следовало бы всем.
Киноязык не как рецензентский оборот речи, а как некоторое определившееся понятие, до известной степени связан с моими работами и комментариями к ним.
Поэтому беру роль застрельщика на себя.
Я не собираюсь говорить о говорящих фильмах. Вернее — о разговорной их части. Она говорит за себя. Даже кричит. И ее качественность, еще до оценки кинематографической, имеет столько неблагополучий чисто литературного порядка, что кинопретензии к ней могут и пообождать.
И не об этом языке я хочу говорить (смешно за это браться при небезызвестном собственном моем литературном стиле!). Я хочу сказать о некультурности кинематографического письма кинолент такой, какой она проходит сегодня по экранам.
По части кинописьма наша кинематография сделала очень много для кинокультуры. Гораздо больше, чем моду.
Правда, на Западе многое из специфики наших выразительных средств укрепилось не глубже, чем мода. Мелко нарезанные куски фильмы, скрепленные при помощи грушевой эссенции, так же вошли в киноменю под названием «russischer Schnitt», «Russian 82 cutting»11*, как в программах ресторанов держится термин «Salade russe»12* для определенно нарезанных и заправленных разновидностей сельхозпродуктов.
Мода.
Моды проходят — культура остается. Иногда за модой культуру не замечают. Иногда культурное достижение выбрасывают вместе с отжившей модой.
Пусть так для Запада.
Негритянская пластика, полинезийские маски или советская манера монтировать картины — для Запада прежде всего экзотика.
И только экзотика.
Об извлечении общекультурной ценности, об освоении принципов, об использовании достижений, с тем чтобы принципиально двигать культуру дальше, конечно, не может быть и речи.
К чему?! Завтра магнаты моды — Пату, Ворт, м-м Ланвен2 разных областей лансируют13* новый фасон. Из какого-нибудь Конго привезут по-новому обработанные колониальными рабами слоновые бивни. Где-нибудь на монгольских равнинах докопаются до каких-нибудь новых позеленевших пластинок бронзы работы рабов эпох, давно отживших.
Все хорошо. Все на пользу. Все на доход.
Рост культуры? Кому какое дело.
Казалось бы, с таким отношением к культуре и к культурным достижениям после Октября давно покончено.
В музеях в выходные дни не протолкнуться. Рабочий с женой и ребятами стоит в очереди в Третьяковку.
В читальню не втиснуться — столько народу.
Доклады, лекции — переполнены. Всюду бережливость, внимание, интерес. Хозяйское освоение дореволюционных достижений.
В кинематографе же чисто буржуазная бесхозяйственность. И не только по сметам. Легкомыслие. И не только по календарным планам.
Полный неучет и пренебрежение ко всему тому, что уже в советское время советскими руками на советском материале и по советским принципам внесено и создано в области кинокультуры.
Прекрасно: «освоили классиков»3. (Прекрасно или нет — вопрос другой и весьма спорный!) Запишем в актив.
Но это нисколько не снимает вопроса. Почему же их следует подавать в том полном забытии всех выразительных средств и возможностей кинематографа, в котором они сверкают на экране?!
Театрального актера освоили (лучше, чем классиков). Прекрасно!
Но опять-таки встает вопрос: «за хвостик тетеньки держаться»4?
83 Даже если эта тетенька такая прекрасная актриса, как Тарасова5!
Или кинематографическая культура была бы не на пользу, а во вред хорошей ее игре?
Между тем в кадрах… «мура». В сочетании кадров… «буза». А монтаж явно… «подъелдыкивает».
В результате, глядя на экран, испытываешь сладостное чувство, как будто глаз ваш берут лапками сахарных щипцов и нежно-нежно поворачивают то вправо, то влево и наконец выворачивают полным кругом, чтобы затем втолкнуть его обратно в растерянную орбиту. Скажут: «это у вас глаза такие», «зрителю не важно», «зритель не замечает», «зритель не кричит». Совершенно верно. И читатель не кричит. И нужен не крик, а грозный окрик. Авторитетный окрик т. Горького, чтобы литература заметила элементы собственной распоясанности. От «бузы» читатель не умирает. Не смерть ему несет «мура». И не в гроб его заелдыкивает небрежность к литературному языку.
Тем не менее сочли за нужное литературный слух читателя взять под защиту. Чем хуже зрение читателя, когда он становится кинозрителем?
Чем же хуже ухо его в сочетании с глазом, когда он присутствует при звукозрительной катастрофе, претендующей на звание звукозрительного контрапункта?
Характерно — фильмы стали именоваться «звуковыми». Должно ли это означать, что то, что при этом видишь, не заслуживает внимания?
А так получается.
В этом месте скажут ехидно: «Эге, старый черт, заскулил о монтаже».
Да, о монтаже.
Для многих еще монтаж и левый загиб формализма — синонимы.
А между тем…
Монтаж вовсе не это.
Для тех, кто умеет, монтаж — это сильнейшее композиционное средство для воплощения сюжета.
Для тех, кто о композиции не знает, монтаж — это синтаксис правильного построения каждого частного фрагмента картины.
Наконец, монтаж — это просто элементарные правила киноорфографии для тех, кто по ошибке составляет куски картины вместо того, чтобы замешивать по готовым рецептам лекарства, солить огурцы, мариновать сливы или мочить яблоки в бруснике.
И пуговица, и кушак, и подтяжки, тоже ставши самоцелью, могут вести к нелепости.
Не только монтаж…
84 Но я хотел бы видеть свободу выразительных действий рук человека, лишенного в нижней части своего туалета этих поддерживающих агрегатов.
В фильмах встречаются отдельные хорошие кадры, но в этих условиях самостоятельные живописные качества и достоинства кадра становятся собственной противоположностью. Не увязанные монтажной мыслью и композицией, они становятся эстетической игрушкой и самоцелью. Чем лучше кадры, тем ближе фильма к бессвязному набору красивых фраз, витрине магазина случайных вещей или альбому почтовых марок с видами.
Мы отнюдь не за «гегемонию» монтажа. Время прошло, когда в целях педагогических и воспитательных нужно было делать некоторый тактический и полемический перегиб в целях широкого освоения монтажа как выразительного средства кино. Но ставить перед собой вопрос о грамотности кинописьма мы обязаны и должны. Требовать не только, чтобы качество монтажа, киносинтаксиса и киноречи не уступало качеству прежних работ, но чтобы оно их превысило и превзошло, — это то, чего от нас требует дело борьбы за высокое качество культуры кино.
Литературе легче. Критикуй ее, ей есть что противопоставить из классиков. Ее наследство и достижения во многом исследованы до тончайших деталей микроскопически. Анализ композиционного и образного строя гоголевской прозы, сделанный хотя бы покойным Андреем Белым6, стоит живым укором перед любым литературным легкомыслием.
Кстати, Гоголю повезло и на кино. Прежде чем погрузиться в полную бесформенность, последней, пожалуй, вспышкой чистоты монтажной формы в звуковом кино было как бы переложение гоголевского текста в зрительный материал.
Под прекрасную зрительную поэму Днепра в первой части «Ивана» Довженко7, я думаю, можно успешно декламировать гоголевский «Чуден Днепр».
Ритм съемок с движения. Оплывания берегов. Врезка неподвижных водных пространств. В чередовании и смене их уловлена магия гоголевской образности и оборотов речи. Все эти «не зашелохнет, не прогремит». Все эти «глядишь и не знаешь, идет или не идет его необъятная ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла» и т. д. Вот где литература и кино дают образец самого чистого слияния и сродства. И еще вспоминается при этих кусках… Рабле8. Его поэтичное предвосхищение «образа» теории относительности в описании острова «путей путешествующих» («des chemins cheminants»):
«… Селевк14* здесь пришел бы к заключению, что земля движется вокруг своей оси, а не небо вокруг земли, хотя нам и кажется 85 наоборот, подобно тому как, плывя по Луаре, мы видим, будто движутся деревья, а на самом деле движется лодка, на которой мы находимся…» (Книга V, глава XXVI, «Как мы сошли на остров Годос, где дороги ходят».)
Мы задержались на этом примере, ибо это, пожалуй, лебединая песня чистоты киноязыка нашего сегодняшнего экрана. Даже и для «Ивана». Последующие его части нигде не подымаются до совершенства этого фрагмента.
Скажут: «Чуден Днепр» — поэма.
Дело вовсе не в этом. На основании этого следовало бы предполагать, что строй прозы, например, Золя непременно должен был бы являть «натуралистический хаос».
Между тем мне как-то пришлось в одном исследовании видеть его страницы разбитыми на строфы эпической поэмы. И эти страницы «Жерминаля»9 читались почти со строгостью гомеровских гекзаметров.
Это были эпизоды, близкие к зловещей сцене, когда во время бунта перед приходом жандармов громят лавку мироеда и насильника Мегра. Когда разъяренные женщины под предводительством Ла Брюле и Мукетты «холостят» труп ненавистного лавочника, сорвавшегося в своем бегстве с крыши и раскроившего себе череп о тумбу. Когда окровавленный «трофей» вздернут на шест и проносится в процессии.
(«… Что это у них на конце шеста, — спросила Сесили, рискнувшая выглянуть. Люси и Жанна заявили, что это, должно быть, шкура кролика.
— Нет, нет, — прошептала мадам Энбо, — они разгромили мясную лавку — это, верно, кусок свинины.
В это время она вздрогнула и замолчала…
Мадам Грегуар толкнула ее коленкой. Обе застыли с раскрытыми ртами…»).
Эта сцена сама по себе, как и предшествующая ей сцена толпы женщин, пытающихся публично высечь Сесили, относится, конечно, к стилизационно цитатной пересадке эпизодов, видимо, поразивших Золя в анналах Великой французской революции.
Попытка женщин в отношении Сесили вторит известному эпизоду экзекуций Теруань де Мерикур10.
Вторая же сцена невольно заставляет вспомнить, может быть, и менее известный и популярный эпизод из материалов Мерсье. Когда прорывается заслуженная ненависть народа к принцессе де Ламбалль11, ближайшему другу Марии Антуанетты, и народный гнев расправляется с ней в воротах тюрьмы Ла Форс, один из участников «срезает у трупа срамные части и из них делает себе усы» (Mercier, «Paris pendant la Revolution»). Любопытен на это поздний комментарий журнала «Intermédiaire» от 1894 г.:
86 «… Все рассказано о том, чему подвергалась несчастная принцесса. Но коллекционеры не имеют уважения ни перед чем! Я видел, лет двадцать назад, в одном из замков в окрестностях Льежа (Бельгия) благоговейно сбереженные, совершенно высохшие и расправленные на атласной подушечке органы принцессы де Ламбалль».
В пользу стилизационной обработки эпизодов именно под эту эпоху говорит и не случайно избранное из месяцеслова этой же эпохи название самого романа «Жерминаль». Если это обращение за темпераментом и пафосом к прежней патетической эпохе во многом определило ритмическую четкость формы его литературного письма, то распространение его же на разработку эпизодики — не из благополучных.
Аналогичным образом пострадала и наша фильма «Октябрь» в части своей, касающейся июльских дней семнадцатого года. Во что бы то ни стало хотелось в исторический случай с избиением и убийством озверевшей буржуазией рабочего-большевика дать «ноту» Парижской коммуны. Получилась сцена с дамами, избивающими зонтиками рабочего: сцена, крепко выпадающая по духу из общего ощущения предоктября.
Это мимоходное замечание может быть не бесполезно. Литературным наследием, культурой образа и языка прежних эпох нам приходится пользоваться часто. Оно часто и во многом стилистически определяет наши работы. И наравне с положительными образцами не вредно отмечать и неудачи.
Возвращаясь снова к вопросу чистоты киноформы, я легко могу нарваться на возражение, что мастерство кинописьма и киновыразительности еще очень молодо и образцов классической традиции не имеет. Что я, дескать, нападаю, не противопоставляя положительных образцов, отделываясь литературными аналогиями. У многих даже может появиться сомнение — да есть ли что-либо подобное в этом «полуискусстве», под маркой коего для многих еще ходит кино.
Простите. Все это так.
А между тем наш киноязык, не зная своих классиков, обладал большой строгостью формы и кинописьма. На определенном этапе наше кино знало такую же строгую ответственность за каждый кадр, допущенный в монтажную последовательность, как поэзия — за каждую строку поэмы или музыка — за закономерность движения фуги.
Примеров из практики нашей немой кинематографии можно было бы привести достаточно много. Не имея времени специально разбирать сейчас другие образцы, позволю себе привести здесь пример анализа по одной и из собственных работ. Он взят из материалов к заканчиваемой мною книге «Режиссура»12 (часть вторая — «Мизанкадр»13) и касается «Потемкина». Чтобы показать 87 композиционную обусловленность между собой пластической стороны сменяющихся кадров, там умышленно выбирается пример не из ударных сцен, а первое попавшееся место: четырнадцать последовательных кусков из сцены, предшествующей расстрелу на «Одесской лестнице». Сцены, когда «господа одесситы» (как гласило обращение потемкинцев к жителям города Одессы) посылают ялики с продовольствием к бортам мятежного броненосца.
Взлет приветствий строится на отчетливом скрещивании двух тем:
1. Ялики устремляются к броненосцу.
2. Жители Одессы машут.
В конце обе темы сливаются.
Композиция в основном двухпланная: глубина и передний план. Темы, чередуясь, берут верх, выступая на передний план и отводя друг друга на задний.
Композиция строится: 1) на пластическом взаимодействии обоих планов (внутри кадра), 2) на смене линий и форм по каждому плану от кадра к кадру (монтажно). Во втором случае композиционная игра образуется из взаимодействия пластического впечатления предыдущего кадра в столкновении или взаимодействии с последующим. (Здесь разбор по чисто пространственному и линейному признаку. Ритмически временное соотношение исследуется в другом месте.)
Движение композиции (см. прилагаемые таблицы) идет следующим образом:
I. Ялики в движении. Ровное движение, параллельное горизонтальному обрезу кадра. Все поле зрения занято первой темой. Игра мелких вертикальных парусов.
II. Усиливающееся движение яликов первой темы (этому еще способствует вступление второй темы). Вторая тема вступает на первый план строгим ритмом вертикальных неподвижных колонн. Вертикальные линии прочерчивают пластическое размещение будущих фигур (IV, V и т. д.). Взаимная игра горизонтальных следов и вертикальных линий. Тема яликов отодвигается вглубь. В нижней части кадра вступает пластическая тема дуги.
III. Пластическая тема дуги разрастается на весь кадр. Игра смены членения кадра вертикальными линиями — дуговым построением. Тема вертикали сохраняется в движении людей, мелко идущих от аппарата. Тема яликов окончательно отодвинута вглубь.
IV. Пластическая тема дуги окончательно занимает первый план. Из оформления аркой переходит в противоположное разрешение: прочерчивается контуром группы, оформленной по кругу (зонтик дочерчивает композицию). Тот же переход в противоположность происходит и внутри вертикального построения: спины 88 мелко двигавшихся вглубь людей сменяются крупными, неперемещающимися фигурами, снятыми с лица. Тема движения яликов сохраняется отраженно в выражении глаз и в их движении по горизонтали.
V. В первом плане обычная композиционная вариация: четное количество лиц сменяется нечетным. Два на три. Это «золотое правило» смены мизансцен имеет под собой традицию, восходящую еще к итальянской commedia dell’arte14 (направление взглядов при этом еще перекрещивается). Мотив дуги снова распрямляется, на этот раз в противоположную изогнутость. Ему вторит, его поддерживая, новый параллельный дуговой мотив фона — балюстрада. Тема яликов — в движении. Глаз — растягивается на всю ширину кадра по горизонтали.
VI. Куски I – V дают переход из темы яликов в тему смотрящих, развернутую на пять монтажных кусков. Интервал V – VI дает резкий обратный переход со смотрящих на ялики. Композиция, строго следуя содержанию, резко оборачивается всеми признаками в противоположность. Линия балюстрады из глубины резко выбрасывается на передний план, повторяясь линией борта лодки. Ее сдваивает линия соприкасания лодки с поверхностью воды. Основное композиционное членение одинаково, но разработка противоположна. V — статичен. VI — прочерчивается динамикой передвижения лодки. Деление на «три» по вертикали сохраняется у обоих кадров. Центральный элемент фактурно схож (рубашка женщины — материал паруса). Боковые элементы резко противоположны: черные пятна мужчин по бокам женщины и белые пролеты по бокам паруса. Членения по вертикали тоже противоположны: три фигуры, обрезанные низом кадра, переходят в вертикальный парус, обрезанный верхом кадра. Фоном выступает новая тема — броненосец в виде борта, срезанного сверху (подготовка к куску VII).
VII. Новый резкий оборот темы. Тема фона — броненосца — выдвигается на первый план (скачок оборота темы от V к VI служит как бы форшлагом15 к скачку VI – VII). Точка зрения поворачивается на 180°; съемка с броненосца на море — обратная VI. На этот раз борт броненосца на первом плане и обрезан снизу. В глубине тема парусов, работающая вертикалями. Вертикаль матросов. Дуло в статике продолжает линию движения лодки предыдущего куска. Борт кажется дугой, перешедшей в прямую линию.
VIII. Повторяет IV в повышенной интенсивности. Горизонтальная игра глаз перебрасывается в вертикаль машущих рук. Тема вертикали из глубины выходит на первый план, вторя сюжетному переносу внимания на смотрящих.
IX. Два лица крупнее. Вообще говоря, неблагополучное сочетание с предыдущим куском. Следовало бы ввести между ними кусок
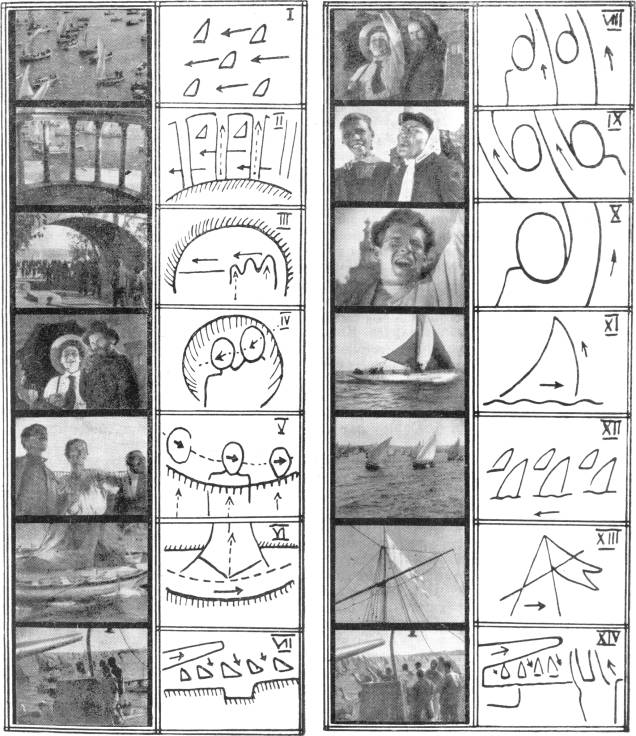
90 в три лица. Например, повторить кусок V тоже в повышенной интенсивности.
Получилось бы построение 2 : 3 : 2. Кроме того, повторение привычной группы IV – V с новой концовкой IX заострило бы восприятие последнего куска. Положение спасает некоторое укрупнение плана.
X. Два лица переходят в одно. Очень энергичный взлет руки за кадр. Правильное чередование лиц (если ввести поправку между VIII и IX) — 2 : 3 : 2 : 1. Вторая пара с правильным увеличением размера в отношении первой пары (правильный повтор с качественной вариацией). Линия нечетных различна и количеством и качеством (различны размеры лиц и различны их количества при соблюдении общего признака нечетности).
XI. Новый резкий оборот темы. Скачок, повторяющий V – VI в повышенной интенсивности. Вертикальный взлет предыдущего кадра повторяется вертикальным парусом. При этом вертикаль этого паруса проносится по горизонтали. Повтор темы VI в большей интенсивности. И повтор композиции II с той разницей, что тема горизонтали движения яликов и вертикали неподвижных колонн здесь сплавлена в одно горизонтальное перемещение вертикального паруса. Композиция вторит сюжетной линии единства и слитности яликов и людей на берегу (прежде чем перейти к окончательной теме слияния: берега через ялики с броненосцем).
XII. Парус XI рассыпается во множество вертикальных парусов, мчащихся горизонтально (повтор куска I в повышенной интенсивности). Малые паруса движутся в направлении, обратном большому.
XIII. Рассыпавшись на мелкие паруса, большой парус собирается вновь, но на этот раз уже не в парус, а в знамя над «Потемкиным». Новое качество куска, оно и статично и подвижно, — мачта вертикальна и неподвижна, полотнище рвется по ветру. Формально кусок XII повторяет кусок XI. Но замена паруса знаменем переводит принцип пластического объединения к объединению идейно-тематическому. Это уже не только вертикаль, пластически объединяющая отдельные элементы композиции, — это революционное знамя, объединяющее броненосец, ялики и берег.
XIV. Отсюда естественный возврат от флага к броненосцу. XIV повторяет VII. Тоже в повышенной интенсивности.
Этот же кусок вводит новую композиционную группу взаимоотношений яликов и броненосца, в отличие от первой группы яликов и берега. Первая группа выражала тему: «ялики несут приветствия и подарки берега броненосцу». Вторая группа будет выражать братание яликов и броненосца.
Композиционным водоразделом и одновременно идеологическим 91 объединителем обеих композиционных групп служит мачта с революционным знаменем.
Кусок VII, повторяемый первым куском второй группы XIV, является как бы форшлагом второй группы и элементом скрепления обеих групп между собой, как бы «рейдом» последующей группы в предыдущую. Во второй группе такую же роль будут играть куски машущих фигур, врезающиеся между сценами братания яликов и броненосца.
Не следует думать, что и съемка и монтаж этих кусков производились согласно этим таблицам, сделанным априори. Конечно, нет. Но сборка и взаимное размещение этих кусков на монтажном столе уже четко диктовались композиционными требованиями киноформы. Эти требования диктовали отбор кусков из всех, имевшихся в распоряжении. Они же устанавливали закономерность смены кусков. Действительно, ведь куски эти, рассмотренные только анекдотически и сюжетно, могут быть переставлены в любых сочетаниях. Но композиционное движение через них вряд ли окажется в этом случае столь же закономерным по построению.
Не следует также роптать на сложность разбора. По сравнению с анализами литературной и музыкальной формы наш разбор еще довольно наглядный и легкий.
Оставляя пока в стороне вопросы ритмического обследования, мы в нашем разборе имеем как бы анализ смены звуковых и словесных сочетаний.
Разбор самих объектов съемки и их обработки ракурсом камеры и света, исходя из требований стиля и характера содержания, отвечал бы анализу выразительности самих фраз, слов и их фонетических признаков в литературном произведении.
Мы убеждаемся в том, что требования, которые ставит себе кинокомпозиция, ни в чем не уступают требованиям соответствующих разделов литературы и музыки.
Зритель, конечно, меньше всего циркулем выверяет закономерность построения последовательных кадров в монтаже. Но в его восприятие закономерная монтажная композиция вносит те же элементы, которые стилистически отличают страницу культурной прозы от страницы Графа Амори, Вербицкой или Брешко-Брешковского16.
Сейчас советская кинематография исторически правильно включается в поход за сюжет. На этом пути еще много трудностей, много риску ложно понять принципы сюжетности. Из них самый страшный — недоучесть те возможности, которые дало нам временное раскрепощение от старых традиций сюжета:
возможность принципиально по-новому пересмотреть основы и проблемы киносюжета
и двигаться в кинематографическом поступательном движении не «назад» к сюжету, а «к сюжету вперед».
92 На этих путях четкой художественной ориентации пока что еще нет, хотя отдельные положительные явления уже обрисовываются.
Но, так или иначе, к моменту, когда мы овладеем четко осознанными принципами советской сюжетной кинематографии, ее во всеоружии должна встретить безупречная чистота и культурность кинематографического языка и речи.
Великих наших мастеров литературы от Пушкина и Гоголя до Маяковского и Горького мы ценим не только как мастеров сюжета. Мы ценим в них культуру мастеров речи и слова.
Пора во всей остроте снова ставить проблемы о культуре киноязыка.
Важно, чтобы по этому поводу высказались все киноработники.
И прежде всего языком монтажа и кадров своих кинокартин.
1934
93 ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕСОЮЗНОМ ТВОРЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ*
Ужасно невыгодно, когда встречают аплодисментами: получив их авансом, еще более беспокоишься за то, что случится к концу выступления.
Вы знаете, что я выступаю скверно и говорю плохо. Думал я отделаться на этом выступлении совсем короткими двумя-тремя высказываниями. Но, как показало наше предварительное совещание и как показало выступление Сергея Сергеевича1, нужно поговорить о целом ряде вещей. Ряд вопросов, которые, казалось бы, давно уже отошли в вечность, еще продолжают кое-кого беспокоить и еще вплетаются в дискуссии после того, как они, собственно говоря, уже не существуют. И вот поэтому мне кое о чем нужно будет все-таки сказать, пересмотреть кое-что из тех положений, которые я когда-то высказывал: посмотреть, как они звучат в новом качестве; установить, что с ними происходит, и все такое прочее. Может быть, кое на чем будет поставлен крест, а может быть, и нет…
С места: Запишите в стенограмме, что Эйзенштейн при этом улыбается.
Нет, ремарок никаких, это просто нечестно.
Тут велся целый ряд разговоров о моем отношении к нашему кинематографическому наследству в связи с пятнадцатилетием советской кинематографии. Вы знаете, что всяческие были споры вокруг этого и что у меня есть кое-какая не безызвестная точка зрения по этим вопросам, но из нее делался и ряд всяческих выводов, отнюдь не отвечавших ей.
Я хотел бы прежде всего сказать о моем общем отношении к пятнадцатилетию нашей кинематографии. Я думаю, что в «Известиях», в моей последней статье2, довольно точно сказано об 94 отношении к кинематографии в целом, которое у меня есть. Никакого затирания, или «обливания грязью» какого-то периода, или недооценки какого-то этапа у меня нет. Там сказано совершенно точно, какое представление у меня обо всем пятнадцатилетии в целом. Причем нужно сказать, что в «Известиях» в силу ограниченности «жилплощади», которую мне там отвели, кое-что сократили, и, может быть, полнота того образного ощущения, которое я имею в отношении всего пятнадцатилетия, недостаточно рельефно видна. А мысль мною там была высказана та, что смена стилей и общий строй, по которому прошла наша кинематография, самый процесс хода и развития ее является как бы своеобразным, комплексным образом, который отражает тот революционный ход, которым шла сама история.
Начинается наша кинематография со стихийно-массового «протагониста», с героя — массы. Затем, к завершению своего первого пятнадцатилетия, стихийно-массовый стиль первого периода начинает индивидуализироваться на экране серией отдельных образов, отдельных фигур. Возникает целая серия индивидуальных фигур и характеров большевиков, показанных во всем разнообразии их подпольной и революционной борьбы, их боев на фронтах гражданской войны и их работы в деле строительства социализма. Причем общая картина пятнадцатилетия в целом как бы символизирует это единство вождей, героев и массы в одном целостном и объемлющем образе. Эту поправку и уточнение мне и хотелось бы привести.
Там же я писал еще и о том, что этот самый процесс, который происходит внутри нашей кинематографической тематики, процесс перехода от революционных обобщений «вообще» к партийно-революционной тематике, как бы является символом не только для нашей кинематографии; он является своеобразным символом большевизации масс и на Западе, которая начинается с того единого фронта против фашизма, о котором мы все знаем.
Вот какое общее ощущение у меня в отношении всего пятнадцатилетия кинематографии. И вряд ли оно заслуживает нападок.
Когда же мы переходим к разбору отдельных фаз нашей кинематографии, смены их и прихода к последним достижениям, то тут мною была намечена некоторая трехколенная схема, которая, надо сказать, вызвала ряд нападок, кулуарных разговоров, обид, раздражений и пр. Я не берусь утверждать, что набросанная мною схема — исчерпывающая. Как всякая схема, она, конечно, несколько условна и… схематична. Но в основном я думаю, что в ней взяты и правильно уловлены некоторые тенденции того движения кинематографического развития, через которое мы прошли. Строя дальше, вперед, мы должны себе дать отчет, чем были достижения, чем были недочеты отдельных этапов, через которые мы прошли, и что из того, что было пройдено, было неправильно, что верно; 95 какие явления и точки зрения верны только для своего периода; какие элементы могут идти дальше в новом качестве. Надо вообще подвести некоторые итоги.
Мне казалось, что целый ряд формулировок, которые существовали раньше, уже давным-давно износились и уже не существуют как объект обсуждения. Между тем из разговоров с товарищами и из доклада С. С. Динамова видно, что по целому ряду вопросов нужно еще договориться. Поэтому я и позволю себе пересмотреть некоторые тенденции, которые у нас были и которые продолжают еще служить объектом разборов и беспокойств.
Вы знаете, что я условно разделяю нашу кинематографию на три этапа, причем третий или четвертый этап, как хотите, это тот синтетический этап, который сейчас начался и который имеет уже определенные достижения, как «Чапаев», [«Юность Максима», «Крестьяне»]15* и «Стяжатели» Медведкина3.
Я делил так: 1924 – 1929 годы идут под ведущим знаком типажных и монтажных устремлений. Следующий этап — с 1929 по конец 1934 года. Этот этап шел главным образом под знаком приближения к проблемам характера и драмы. При этом как признак характера, так и признак драмы, по существу, являются следующей ступенью развития того, что эмбрионально в предыдущем периоде фигурировало как типаж и как монтаж.
Каковы же были основные установки этого первого периода 1924 – 1929 годов?
Я на первое место ставлю вопрос типажа. Причем я рассматриваю это не как признак отдельных произведений, отдельных мастеров, а я рассматриваю это как одну из больших общих тенденций, которая господствовала над всем киноискусством того периода.
Типаж я понимаю здесь в очень широком смысле. У отдельных мастеров и отдельных групп он принимал особый оттенок, особую характеристику, но основное направление здесь было одно и то же. А направление было такое, чтобы те факты и тех людей, которых показывала или выносила современность в тот период, показывать в минимально «обработанном» и переработанном виде. Эта тенденция по-разному преломлялась у разных мастеров. Крайнюю позицию занимал лозунг «киноглаза», где никакое вмешательство не допускалось, — это было как программная установка. Мы знаем, что в других случаях (мастерская Кулешова) актер становился натурщиком. В работе Пудовкина актер-профессионал работал как частный случай человека, как частный случай натурщика…
В моих работах типажный принцип в этом понимании типажа был выдержан, может быть, наиболее последовательно, причем к концу моих работ того периода я дохожу до того, что та же Марфа Лапкина4 начинает играть, то есть имеем другую крайность — 96 типаж, использованный в качество актера. (Что из этого вышло, вы сами знаете.)
Основной задачей было по возможности художественно не преобразовывать и не воссоздавать, а «демонстрировать» того человека, которого мы на экране представляли. Было некоторого рода «невмешательство» в то, что мы брали. Это было основным признаком этого периода.
Такое же отношение было и к материалу, например к историческому событию, то есть этот признак распространялся не только на отдельного человека, которого мы представляли, но и на характер тех событий, которые мы воспроизводили: мы старались исторические события брать такими, какие они есть, и по возможности не перекомпоновывать в драму то, как они происходили.
Этот метод обращения с типажем сыграл очень большую роль, он стал резко стилистическим. Действительно, раз вещь старается остаться неизменяемой, не подвергается волевому видоизменению со стороны того, кто ее оформляет, то остается одно средство — средство сопоставления этих неискаженных объектов, то есть то, что мы называем монтажом. И мы видим, что за этот период изысканность (и в хорошем и в дурном смысле этого слова) в области монтажа соприкасается с основными методами, которыми воспроизводится действительность. В ряде произведений этого периода прекрасно, гармонически уживаются внутрикадровость и монтаж. Но мы также знаем, что этот самый монтаж сыграл, как таковой, до известной степени злую штуку над теми, кто старался вощи минимально искажать. Он-то в первую очередь как раз и стал именно тем средством, которым стали всячески перестраивать и видоизменять те материалы действительности, которые стремились сохранить в неприкосновенности. Монтаж до известной степени забирает в свои лапы все элементы кино. В это время появляются, например, мои высказывания, настолько максималистские, что некоторым начинает казаться, что мною совершенно недооценивается так называемое внутрикадровое содержание, хотя это было бы вопиющей нелепостью. Но люди это так поняли и, пожалуй, даже скорее приписали подобную ригористичность моим высказываниям. Однако тот факт, что акцент, что центр тяжести исканий тогда находился над проблемой сопоставлений, на монтаже, — очевиден.
Дальше дело шло тем путем, что процесс сопоставления в киномонтаже вообще стал в центре внимания, и мною была предложена такая формулировка, что сам ход сцеплений, сам процесс смены кадров может становиться якобы содержанием картины, то есть то, что мы тогда называли интеллектуальным кино, где сам процесс хода смен и изменений может служить (поскольку он был несколько абстрактен) произведению для того, чтобы воплощать абстрагированное понятие. Это была, пожалуй, последняя точка, до 97 которой монтажная концепция могла дойти. Тут речь идет об общей концепции, которая была популярной тогда. На мою долю выпало эту тенденцию заострить до предела. До последней точки.
Чем же было «интеллектуальное кино», о котором мне приходится говорить, потому что о нем говорят как о некоторой норме, якобы сохранившей некоторую актуальность и сбивающей целый ряд людей на подобные работы. Во-первых, нужно очистить это понятие изнутри. Дело в том, что в порядке вульгаризации под определение «интеллектуальное кино» старались подводить любой фильм, лишенный эмоциональности! Когда появлялся какой-либо бредовый фильм, то непременно говорили, что это фильм интеллектуальный. Между тем в действительной практике есть всего лишь отдельные места в картине «Октябрь»16*, в которых имеются практические наметки на те возможности интеллектуального построения путем кино, которые тогда выявились как некоторая теоретически возможная разновидность.
Совершенно неправильно, когда под знак «интеллектуального кино» хотят подвести, допустим, возможную недостаточную эмоциональность в «Старом и новом», которая, может быть, в картине есть. Между тем дело обстоит скорее наоборот: когда мы говорили об интеллектуальном кино, то мы прежде всего имели в виду такое построение, которое могло вести мысль аудитории, причем при этом исполнять известную роль для эмоционализации мышления. Этот момент есть и в той цитате, которую зачитал Динамов из моего выступления в Сорбонне5. Если вы помните мою статью «Перспективы», в которой это писалось, то именно эта эмоционализация мысли являлась одной из основных задач. Именно таким образом мы это дело и представляли. Поэтому наравне с обоснованными обвинениями по адресу моих высказываний против роли «живого человека»6 на кино весьма обоснованно звучит обвинение о разрыве между эмоцией и интеллектом! Наоборот! Я писал: «дуализму сфер “чувства” и “рассудка” новым искусством должен быть положен предел…» «Вернуть… интеллектуальному процессу его пламенность и страстность. Окунуть абстрактный мыслительный процесс в кипучесть практической действительности…» и т. д. и т. п.
Эта устремленность идет чрезвычайно отчетливо в ногу с другой тенденцией, характерной для того же периода: отрицанием образности и образа, тесно связанной с конструктивистской «эстетикой». Вы знаете, что целое направление кинодокументализма сохранило до известной степени эту традицию вплоть до самого последнего времени. Их ошибка была в том, что, пропагандируя факт, они упускали из виду, что в тот период факт являлся одновременно 98 образом. Завертевшееся колесо было не только факт, это был в то же время образ, образное представление о нашей стране, которая выходила из полосы разрухи.
Эта собственная неотчетливость в области того, что ими было сделано (был ли это факт или больше чем факт), легла до известной степени отпечатком на дальнейшую методологию документалистов.
Мы делали аналогичные ошибки, недоучитывая, где же «основное звено» в том, что нам удавалось и что доходило до зрителя.
Нам казалось, что человеческий образ и образ его действия целиком может быть замещен… экранизированным образом мысли!
Любопытно, что практически по линии воздействий мы сами, однако, широко пользовались и иными средствами!
Вспомните хотя бы ту же Марфу Лапкину.
Но, анализируя свои работы, мы иногда центр тяжести видели не в том, в чем он фактически находился. С другой стороны, открывался в «Потемкине», «Октябре» целый ряд таких формальных возможностей, которые хотя и не служили основным воздействием, но манили, как возможность, и как новая возможность, естественно, кружили голову и слишком, может быть, переоценивались.
Меня очень интересовал вопрос, чем, собственно говоря, объяснить эту специфику того периода. Почему, собственно говоря, в те поры имелся этот характер кинематографии и почему именно этот характер выбивался, так сказать, на первый план, так как мы знаем и о других стилистических направлениях внутри этого периода.
Конечно, для того чтобы это дело разобрать, можно обратиться к исследованиям, которые в этой области есть. Скажем, есть такие высказывания Анисимова7, где это объяснялось принадлежностью к технической интеллигенции. Есть суждения, которые высказывал в свое время Сутырин8, объясняя эти вещи разодранностью в сознании тех людей, которые делали тогда кинематографию. Но я не думаю, что эти объяснения были очень вески и убедительны.
Когда я старался разобраться, каковы же, собственно говоря, действительные предпосылки к тому, что мы именно так видели и представляли окружающий нас мир, мне оставалось одно: честно пересмотреть, какими же чувствами во мне самом диктовалась та форма, в которой я старался тогда выразить наше содержание. Здесь надо сказать, что основным фактором было очень любопытное отношение, которое у многих из тогдашних творческих работников было к революционным событиям. Большинство из людей (я здесь говорю и автобиографически и расширяя вопрос за пределы только личной моей биографии) пришли к кинематографии, главным образом уже пройдя известный стаж гражданской войны. Причем нужно отметить, что наше участие в гражданской войне и в революции во многих случаях, и в большинстве случаев, было скорее техническим, чем перспективно-ведущим. Мы были некоторым 99 образом на том положении, на котором оказались потом «попутчики» в литературе. И вот тот факт, что с окончанием гражданской войны мы, собственно говоря, впервые увидели весь размах того, в чем мы участвовали, может быть, еще не до конца осознавая этот факт, наложил своеобразный отпечаток на наше отношение к материалу действительности. Социально-психологическую предпосылку к тому, что мы типажно в порядке неприкосновенности воспринимали явления и людей нашей революционной действительности, я вижу в том, что, вернувшись с гражданской войны, мы впервые встретились с этими явлениями. У нас волей-неволей возник пиетет при первой встрече, который и определил наше стремление не врываться, не перестраивать, не видоизменять того, что мы изображали. Так подавляюще, ново и неизведанно было то, с чем мы впервые сознательно встречались, сталкивались. И это было верно не только в отношении сопереживаемой истории. Но и в предыстории — революционного прошлого, на которое тоже впервые открывались глаза.
Может быть, мое утверждение спорно, но я о нем говорю в порядке до известной степени автобиографическом. Я думаю, что это, вероятно, верно и не только для меня. Многие из вас, если вдумаются в то отношение, которое существовало в те периоды между нами и революционной действительностью, согласятся в этом со мной. Ведь, по существу, те люди, которым приходилось делать кинематографию того периода, были в большой степени людьми, пришедшими к революции в положении того, чем были «попутчики» в литературе. Между тем отдельной линии попутничества как такового кино не знало. Но этот «попутнический» элемент сказался на разбираемой специфике стиля внутри самих произведений, а не в виде отдельной самостоятельной «попутнической» линии, шедшей рядом.
Что же происходит дальше? По мере дальнейшего развития это ощущение, этот подход и взгляд «со стороны» начинают постепенно перемалываться. Происходит все большее и большее втягивание творческих кадров в активное участие в том, что они раньше воспринимали более созерцательно. Мы знаем, что этот процесс, процесс самоприближения и втягивания нас, завершает постановление от 23 апреля9, которое формулирует до конца ощущение равноправного участия творческих работников в деле строительства социализма. Это делает колоссальный сдвиг, вернее, — формулирует колоссальный сдвиг в мировоззрении и мироощущении советских кинематографистов, в очень большой степени меняя прежнее положение. Из нового мироощущения, из нового осознавания себя вытекает и совершенно новое ощущение, новая жажда по-новому воплотить действительность. Если мы раньше строили дело больше на эпически изобразительном моменте, то затем постепенно наши творческие кадры становятся в положение, 100 когда эпическая форма, столь дорогая в начале кинематографии, становится уже отходящим явлением, переходя к драматургической форме — драме. То же происходит с отдельными элементами, то есть эта мгновенная созерцательность, которая характерна для типажного видения, перерастает в другое качество, перерастает в изображение характера, в процесс становления характера, в раскрытие явлений уже в движении, а не в мгновенности созерцания. С монтажом происходит то же самое. «Молекулярная драма» столкновений монтажных кусков разрастается в полноценное столкновение страстей участников драмы, участников событий, а не только самих событий между собой, как прежде.
Формально дальше «интеллектуального кино» по линии этих тенденций — идти было некуда. Формулировки в отношении его высказывались летом 1929 года. Что же с ними и с самими мыслями об интеллектуальном кино делается дальше? Для этого приходится сказать несколько слов о себе, о дальнейшей своей работе после 1929 года. Тут положение тяжелое, потому что высказывания в связи с работами, которые были после 1929 года и которые снимают целый ряд положений, высказанных раньше, неизвестны потребителю, неизвестны вам. Вот, например, на предварительном совещании т. Юткевич10 указывал на то, что ряд дефектов, которые имеются с композиционной стороны в картине «Последний маскарад»11, являются якобы прямым следствием тех положений об интеллектуальном кино, которые я когда-то выставлял. Это высказывание прежде всего характеризует полное непонимание Юткевичем самого вопроса об «интеллектуальном кино». Что он в этом не одинок, я указывал уже раньше. Нов данном случае любопытнее другое.
Любопытно то, что как раз именно на этом примере видно, что я, собственно говоря, от односторонности моих прежних позиций давно далеко отошел. У меня, к большому моему удовольствию, сохранилась стенограмма моих консультационных указаний как раз в отношении этого самого фильма. Я был в то время на Кавказе, знакомился с планами будущих картин и высказывал свое мнение по ним. Зачитывать всей стенограммы я не буду, но укажу, что мною рекомендовалось свести крайне сценарно разбросанное место действия к одному месту, сведя развертывание его в обстановку одной группы людей, сконцентрированной внутри одной же группы дворов и домов, и на этой группе показать, «как в капле воды, все многообразие развертывающихся революционных событий».
Я находил, что интерес темы будет состоять в том, как отдельные характеры и отдельные людские установки видоизменяются в связи с ходом революционных событий. Дальше я говорил, что самая интересная фигура здесь — это фигура формирующегося большевика и что особенный интерес это представляет потому, 101 что здесь большевик грузинский, и это обогатит галерею наших кинообразов еще новой фигурой, до сих пор не нашедшей выражения в советском кино, именно фигурой большевика с резко выраженным национальным характером.
Затем я говорил, что основной ценностью будет показ монументальной группы резко выраженных людей. И, наконец, что касается внешнего драматического действия, то желательно более подробное и углубленное развитие фабулы.
Все эти высказывания относятся к 1932 году, то есть как раз к периоду выхода «Встречного»12 (в то время я был на Кавказе). Эти: высказывания идут резко вразрез с тем, что я писал до этого, писал в статье «Перспективы». Чем объясняется это резкое изменение точек зрения? Это резкое изменение объясняется тем, что между высказываниями в статье и этим случаем консультации прошла немалая и довольно серьезная творческая работа, причем творческая работа, которую, к сожалению, никто не увидел и которой приходится верить на слово.
Когда я стал думать после «Генеральной линии» о дальнейшей линии для моей будущей продукции, была взята творческая установка на характеры и образы людей. Уже введение в «Генеральной линии» Марфы Лапкиной было как бы «эмбрионом» заявки на «героя» для будущих работ. Это совпадает с поездкой за границу. И конкретные эти планы относятся к сценарной работе нашей в Голливуде (лето — осень 1930 года)13.
Вещи, которые продумывались там и которые частично существуют в сценариях, касались изображения крупных личностей и крупных характеров, причем не только в статике их, а в очень серьезном изменении. У нас было три сценария, которые со временем будут напечатаны в порядке исторических справок и интереса разработки. Это были темы о капитане Зуттере, об открытии им Калифорнии и о гибели его в угаре золотоискательской лихорадки 1848 г., по роману «Золото» Блеза Сандрара. Затем самые лучшие эпизоды из истории гаитянской революции, то, что потом должно было быть «Черным консулом» и что в первый период базировалось не столько на фигуре Туссен-Лувертюра, сколько на фигуре другого революционного генерала, в дальнейшем ставшего во главе Гаитянской республики. Дальше история его развертывается по-шекспировски трагично: происходит отрыв этой личности от гаитянской революционной массы и гибель этого человека, когда-то вождя, в силу того, что он все дальше и дальше отходил от революционной массы. Эта роль формировалась для замечательного негритянского артиста Поля Робсона, которого мы не так давно приветствовали как гостя среди нас.
Третья крупная работа, которая почти была доведена до исполнения, — это «Американская трагедия» Драйзера, где уже целиком вся задача сводилась к тому, чтобы представить сложнейший 102 рост и становление человеческого характера. Нас интересовала тема постепенного разложения молодого парня XX века, который, попадая в нетрудовую обстановку и ряд положений, характерных для буржуазного строя, постепенно доводится до преступления. Эта тема нас интересовала как некое негативное противопоставление тому типу молодого человека XX века, который мог создаваться только у нас.
Вот те основные работы, которыми были заняты эти годы17*. Был ли этот крен в новую область, в иное понимание явлений чем-либо лично для меня индивидуальным?
Конечно, нет. Это, так же как и характерности первого периода нашей кинематографии, было тенденцией общей, и в 1932 году, возвращаясь уже из Мексики обратно через Нью-Йорк, имея в багаже целый ряд подработанных и обдуманных тем, я встретился с первой картиной, которая шла отсюда и которая, несмотря на пространственный разрыв в целое полушарие, работала под таким же лозунгом. Это были «Златые горы»14 атакующего меня Юткевича, которые в дни нашего проезда через Нью-Йорк впервые там выходили на экран и которые я имел удовольствие представлять американской публике. Причем в этом именно вступительном слове я приблизительно высказал те же самые соображения, как и сейчас в связи с юбилеем, а именно о том, как наш первый период — стихийно-массовый — сменяется новым пониманием и интересом к человеку в коллективе, а не к абстрактному коллективу — массе, как это было в первых наших работах. Это же выступление давало повод резко высказаться о пустоте и отсутствии глубины в американской продукции, противопоставляя ей вопросы проблемные и глубоко философские, которые, правда, очень скромно и эмбрионально, но уже затрагивались в «Златых горах». В этом же выступлении я указывал на углубленную идейную тематику как на единственный и решающий выход из производственных и формальных тупиков, в которые тогда только что последовательно залезала американская кинематография. Вам понятно то политическое значение, которое помимо всего имело это высказывание в условиях американского окружения, и американская пресса достаточно резко реагировала на это выступление.
Таким образом, мы видим, что процесс выкристаллизовывания фильмов об отдельных характерах и отдельных героях идет совершенно нормальным историческим путем, причем я не согласен с точкой зрения, которую выставляет Зархи, — что период, который сейчас наступает с «Чапаева», непосредственно мог вырасти из периода, когда создавалась «Мать».
103 Мое глубокое убеждение в том, что школа «Встречного» и целого ряда картин, которые прошли, была крайне нужна, потому что они ставили по-новому и углубленно вопросы партийно-тематические, а не вообще революционные, чего было гораздо больше в период первого расцвета немого кино, к которому относится и «Мать».
Я считаю, что здесь очень любопытный стык с тем поворотом, который в этот период делался на философском фронте.
Я думаю, что это возникновение образов большевиков в художественной кинематографии соответствует по линии художественной и образной той линии, которая проводилась на философском фронте под лозунгом партийности философии.
Все бы было хорошо, если бы процессы развития так спокойно переливались из одного этапа в другой, но беда в том, что мы знаем, что развитие идет путем всем нам известной формулы отрицания и что наметившийся непосредственно новый этап не сразу вышел, а возник период конфликтный между первым этапом и становившимся вторым этапом.
Я никого не собираюсь ни винить, ни обвинять. Я считаю, что совершенно натурально, что в момент, когда происходит поворот в сторону большего идеологического углубления тематики, углубления партийно-тематического, при колоссальном накале в области сюжета и содержания целый ряд формальных достижений и формальных особенностей, которые к этому моменту уже выработала наша кинематография, был отодвинут на второй план. Обвинять я никого не собираюсь, но отрицать этот факт тоже невозможно. В период возникновения этих картин это должно было вызывать, конечно, столкновение, обострение противоречий между бойцами первого периода и бойцами второго периода. Первых беспокоил вопрос падения средств и культуры кинематографической выразительности, которыми до известной степени не только блистал, а даже щеголял первый период. Беспокоил тот факт, что средства выражения далеко не на высоте идейно-тематического нового содержания, а во многих случаях на уровне очень посредственных западных стандартов, на опрокидывание которых было советской кинематографией положено немало сил. На этой почве возникает целый ряд споров между отдельными мастерами, и, собственно говоря, возникают они никак не по линии недооценки тематической и проблемной серьезности того, что делает новый период (что очень хочется подтасовать некоторым товарищам!), а по линии преимущественно общего культурно-выразительного достоинства нашей кинематографии.
Мы знаем, что заслуга того же «Встречного» огромна, что образ нового человека так старательно в нашей кинематографии впервые устанавливается, и именно по линии «Встречного», но мы также знаем, что формально он во многом заставляет желать значительно 104 большего. Много есть наскоков и нападок, как вы знаете, и на «Грозу», и на «Петербургские ночи»15, и тоже по линии кинематографической ортодоксальности. Но я должен здесь выступить в защиту этого дела и отмежеваться по той линии, по которой оперируют моими личными вкусовыми мнениями по этому вопросу, потому что здесь совершенно ошибочно было бы закрывать глаза и истерически вопить о том, что мы «скатывались» к классикам, что мы занимались «стариками» и т. д.
Я считаю, что этот период кинематографии был совершенно правильным опять-таки по очень специальной линии, потому что, подходя к вопросу создания образов наших людей, вполне естественно, что, может быть, не те же самые мастера, но их соседи занялись изучением того, как мастерами прошлого выражались и строились эти самые характеры и люди. Повторяю, что по линии формального воплощения, по линии художественных достоинств (недостаточных) целого ряда этих вещей я могу воевать, ссориться и спорить, но я очень хочу, чтобы эти споры и эта подчас достаточно резкая критика не закрывали основных положений моей оценки явлений советской кинематографии в целом, которые я еще раз пытался здесь изложить для тех, которые стараются истолковывать их вкривь и вкось. Теперь вам ясно то отношение, которое у меня к этим явлениям, как к таковым, существует. Но это отношение ни в коей мере не исключает критики. Дело в том, что каждое направление ставило совершенно определенный стандарт своих требований. И если судить произведения, разбирая абсолютную их качественность с позиций, которые то или иное направление высказывало, то здесь есть возможность критиковать, и очень серьезно критиковать. Я считаю, что в отношении исполнения тех намерений, которые себе ставили один этап и другой, надо сказать, что первый — «типажно-монтажный» — период работал более страстно, более отчаянно, более интенсивно и в результате этого доходил до ста процентов выполнения той программы, которую он себе пусть ограниченно, пусть односторонне, но достаточно последовательно ставил.
Второй период, когда выдвигались на первый план вопросы характера сюжета, фабулы и т. д., во многих случаях и по многим параграфам своей собственной программы не дотягивал до полного воплощения своих лозунгов. И, судя некоторые произведения периода 1929 – 1934 годов по тем законам, которые они сами себе ставили, мы видим, что они не всегда были на высоте своего положения.
Я считаю, что в этом отношении период, который начинается с конца 1934 года «Чапаевым» [«Юностью Максима», «Крестьянами»]18*, есть уже период, который начинает дотягивать идо стопроцентной реализации того, к чему он стремится.
105 Этот же (начинающийся) период и есть тот, который я называю синтетическим. Этот период вбирает в себя и вберет всю ту культуру и все те результаты творческой работы, которые были проведены предыдущими периодами. Он не «просуммирует» их, а двинет к новым видам качества, к небывалым достижениям.
Теперь, разделавшись некоторым образом с частью того багажа, который в новый этап не входит, интересно посмотреть, что же из этих принципов и из тех элементов, которые были в период до «Встречного», будет входить и далее в сейчас складывающийся новый, синтетический этап истории советского кино.
Я думаю, что будет очень поверхностно и очень неглубоко, если только говорить о том, что нужно, чтобы «монтаж становился немножко лучше», чтобы «немножко стали думать и о кадрах».
Нужно, чтобы кинематографические средства выразительности становились бы проводниками центральных и ударных мест в драме. Последнее уже мимоходом отметил Сергей Сергеевич, сказав о том, что наиболее сильные по содержанию и идее места Шекспира являются одновременно и наиболее здорово формально сконструированными и построенными; он указывал при этом на «[Короля] Лира».
Совершенно очевидно, что на новом этапе должно ликвидироваться положение о вклинивании «кинематографических» сцен в общий ход некинематографически разрешаемого произведения. А ведь до известной степени именно так элементы кинематографической выразительности присутствуют в оформлении, скажем, того же «Встречного». Там они существуют некоторым образом вроде «выездной редакции»; только «белые ночи»16 являются таким «островком», где внезапно вспомнили об элементах кинематографической выразительности. В тех же случаях, когда задания сюжетно-драматического порядка выходят на первый план, средствами их выражения становятся элементы прежде всего театральные, а средства кинематографические отходят на второй план.
В новом периоде недостаточно будет ограничиваться просто хорошим монтажом или большим беспокойством о кадре. Я от этого периода жду большего. Я думаю, что ряд элементов, которыми был характерен первый период, войдут в новом качестве в то, что намечается сейчас. И здесь, в этой части, я хочу сказать о некоторых проблемах предстоящих моих работ, причем эту часть материала моего выступления я на дискуссию пока не выдаю. Давайте договоримся об этом пункте, что это пока что просто ряд соображений, по поводу которых я сейчас думаю, которые, может быть, еще спорны, может быть, недоформулированы, которые просто являются тем материалом, над которым я работаю. По этим позициям я боя пока не принимаю. Пока этот материал не будет подкреплен всеми необходимыми доказательствами, до этого момента я как бы «в кредит» расскажу вам то, что думаю.
106 Остановившись на той последней точке, докуда доходило «интеллектуальное кино», интересно посмотреть, что же может быть сделано дальше с соображениями, которые тогда высказывались. Нужно ли их просто целиком выбросить или они имеют некоторую возможность перерастания в новое качество и где-то совсем по-иному могут, в ином переосмыслении, сыграть дальнейшую положительную роль.
Для начала я бы хотел сказать следующее: очень любопытно, что некоторые теории и точки зрения, которые в определенную историческую эпоху являются выражением научного и теоретического познания, в следующую эпоху как научные снимаются, но вместе с тем продолжают существовать как возможные и допустимые, однако не по линии научной, а по линии художественной и образной.
Если мы возьмем мифологию, то мы знаем, что на определенном этапе мифология является, собственно говоря, комплексом науки о явлениях, изложенных преимущественно образным и поэтическим языком. Все те мифологические фигуры, которые мы рассматриваем в лучшем случае как аллегорический материал, на каком-то этапе являются образными сводками познания мира. Затем наука движется дальше от образных изложений к понятийным, а арсенал прежних персонифицированных мифологических существ-обозначений продолжает существовать как ряд сценических образов, ряд литературных метафор, лирических иносказаний и т. д. Затем они и в этом качестве изнашиваются и сдаются в архив. (Возьмем хотя бы современную поэзию в сличении с поэзией XVIII века.)
Возьмем другой случай: такое, например, положение, как априорность идеи, о которой говорил Гегель в отношении к мирозданию. Для определенного этапа это — высшая точка философского познания. Затем эта высшая точка снимается. Маркс ставит это положение с головы на ноги в вопросах понимания реальной действительности. Однако если мы посмотрим на наши произведения искусства, то мы, по существу, почти имеем в искусстве гегелевскую формулу17, потому что идейная насыщенность автора, идейная предвзятость должна определять, по существу, весь ход произведения, и если каждый элемент произведения не является воплощением первичной идеи, мы никогда до конца полноценного произведения искусства не будем иметь. Понятно, что сама идея художника не есть нечто самозарождающееся, а есть социально преломленное отражение социальной действительности. Но с момента образования в нем точки зрения и идеи эта идея является определяющей для всего фактического и материального строя его произведения, всего «мира» его произведения.
Возьмем еще одну область, например «Физиогномику» Лафатера18. Она для своего времени казалась объективной научной системой. 107 Но физиогномика — это не наука. Над Лафатером уже издевался тот же Гегель, хотя Гете19, например, еще сотрудничал с Лафатером. Правда — анонимно (Гете, например, принадлежит анонимный физиогномический этюд, посвященный голове Брута20). Мы объективно научной ценности ей не придаем, но, как только нужно наравне с всесторонним изображением характера дать типажную характерность внешнего облика, мы начинаем пользоваться лицами совершенно так же, как это делает Лафатер. Делаем это потому, что нам в этом случае и важно-то в первую очередь впечатление, субъективное впечатление от видимости, а не объективность соответствия признака и сущности характера. Так что научная точка зрения Лафатера нами «донашивается» в искусстве, где это нужно по линии образной.
К чему все это рассказывается? Потому что это отношение между наукой и искусством имеет любопытный аналог внутри самого искусства, где случаются такие же казусы в отношении содержания и формы. Внутри приемов искусства иногда случается так, что за элементы содержания могут приниматься такие черты, которые являются закономерностью в деле построения формы. Как метод, как принцип построения формы такая закономерность вполне возможна, она бывает нужна, но будет бредом, если эту закономерность построения одновременно брать за исчерпывающее предметное содержание (вы уже видите, куда клонится дело).
Для полной наглядности хочу привести еще один литературный пример. Дело касается одного литературного жанра, который все вы, конечно, знаете, — это детектив. Что собой представляет детектив, выражением каких социальных формаций и устремлений он является, это мы все знаем. Об этом говорил еще достаточно недавно на съезде писателей Горький21. Но интересно происхождение формального построения некоторых черт этого жанра, источников, откуда черпался тот материал, из которого вышел идеальный сосуд именно характерной «детективной формы», в которую воплотились определенные стороны буржуазной идеологии.
Оказывается, что детективный роман имеет в качестве одного из своих предшественников, который особенно помог достигнуть полного расцвета ранних специфических для него форм в начале XIX в., — роман из жизни краснокожих индейцев Северной Америки Фенимора Купера22. Идеологически этот тип романа, возвеличившего подвиги колонизаторства, целиком идет в том же русле, что и детективный роман, как один из старейших выразителей собственнической идеологии. Об этой связи раннего детектива со «Следопытом» Купера пишут Бальзак, Гюго, Эжен Сю23, сделавшие немало в том плане, из которого потом выработался регулярный детективный роман.
Излагая в письмах и записях соображения, которые руководили ими при сюжетных построениях сыска, погонь и преследования 108 («Отверженные», «Вотрен», «Агасфер»), все они пишут, что пленившим их прообразом служила обстановка дремучего леса Фенимора Купера и что они хотят перенести этот образ дремучего леса и аналогичного действия в лабиринт переулков и улиц Парижа. Собрание улик тянется от того же метода «следопытов», который Фенимор Купер изображал в своих произведениях. Таким образом, «дремучий лес» и практика «следопытов» из произведений Купера для больших романистов, как Бальзак и Гюго, послужили как бы исходной метафорой в отношении приключенческих построений внутри лабиринта Парижа и интриг сыска. Это помогло оформить те идеологические тенденции, которые лежали в основе детектива. Возникает целый самостоятельный тип сюжетосложении. Но вот наравне с этим использованием «наследства» Купера в таком динамически понятом качественном построении мы имеем еще другой вид — вид буквальной пересадки, буквального приложения. Тогда получается нелепость и бред! Так, например, Поль Феваль24 пишет роман, в котором у него участвуют фактические краснокожие внутри фактического Парижа и есть сцена, когда три индейца скальпируют человека на извозчике!!!
Это я привожу к тому, чтобы вернуться к «интеллектуальному кино». Специфика «интеллектуального кино» прокламировалась как содержание фильма. Ход мыслей и движение мыслей выставлялись как исчерпывающая основа того, что случается в фильме, то есть как замена сюжета. По линии исчерпывающего содержания оно себя не оправдывает. Больше того, не оправдывает даже и для своих менее максималистских видов приложения. Вы знаете, что «интеллектуальное кино» имело маленького последыша в теории внутреннего монолога. Теория внутреннего монолога несколько отеплила эту аскетическую абстрактность хода понятий, переведя дело в более сюжетную линию изображения эмоций героя. Но и с ним дело не лучше, однако в высказываниях по поводу внутреннего монолога была маленькая оговорка, а именно: что методом внутреннего монолога можно строить вещи и не только изображающие внутренний монолог. Маленькая в скобочках сделанная зацепка, и в ней-то все дело19*. Эти скобки сейчас надо раскрыть. И здесь главное из того, что я хочу сказать. «Интеллектуальное кино», замахнувшееся на исчерпывающее содержание и там потерпевшее фиаско, сыграло очень серьезную роль в распознании ряда самых основных структурных особенностей формы художественного произведения вообще. И это лежит в особенностях того синтаксиса, по которому строится внутренняя речь в отличие от произносимой. Эта внутренняя 109 речь, ход и становление мышления, не формулируемого и логическое построение, которым высказываются произносимые сформулированные мысли, имеет свою совершенно особенную структуру. Структура эта базируется на ряде совершенно отчетливых закономерностей. И что в этом примечательно и почему я об этом говорю, это то, что эти закономерности построений внутренней речи оказываются именно теми закономерностями, которые лежат в основе всего разнообразия закономерностей, согласно которым строится форма и композиция художественных произведений. И что нет ни одного формального приема, который не оказался бы сколком с той или иной закономерности, путем которой, в отличие от логики внешней речи, строится речь внутренняя. Да иначе оно и быть не могло бы. Мы знаем, что в основе формотворчества лежит мышление чувственное и образное20*. Речь же внутренняя как раз и оказывается на стадии образно-чувственной структуры, не доходя еще дологической конструкции, которой она облекается, выходя наружу в виде логической речи. Примечательно то, что подобно тому как логика имеет целый ряд закономерностей в своих построениях, так и эта внутренняя речь, это чувственное мышление имеет не менее отчетливые закономерности и структурные особенности. Закономерности эти известны, и в свете высказанного соображения они являются как бы полным фундусом законов строения формы25. Хотя под данным углом зрения художественная практика всего этого почему-то никогда в своих целях не распознавала и не усваивала. Между тем изучение и дальнейший анализ этого материала имеет громаднейшее значение в деле овладения «тайнами» мастерства формы. Мы впервые приобретаем твердый предпосылочный фонд к тому, что происходит с исходной тезой темы, когда она перелагается в цепь чувственных образов. Мы впервые находим область для изучения и анализа закономерностей этого перевода21*. Само же поле для изучения этой области оказывается еще более громадно, чем можно предположить. Дело в том, что формы чувственного, дологического мышления, сохраняющегося в виде внутренней речи у народов, достигших достаточно высокого уровня социального и культурного развития, в то же время являются у 110 человечества на заре культурного развития одновременно и нормой поведения вообще, то есть закономерности, по которым протекает чувственное мышление, являются для них тем же, чем «бытовая логика» в дальнейшем. Согласно этим закономерностям строятся у них нормы поведения, обряды, обычаи, речь, высказывания и т. д., и, обращаясь к необъятному запасу фольклора и пережиточных и посейчас норм и форм поведения, встречающихся у обществ, находящихся на заре развития, мы обнаруживаем, что то, что для них являлось или является еще нормой поведения и бытового благоразумия, является как раз всем тем, что мы используем как «художественные приемы» и «мастерство оформления» в наших произведениях.
Я не имею сейчас времени сделать вам подробный доклад о ранних формах мышления. Мне некогда сейчас обрисовать вам основные специфические черты его, являющиеся отражением определенных форм ранней социальной организации этих общественных структур. Я не имею времени проследить, как из этих общих предпосылок вырабатываются отдельные характерные признаки и формы построения представлений. Я ограничусь тем, что приведу два-три примера, по которым будет ясно, что тот или иной момент из практики формотворчества является одновременно моментом бытовой практики на тех стадиях развития, когда представления еще строятся согласно закономерностям чувственного мышления. Подчеркиваю здесь, что этот строй отнюдь не является исчерпывающим. Наоборот, с самой же ранней поры идет одновременный из него вырабатывающийся ток практической и логической целесообразности, вытекающей из практики трудовых процессов, постепенно вырастающий и оттесняющий эти более ранние формы мышления и захватывающий постепенно все области не только трудовой, но и прочей умственной деятельности, оставляя более ранние формы для областей чувственных проявлений.
Возьмем, например, такой популярнейший художественный прием, как так называемый «pars pro toto»22*. Сила его эффективности всем известна. Пенсне врача из «Броненосца “Потемкин”» врезалось в память любого зрителя. Этот прием состоит в замещении целого (врача) частью (пенсне), играющей его роль, причем оказывается, что играет она ее гораздо чувственно интенсивнее, чем сыграл бы сам вторичный показ целого (врача). И оказывается, что этот прием является типичнейшим примером мыслительных форм из арсенала раннего мышления. На той стадии еще нет того представления об единстве частного и целого, как мы его понимаем теперь. На той стадии нет дифференцированности мышления, часть есть одновременно и целое. Понятия об единстве части и целого нет. Будущее понимание этого единства там еще существует не как 111 динамическое представление единства, а как статическое восприятие равенства, одинаковости: целое и часть рассматриваются просто как одно и то же. И на той стадии (во всех случаях, когда это выходит за область простейшей обиходной практики, как принятие пищи и т. п.) для любой мыслительной операции совершенно безразлично, часть ли, целое ли, — оно каждый раз в равной мере играет роль совокупности и целого. Так, например, когда вам дается украшение, содержащее зуб медведя, то это означает, что вам передан медведь целиком, или, что в тех условиях одно и то же, вам передана сила целого медведя. Раздельного представления о «силе» и «о носителе силы» на стадии диффузного мышления еще нет. В условиях бытовой практики сейчас такое явление было бы абсурдом. Никто, получив пуговицу от костюма, не стал бы полагать себя одетым в пиджачную тройку. Но как только мы переходим в сферу, где чувственные и образные построения играют решающую роль, в сферу художественных построений, это же «pars pro toto» немедленно начинает играть громадную роль. Пенсне, поставленное на место целого врача, не только целиком заполняет его роль и место, но делает это с громадной чувственной, эмоциональной прибылью интенсивности воздействия, значительно большей, чем при вторичном показе врача в целом!
Как видите, в целях чувственного художественного воздействия мы использовали в качестве композиционного приема одну из тех закономерностей раннего мышления, которые на той стадии являются нормами и практикой бытового поведения. Мы использовали построение чувственного мышления и в результате вместо «логически информационного» эффекта получаем эмоционально чувственный эффект. Мы не регистрируем факта, что врач утонул, но эмоционально реагируем на этот факт через определенную композиционную подачу его.
Кроме этого здесь интересно отметить, что то, что мы разобрали в отношении использования крупного плана в нашем случае с пенсне, есть отнюдь не только прием, свойственный одному кинематографу. Он также имеет место и методологически применяется, скажем, и в литературе. «Pars pro toto» в области литературной формы есть то, что известно там под термином синекдохи26. Действительно, вспомним Потебню27, который дает следующие определения двух родов синекдох. Первый случай: представление о части вместо целого. Оно дает пять видов:
1) единственное вместо многого («раб» вместо «рабы»);
2) собирательное («чудь» вместо состава племени);
3) часть вместо целого («хозяйский глаз»);
4) определенное вместо неопределенного («сто раз говорил»);
5) вид вместо рода.
Второй ряд синекдох дает целое вместо части. Он имеет три разновидности и т. д. Но, как видим, и оба рода, и все случаи, 112 подразделений отвечают одному и тому же основному положению. Это положение — тождественность части и целого и поэтому «равноправное», равнозначащее замещение одного через другое. Не менее разительные примеры того же мы могли бы разыскать в живописи или в рисунке, где два цветовых пятна или один беглый изгиб линии дают полное чувственное замещение целого предмета. Интересно здесь не само перечисление, а тот факт, который подтверждается этим перечислением. А именно, что мы здесь имеем дело отнюдь не с частными приемами, свойственными той или иной области искусства, а прежде всего с особым ходом и состоянием оформляющего мышления — с чувственным мышлением, для которого данный строй является одной из закономерностей. По-особому использованный «крупный план», синекдоха, цветное пятно или линия — суть лишь частные случаи наличия одной и той же закономерности «pars pro toto» (свойственной чувственному мышлению) в зависимости от того, в какой частной области искусства оно служит для воплощения творческого замысла.
Другой пример. Мы все прекрасно знаем, что каждое оформление должно быть в строгом художественном соответствии с оформляемым сюжетным положением, с оформляемой ситуацией. Мы знаем, что это касается и костюма, и декораций, и сопровождающей музыки, и света, и цвета. Мы знаем, что это соответствие касается не только требований бытовой убедительности, но, пожалуй, в еще большей степени требований эмоционально выразительной выдержанности. Если драматургическая сцена «звучит» в определенном ключе, то и все элементы ее оформления должны звучать в том же ключе. Классическим и непревзойденным примером по этой линии может служить уже упоминавшийся здесь «Король Лир», внутренней буре которого вторит буря в степи, бушующая вокруг него на сцене. Столь же известны примеры и обратного построения. По контрасту: когда, например, максимум бушующей страстности решается через нарочитую статичность и неподвижность. Но и в этом случае все элементы оформления осуществляются в столь же строгой выдержанности и соответствии с темой, хотя на этот раз и с обратным знаком.
Это же требование распространяется и на строй кадра и монтажа, которые должны также композиционно вторить и отвечать своими средствами тому же основному композиционному ключу, в котором разрабатываются и вещь и сцена в целом23*.
И здесь-то оказывается, что этот элемент, достаточно известный и повсеместный в искусстве, есть на определенном этапе развития также неизбежное обязательное условие поведения в 113 бытовой практике. Здесь я приведу пример из полинезийской практики. Практика эта до сих пор сохраняет подобное же в своих обычаях. Когда какой-либо полинезийской женщине нужно рожать, то является обязательным правилом, чтобы все ворота в селении были бы раскрыты, все двери настежь, чтобы все население (в том числе и мужское) снимало пояса, фартуки, повязки; чтобы все узлы, которые завязаны, были бы развязаны и т. д., то есть вся обстановка, все сопутствующие детали должны быть оформлены в одном и том же характере, отвечающем основной теме того, что происходит: все должно быть раскрыто, развязано, чтобы максимально облегчить выход на свет рождающемуся младенцу!
Обратимся к другой области. Возьмем тот случай, когда материалом формотворчества оказывается сам художник. Правильность наших положений оправдывается и здесь. Даже больше того: в этом случае не только строй завершенной композиции являет собой как бы отпечаток строя закономерностей, по которым протекает чувственное мышление. В этом случае и самое состояние единого в этом случае объекта — субъекта творчества целиком вторит картине психического состояния и представлений, отвечающих ранним формам мышления. Сопоставим опять два примера. Всех исследователей и путешественников всегда особенно поражает одна черта ранних форм мышления, совершенно непопятная для человека, привыкшего мыслить категориями обиходно-логическими. Это черта, согласно которой там существует представление, что человек, будучи самим собой и осознавая себя таковым, в то же самое время считает себя и кем-то или чем-то иным, притом столь же отчетливо и столь же конкретно материально. В специальной литературе особенно популярен на эту тему пример одного из индейских племен северной Бразилии.
Индейцы этого племени бороро, например, утверждают, что они, будучи людьми, в то же самое время являются и особым видом распространенных в Бразилии красных попугаев. Причем под этим они отнюдь не имеют в виду, что они после смерти превратятся в этих птиц или что в прошлом их предки были таковыми. Категорически нет. Они прямо утверждают, что они есть в действительности эти самые птицы. И дело здесь идет не о сходстве имен или родственности, а имеется в виду полная одновременная идентичность обоих.
Как бы странно и необычно это для нас ни звучало, мы тем не менее из художественной практики можем привести груды материалов, которые будут звучать почти дословно, как высказывания бороро об одновременном двойственном существовании в двух совершенно разных и разобщенных — и тем не менее реальных — образах. Стоит только коснуться вопроса о самоощущении актера во время создания или исполнения им роли. Здесь 114 немедленно возникает проблема «я» и «он». Где «я» есть индивидуальность исполнителя, а «он» — индивидуальность исполняемого образа роли. Эта проблема одновременности «я» и «не я» в создании и в исполнении роли — одна из центральных «тайн» актерского творчества. Разгадка ее колеблется от полного соподчинения «его» — своему «я» до полного подчинения своего «я» — «ему» (полное «перевоплощение»). Если современное освещение этой проблемы в формулировке и подходит к довольно четкой диалектической формуле об «единстве взаимопроникающих противоположностей “я” актера и “он” (образа), в котором ведущей противоположностью является образ», то в конкретном самоощущении для актера дело далеко не всегда так же отчетливо и ясно. Так или иначе, «я» и «он», «их» взаимоотношения, «их» связи, «их» взаимодействия непременно фигурируют на всех этапах становления роли. Актер «сам по себе» и «актер в образе», несмотря на единого материального носителя, вместе с тем фигурируют как двое раздельно существующих. Приведем хотя бы один пример из более новых и популярных высказываний на эту тему.
Актриса С. Г. Бирман28 (сторонница второй крайности) пишет: «… Я читала об одном профессоре. Он не праздновал ни дня рождения своих детей, ни их именин. Он праздновал тот день, когда его ребенок переставал говорить о себе в третьем лице: “Ляля хочет гулять”, а говорил: “Я хочу гулять”. Таким же праздником для актера является тот день и та в этот день минута, когда актер перестает говорить об образе “она”, а говорит “я”. Причем это новое “я” не личное “я” актера и актрисы, а “я” его образа…» (С. Г. Бирман, «Актер и образ». «Заочный культзаем Московского клуба мастеров искусств». Выпуск первый, Москва, 1934 г.).
Не менее показательны в воспоминаниях о целом ряде актеров описания их поведения в моменты наложения грима или надевания костюма, часто сопровождавшиеся целой «магической» операцией «перехода» с нашептываниями, вроде «я уже не я», «я ужо такой-то», «вот я становлюсь им» и т. д. и т. п.
Так или иначе, более или менее контролируемая одновременная двойственность во время исполнения роли необходимо присутствует в творчестве даже самых, казалось бы, заядлых сторонников полного «перевоплощения». Слишком мало все же история театра знает случаев, чтобы актер облокачивался на «четвертую» (несуществующую) «стену»! Характерно, что то же скользящее двойственное восприятие сценического действия и как реальности и как игры неизменно и у зрителя. И в этом единстве двойственности правильность восприятия, не допускающая зрителя убивать сценического злодея, помня, что он все же не реальность24*, но, с другой 115 стороны, давая ему возможность смеяться или заливаться слезами, забывая, что перед ним не более как игра.
Остановимся мимоходом еще на одном примере. В. Вундт приводит в «Elemente der Volkerpsychologic»29 образцы того, как в ранних формах речевого строя излагаются привычные для нас обороты речи и изложения (нас здесь не интересуют воззрения самого Вундта, а лишь приводимый им достаточно достоверный, документальный образец). Мысль: «Бушмен был сначала дружески принят белым, чтобы он пас его овцу: затем белый избил бушмена, и тот убежал от него». Эта простая мысль (и ситуация слишком простая в условиях колониальных нравов!) на бушменском языке получает приблизительно следующую форму.
«Бушмен — там — идти; здесь — бежать — к белому; белый — давать — табак; бушмен — идти — курить; идти — наполнять — табак — мешок; белый — давать — мясо — бушмен; бушмен — идти — есть — мясо; встать — идти — домой; идти — весело, идти — стать25*; пасти — овца — белого; белый — идти — бить — бушмена; бушмен — кричать — очень — боль; бушмен — идти — бежать — прочь белого; белый — бежать — за бушменом…»
Нас поражает этот длинный ряд наглядных единичных образов, близких к асинтаксическому ряду. Но если только мы вздумаем представить в действии на сцене или на экране те две строчки ситуации, которую заключила исходная мысль, мы, к своему удивлению, увидим, что мы начнем строчить нечто очень близкое к тому, что дано как образец бушменского построения. И это нечто, столь же асинтаксическое, но лишь снабженное… порядковыми номерами, окажется всем нам хорошо известным… монтажным листом, то есть тем переводом факта, абстрагированного в понятие, обратно в цепь конкретных единичных действий, чем и является процесс переложения ремарок в поступки. «Убежал от него» на бушменском языке предстанет ортодоксальной монтажной фразой из двух кусков: «бежит бушмен», «бежит белый» — эмбрион монтажа американских «погонь»!
Отвлеченное «дружески принят» изложено ценнейшими конкретными данными, через которые сложится представление о дружественном приеме (закуривание, мешок табаку, мясо и т. д.), то есть мы снова имеем пример тому, что как только из информации нам нужно переходить к реальному воздействию, мы непременно переходим на строй закономерностей, отвечающих чувственному мышлению, играющему доминирующую роль в представлениях, свойственных раннему развитию.
Не могу не упомянуть здесь еще одного очень близкого примера. Известно, например, что все на той же стадии развития еще нет 116 обобщений и обобщенных «сквозных» понятий. Леви-Брюль30 (взятый здесь опять-таки по линии фактического материала его исследования, а не по теоретическому его осмыслению) приводит примеры этому в отношении языка кламатов. На их языке нет понятия «ходить». Но зато есть бесконечный ряд обозначений для каждого частного вида походки. Быстрая походка. Походка вразвалку. Усталая. Крадущаяся. И т. д. и т. п. Каждая из них с тончайшей нюансировкой имеет свое обозначение. Для нас это может быть странно, но только до момента, когда скобки ремарки «подходит» — из любой пьесы надо раскрыть в цепи приближающихся шагов одного актера к своему партнеру. Самое блестящее владение осознанным понятием «ходьбы» здесь немедленно пасует. И если у актера (и режиссера) это понятийное «хождение» не юркнет немедленно «обратно» в целый набор возможных и известных частных случаев возможности приближения друг к другу, из которого он сумеет выбрать наиболее подходящий к ситуации вариант, то исполнение его ожидает самое печальное и трагическое фиаско!26*
До какой степени это отчетливо даже в мелочах, можно проследить, например, на сличении разных вариантов авторских рукописей, на отличии окончательных редакций от более ранних. «Отделка стиля» во многих, особенно поэтических, произведениях будет касаться часто, казалось бы, незначительной перестановки слов, но перестановки, обусловленной закономерностями именно подобного же порядка.
Возьмем пример из «Тараса Бульбы» Гоголя. Тарас спас во время погрома жизнь Янкелю и велел ему скрываться в обозе. Янкель, однако, немедленно приспособился, раскинул свою лавочку и стал торговать. На удивление Тараса он отвечает: «Молчите… я пойду за вами и войском и буду продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-богу так, вот увидите».
«Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду».
Последние строчки в окончательном варианте гласят так: «Пожал плечами Тарас Бульба, подивился бойкой жидовской натуре и отъехал к табору».
Оба варианта приводит И. Мандельштам («О характере гоголевского стиля», 1902, стр. 118). Он отмечает, что больший эффект получается от перестановки сказуемого впереди подлежащего. 117 Он же указывает, что этим «стилистическим средством» Гоголь пользуется весьма часто. Из объяснений же этому обстоятельству он приводит Герберта Спенсера («Опыты»)31, объясняющего большую Бездейственность такой сорасстановки «экономией внимания». Почему это, однако, «экономнее», он не раскрывает. Еще меньше, когда он старается объяснить то же самое для приводимого частного случая о Тарасе: «Этою переменою внесено новое содержание, которого нет в прежней редакции: вносится выражение чего-то субъективного со стороны Тараса… “Пожал плечами Тарас Бульба, подивился бойкой жидовской натуре и отъехал к табору”, — и весь момент более выразителен».
Согласиться приходится лишь с концом. Но он является объяснением посредством того самого, что как раз подлежало бы объяснению!
Что второй (окончательный) вариант более чувственно выразителен, как и в большинстве случаев, когда сказуемое предшествует подлежащему, здесь несомненно. И причина этому опять-таки в том, что подобное соразмещение отвечает мыслительной ситуации тех ранних форм мышления, о которых мы говорили. На этот раз характеристику данной ситуации мы можем найти у Энгельса.
«Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает. Таким образом, мы видим сперва общую картину, в которой частности пока более или менее отступают на задний план, мы больше обращаем внимание на движение, на переходы и связи, чем на то, что именно движется, переходит, находится в связи…» («Развитие социализма от утопии к науке»).
Таким образом, подобное словоразмещение, где описание движения и действия (глагол) предшествует описанию того, кто двигается или действует (существительное), ближе отвечает той структуре, которая первоначальное. Это верно и за пределами нашего русского языка, как и должно быть, поскольку это связано в первую очередь со спецификой строя мышления. В немецком языке «Die Gänse flogen» (гуси летели) звучит сухо и информационно, тогда как какое-нибудь «Es flogen die Gänse» (летели гуси) в самом обороте речи имеет уже некий песенный или стихотворный лад, в обиходной разговорной речи не используемый. (Нейтральность первоначального восприятия лёта как такового здесь представлена особенно сильно через неопределенную форму «es flogen».) Для английского языка это достигается формой «There is», «There was» и т. п., играющей совершенно ту же роль.
Указания Энгельса и характеристика приводимых выше явлений как явлений приближения и возврата к формам, характерным 118 для более ранних этапов, хорошо иллюстрируются теми случаями, когда мы имеем перед собой наглядную и доказанную картину психического регрессирования. Например, в известных случаях операций мозга, когда наблюдается подобное явление регресса. В московской нейрохирургической клинике, специализирующейся на операциях в области мозга, мне самому приходилось наблюдать интереснейшие случаи.
Так, например, у одного из больных после операции по море психического его регрессирования словесное определение предмета постепенно отчетливо проходит те фазы, которые отмечались выше. Здесь они идут от называния предмета к определению двигательной функции действия, производимого с помощью этого предмета.
Если взять, например, стакан, то на вопрос: «Что это?» по мере возрастания регресса на разных этапах этого явления получались ответы: 1. «Стакан» (в нормальном состоянии). 2. «Стаканом», или «плетью», или «карандашом» в зависимости от того, что показано. (Но во всех случаях с отчетливой тенденцией к функциональной характеристике, хотя еще и не отделяющейся от характеристики предметной.) 3. Дает уже чистую картину описания не предмета, а действия и движения, целиком сменивших позднее возникающее понятие «о том, что движется». При показе стакана ответ в этом случае гласит «чай пить». Таких примеров можно привести целый ряд. Они дополняют картину того, что здесь излагалось. Но обратимся теперь к нашей непосредственной теме: к чувственному мышлению в том виде, как оно имеет место в искусстве.
Мне по ходу моего изложения неоднократно приходилось оперировать термином «ранних форм мышления». Иллюстрировать свои соображения образами представлений, существующих у народов, находящихся еще на заре культуры. У нас уже вошло в традицию настороженно относиться ко всем тем случаям, когда оперируют этими областями исследований. И не без основания: эти области достаточно загажены всяческими представителями «расовых теорий» или еще менее прикрытыми высказываниями апологетов колонизаторской политики империализма. Поэтому здесь не вредно резко подчеркнуть, что высказанные здесь соображения идут по резко иной линии. Обычно строй так называемого раннего мышления рассматривается как в себе раз и навсегда закрепленная система форм мышления, принадлежащая так называемым «примитивным» народам, расово от них неотъемлемая и никакому видоизменению не поддающаяся. В таком виде она является научной апологетикой тем методам порабощения, которым подвергаются эти народы со стороны белых колонизаторов, поскольку, дескать, народы эти для культуры и культурного взаимодействия «все равно безнадежны».
119 От такой концепции во многом не свободен и известный Л[еви]-Брюль, хотя он сознательно себе подобных целей и не ставит. По этой линии весьма правильно его атакуем мы, знающие, что формы мышления суть отражение в сознании тех социальных формаций, через которые исторически проходит тот или иной общественный коллектив. Но многие противники Леви-Брюля впадают в другую крайность, стараясь совершенно обойти специфику этого своеобразия ранних форм мышления. Таков, например, Оливье Леруа32, который на основе анализа высокой логичности производственной и технической изобретательности так называемых «примитивных» народов целиком отрицает отличие их системы мышления и представлений от нашей общепринятой логики. Это столь же неверно и в такой же море скрывает под собой отрицание зависимости системы мышления от специфики порождающих его производственных отношений и социальных предпосылок.
Основная же ошибка, помимо этого, коренится у обоих лагерей в том, что они недостаточно ощущают стадиальность между этими, казалось бы, несовместимыми системами мышления и совершенно упускают из виду качественный вид перехода из одной в другую. Недостаточный учет именно этого обстоятельства и у нас зачастую заставляет пугаться, как только речь заходит о ранних формах мышления. Это тем более странно, что у Энгельса в цитированной уже работе буквально на трех страницах имеется исчерпывающее изложение всех трех стадий строя мышления, через которые, развиваясь, проходит человечество: от раннего диффузно-комплексного, о котором мы приводили частичную цитату, через «отрицающий» его формально-логический и, наконец, к диалектическому, вобравшему «в снятом виде» оба предыдущих этапа. Подобное динамическое восприятие явлений для позитивистского подхода Леви-Брюля, конечно, не существует. Не только содержание мышления, но и самый ход и форма его процесса бывают качественно весьма различны для человека определенного, социально определившегося типа мышления, в зависимости от того или иного мгновенного его состояния. Граница между типами подвижна, и достаточно не слишком даже резкого аффекта для того, чтобы весьма, быть может, логически рассудительный персонаж внезапно стал бы реагировать всегда недремлющим в нем арсеналом форм чувственного мышления и вытекающими отсюда нормами поведения. Когда девушка, которой вы изменили, «в сердцах» рвет в клочья фотографию, уничтожая «злого обманщика», она в мгновенности повторяет чисто магическую операцию уничтожения человека через уничтожение его изображения (базирующееся на раннем отождествлении изображения и объекта).
Мексиканцы в некоторых отдельных частях страны и посейчас в случае засухи вытаскивают из храмов статую соответствующего католического святого, заменившего прежнего бога, ответственного 120 за дожди, и на меже… секут его за бездеятельность, полагая, что это окажется мерой воздействия на самого изображенного. Мгновенностью регресса эта девушка возвращает себя в аффекте на ту стадию развития, когда подобная деятельность казалась вполне нормальной и имеющей реальные последствия.
Наравне с этим мы знаем и не мгновенные, но зато и (временно!) безвозвратные проявления такого же психологического регресса, когда в регрессе целая социальная система. Тогда это называется реакцией, и блистательное освещение этому вопросу дают огни национал-фашистских аутодафе из книг и портретов нежелательных авторов на площадях Берлина! Так или иначе, рассмотрение того или иного мыслительного строя в себе замкнутым глубоко неверно. Это качество перескальзывания из типа мышления в тип, из разряда в разряд и, больше того, это одновременное соприсутствие в разных пропорциях разных типов и стадий и учет этого обстоятельства являются столь же важным, объясняющим и раскрывающим, как и по всем другим областям: «… Точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может быть получено только диалектическим путем при постоянном внимании к общему взаимодействию между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными…» (Энгельс, там же).
Последнее в нашем случае имеет непосредственное отношение к тем переходам к формам чувственного мышления, которые имеют спорадическое явление в состояниях аффекта или близких к ним и образцы стойкого наличия в элементах формы и композиции, базирующихся на закономерностях чувственного мышления, как мы выше старались это обосновать и проиллюстрировать. Я не буду больше нагромождать примеров. И мне остается добавить еще лишь одно.
Разобравшись в громадном материале подобных же явлений, я стал, естественно, перед вопросом, который может взволновать и вас. Так, значит, искусство есть не что иное, как искусственное регрессирование в области психики к формам более раннего мышления, то есть явление, идентичное любым формам дурмана, алкоголя, шаманства, религии и пр.! Ответ на это крайне простой, но и крайне любопытный.
Диалектика произведения искусства строится на любопытнейшей «двуединости». Воздействие произведения искусства строится на том, что в нем происходит одновременно двойственный процесс: стремительное прогрессивное вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в слои самого глубинного чувственного мышления. Полярное разведение этих двух линий устремления создает ту замечательную напряженность единства формы и содержания, которая 121 отличает подлинные произведения. Вне его нет подлинных произведений.
Вот в этом замечательном факте и свойстве, касающемся произведения искусства, и лежит то бесконечное принципиальное отличие его от всех близких, схожих, аналогичных и «напоминающих» областей, где тоже имеют место явления, свойственные «ранним формам мышления». В неразрывном единстве этих элементов чувственного мышления с идейно-сознательной устремленностью и взлетностью — искусство единственно и неподражаемо среди тех областей, которые для соотносительного анализа приходится привлекать к сравнительному разбору. Вот почему, памятуя это основное положение, нас не должен пугать аналитический разбор самых основных закономерностей чувственного мышления, твердо помня о необходимом единстве и гармонии обоих элементов, только в этом единстве создающих полноценное произведение.
Действительно: при превалировании одного или другого элемента — произведение неполноценно. Упор в сторону тематически-логическую делает вещь сухой, логической, дидактической. Бесславной памяти «агитпропфильм» именно таков. Но и перегиб в сторону чувственных форм мышления с недоучетом тематически-логической направленности — столь же роковое явление для произведения: произведение обрекается на чувственный хаос, стихийность и бредовость. Только на «двуедином» взаимопроникновении этих направленностей держится подлинное напряжение, единство формы и содержания.
И если сейчас мы приходим с громадными победами в области мировоззренческого освоения первой линии (о чем свидетельствуют последние киноработы), то с точки зрения техники нашего мастерства нам всячески надо углубляться сейчас и в вопросы второй компоненты. Те пока беглые наметки, которые я мог здесь изложить, и служат этой задаче. Работа здесь не только не завершена, она только начинается. Но работать здесь нам крайне необходимо. Изучение приводимых областей по этим вопросам нам очень важно.
Это тот материал, изучая и осваивая который мы чрезвычайно много узнаем о закономерности формальных построений и о внутренних законах композиции. А вы знаете, что по линии познаний в области закономерностей формальных построений мы достаточно убоги. Ведь, кроме весьма сомнительной формулы «об остранении»33, на этом пути ничего почти не говорилось. Сейчас же мы прощупываем по тем областям, которые были раньше отданы под своевольный разгул своенравного остранения, некоторые основные закономерности, уходящие корнями в самую природу чувственного мышления. Если мы сравним себя с музыкой или литературой, то у нас почти ничего нет, и, анализируя по этой линии целый ряд вопросов и явлений, мы накапливаем материалы точного 122 знания в области формы, без каковых нам никогда не достигнуть того общего идеала простоты, о котором мы все думаем. Для достижения же этого идеала и осуществления его чрезвычайно важно со всей решительностью уберечься от другой линии, которая, возможно, будет возникать, — от линии упрощенчества. Здесь нечего о ней распространяться. Этот вопрос достаточно дебатировался в литературе. Но и у нас в кино есть эта тенденция, которую некоторым уже хочется высказать в том виде, что нужно снимать «просто» и, в конечном счете, «не важно как». Это вещь очень страшная, потому что мы все знаем, что дело идет не о том, чтобы снимать вычурно и «красиво» (а вычурно И «красиво» получается тогда, когда автор не знает, что он хочет снимать или как надо снимать то, что он хочет). А дело в том, чтобы снимать выразительно. Мы должны идти к предельно выразительной и выражающей форме и в предельно скупой и экономной форме выражать то, что нам надо. Однако к этим вопросам можно успешно подойти только через очень серьезную аналитическую работу и через очень серьезное знание внутри природы художественной формы. Поэтому не путем механического упрощения дела, а путем планомерного аналитического выяснения, в чем секрет самой природы воздействующей формы, мы и должны идти. Я вам просто указал направление, в котором я сейчас работаю над этими вопросами. И если мы сейчас вспомним об «интеллектуальном кино», то мы увидим, что «интеллектуальное кино» имело одну заслугу, несмотря на свое самодоведение до абсурда, когда оно претендовало на исчерпывающий стиль и исчерпывающее содержание. Эта теория поставила такую возможность, где мы имели не единство формы и содержания, а тождественное совпадение их. А ценно это было потому, что в единстве было сложно разглядеть, каким же путем это воздействующее воплощение идей строилось. Когда же эти вещи «сплюснулись воедино», то был обнаружен ход внутреннего мышления как основная закономерность построения формы и композиции. Сейчас мы можем обнаруженные закономерности использовать уже не по линии «интеллектуальных» построений, а по линии построений всесторонних, сюжетных, образных, каких хотите, зная уже некоторые «секреты» и основные закономерности в строении формы и воздействующих построений вообще.
Я заканчиваю вот чем. Вы видите из того, что я разбирал по линии прошлого и по линии того, над чем я сейчас работаю, одну качественную разницу. Дело в том, что когда разными школами мы прокламировали приоритет монтажа, или интеллектуальное кино, или документализм, или какие-нибудь другие боевые программы, то это носило характер прежде всего направленческий. То, что я сейчас стараюсь вам хотя бы намеками рассказать о том, над чем я работаю сейчас, — носит характер совершенно иной. Оно носит характер не специфически направленческий («футуризм», 123 «экспрессионизм» или какая-нибудь другая «программа») — оно забирается в вопросы природы явлений, то есть в область, в равной мере нужную любому жанру построений внутри нашего единого и общего стиля социалистического реализма. Вопросы из направленческих интересов начинают перерастать в углубленный интерес к самой культуре той области, в которой мы работаем, то есть направленческая линия здесь заворачивается в линию исследовательски академическую. Я пережил это не только творчески, но и биографически: с того момента, когда я начинаю интересоваться этими базисными проблемами культуры формы и культуры кино, я биографически оказываюсь не на производстве, а в создающейся Академии кинематографии34, которая только что вырастает и путь к которой прокладывается и моей трехлетней работой в ГИКе. При этом интересно то, что отмеченное выше явление отнюдь не единично и это новое качество отнюдь не есть признак, относящийся только к нашей кинематографии. Мы видим, что целый ряд теоретических и направленческих линий перестает существовать как оригинальное «течение», а начинает в порядке видоизменения и перерастания включаться в вопросы методологически научные.
Можно указать на такой пример, как на учение Марра35 и на тот факт, что его учение, бывшее раньше «яфетическим» направлением в учении о языке, марксистски перерабатывается и входит в практику уже не как направление, а как обобщенный метод в вопросах изучения языка и мышления. Ведь не случайно, что почти на всех фронтах вокруг нас сейчас зарождаются академии, не случайно, что и по другим областям идут споры, например, по линии архитектурной, уже не узконаправленческие (Корбюзье или Жолтовский)36, не об этом идет разговор, идут споры о синтезе «трех искусств», об углубленном исследовании, о самой природе явлений архитектуры и т. д.
Я думаю, что в кинематографии у нас сейчас происходит нечто подобное. Ведь у нас, мастеров, на данном этапе нет таких принципиальных разногласий и споров по целому ряду программных положений, как прежде, а есть индивидуальные оттенки внутри единого и общего понимания единого стиля социалистического реализма. И это вовсе не есть признак «умирания», как могло бы показаться некоторым, — «когда не дерутся, значит покойник», — совсем наоборот. Именно здесь и именно в этом, я думаю, есть большое и интереснейшее знамение времени. Я думаю, что сейчас, с наступлением шестнадцатого года нашей кинематографии, мы вступаем в особый ее период. Эти признаки, которые сейчас прослеживаются и по смежным искусствам и которые сейчас имеют место и в кино, есть провозвестники того, что советская кинематография вступает после всяческих периодов разногласий и споров в свой классический период, потому что черты тех интересов и того 124 характерного подхода к целому ряду проблем, та тяга к синтезу, та ставка и требование полной гармонии всех элементов от сюжета до композиции кадра «без скидок на бедность», то требование полноценного качества и все то черты, которые наша кинематография приобретает, — есть признаки высшего расцвета искусства.
И я считаю, что мы сейчас вступаем в самый замечательный период — в период классицизма нашей кинематографии, в лучший период в самом высоком смысле слова; и, чтобы закончить мое выступление, я скажу, что в такой момент вне продукции стоять нельзя, и я наравне с моей академической работой с начала этой же весны врываюсь в производство, чтобы в этом создающемся классицизме иметь свое место и внести в него и свой вклад. (Аплодисменты).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Страшно брать на себя заключительное слово по такому совершенно исключительному событию, как наше творческое совещание. Я не выдающийся оратор. К тому же почти все речи, здесь произнесенные, находятся на такой большой принципиальной высоте, а выступление т. Бляхина, посвященное высокому вниманию, оказанному нам правительственным постановлением от 11 января с. г.37, так всех нас волнует, что особенно трудно вернуться еще раз к целому ряду наших специальных вопросов, о которых все-таки приходится кое-что сказать.
Одним из замечательных признаков нашей конференции было то, что споры велись в высоком ключе и не было того, что Ленин называл «придиренчеством». По основным вопросам мы все сходимся во мнениях, и это самое замечательное в нашем совещании. Но я должен, пользуясь возможностью, поспорить с т. Юковым38 относительно определения «классический», которое я хотел бы придать киноэпохе, начинающейся с этих дней. Дело в том, что у т. Юкова в его выступлении немного звучало «придиренчество», и оно нехорошо зазвучало, когда он себе позволил истолковать мое определение «классический» как некоторую подмену понятия социалистического реализма! И по этому поводу я хочу ему с полным весом возразить. Дело в том, что никакого противопоставления здесь не было.
Есть люди, которые, когда им говорят «классический», видят перед собой неизбежно коринфскую капитель, или ионические завитки39, или живопись Луи Давида40 с мертвенно позирующими фигурами. Здесь речь идет не об этом классицизме. Здесь идет речь о термине «классический» в совершенно определенном понимании, как образце наивысшего качества.
Так как здесь спор может быть филологический, то разрешите вам процитировать одно место по поводу этого слова из доклада, 125 называвшегося «Проблема познания в историко-материалистическом освещении», прочитанного на сессии Института философии Комакадемии, посвященной 25-летию выхода в свет книги «Материализм и эмпириокритицизм». Там были следующие слова:
«… Вот мы все употребляем термин классический. “Классический” — в смысле совершенного образца. Однако мало кто знает истинный, первоначальный смысл этого понятия. А дело здесь заключается в том, что со времени образования классового строя в древнем мире “classicus” обозначало классовое; первый класс с гордостью носил название “classis”; “classicus” означало все то, что относилось к представителям первого высшего класса, который противопоставлял себя всем другим классам, в особенности древнеримским “пролетариям”. При этом само собой разумеется, что одновременно возникла чисто классовая идеология, причем “классический” означает и “совершенный” в силу одного того, что речь идет о качествах высшего класса.
Все, что являлось продуктом деятельности и творчества этого класса, тем самым было совершенным, образцовым.
Мы видим, что у Геллия41 “classicus” противопоставляется “proletarius”.
У Геллия, например, классический писатель противопоставляется пролетарскому как малоценному уже в силу принадлежности этого писателя к низшему классу — к “пролетариям”. И мы, например, говоря “первоклассный писатель”, но подозреваем того, что мы повторяем то же самое и что это означает: писатель, принадлежащий к первому, высшему классу общества…». (А. Деборин42. Проблема познания в историко-материалистическом освещении. — «Под знаменем марксизма», 1934, № 4, стр. 125.)
Товарищи, первый высший класс общества теперь — класс пролетарский. (Аплодисменты). Самому высшему искусству самого высшего класса принадлежит право на этот термин, на термин классического искусства.
В связи с этим я хотел бы сказать следующее: мы заслушали при открытии нашей конференции доклад не специалиста по кинематографии. Я бы хотел сказать, что до данной конференции он был не специалистом, а с этой конференции — он один из ведущих специалистов (аплодисменты), ведущих потому, что Сергей Сергеевич Динамов сумел сделать важнейшее — он сумел все темы, которые беспокоят кинематографию, объединить в замечательном докладе, не изобидев ни один из этих вопросов, а нужно сказать, что наши товарищи профессионалы во многих случаях не оказывались на такой же высоте… Были моменты, когда акценты смещались, когда не было достаточно сказано по отдельным вопросам. Несмотря даже на это, я уже отмечал чрезвычайно высокую принципиальную значимость этих выступлений, но я хотел бы 126 обратить внимание на одно: дело в том, что в наших беседах, в наших выступлениях промелькнула тень одной возможной опасности.
Мы все отмечали и отмечаем с бесконечной радостью, что мировоззренчески кинематография колоссально выросла. Тем более опасно было пробегавшее иногда настроение, что это — исчерпывающе и что этим все сказано. Это сквозило в некоторых режиссерских выступлениях. Сегодня я должен отметить с большой радостью, что операторы несколько выправили эти вопросы. Может быть, они говорили не так долго, не так хорошо, как многие из режиссеров, но они сделали в ряде выступлений тот добавочный поворот ручки, который, как говорит Козинцев43, делает Москвин44 в отношении режиссерского кадра, после чего становится совсем хорошо. Это вопрос о колоссальной ответственности и важности всех тех элементов культуры, из которых складывается синтетическое произведение кино! Я хочу сказать очень резко по этому поводу, потому что это, товарищи, опасность и ошибка, в какую однажды теоретическая мысль уже впадала.
Эти настроения как бы собрались в последней фразе выступления т. Юткевича, взятой из писем Жорж Санд45 и направленной прямо на меня. Вы помните, как он заканчивал: «вот что пишет Жорж Санд… Эйзенштейну». Там были такие слова:
«Ты читаешь, изучаешь, трудишься больше, чем я, больше, чем множество других. Ты приобрел образование, какого у меня никогда не будет. Ты во сто раз богаче, чем все мы. Ты богат, а жалуешься, словно нищий. Подайте нищему, у которого матрац набит золотом, но который хочет питаться лишь красиво сделанными фразами и отборными словами. Но, глупец, ты поройся в своем сеннике и ешь свое золото. Питайся идеями и чувствами, найденными в своей голове, в своем сердце; слова и фразы, форма, с которой ты так носишься, появится сама, как результат пищеварения…»
Тов. Юткевич взял себе в подсобницы Жорд Санд. Я стал искать, какую же мне девушку выбрать в сообщницы. (Смех). Но когда я искал, как уесть Юткевича, я решил посмотреть, может быть, и мне поможет та же Санд. Искал, искал и наконец нашел… ту же самую фразу, которую приводил Сережа. Дело в том, что если он в своем выступлении опирался на нее, то Жорж Санд опиралась на целый ряд более ранних высказываний, в которых говорилось в таком стиле: будь здоров, а все остальное приложится. Или еще говорилось: «Ищите царствие небесное, — а остальное приложится».
Я позволил себе такую резкую формулировку, потому что в этой фразе может прозвучать то, что Владимир Ильич заклеймил в свое время в отношении пролеткультовской линии. Мне самому приходилось работать в Пролеткульте в тот период, когда там существовала 127 такая точка зрения: принадлежи к рабочему классу, будь молодым рабочим. И…
С места: Все остальное приложится.
И против этого положения мне приходилось драться в 1920 – 1921 годах. Вы не поверите, что творилось в то время в театре, когда режиссеры сидели и старались, чтобы у молодого студента, симоновского рабочего Антонова46 или другого само возникало выразительное проявление, которое было бы совершенным проявлением, и все старались не вмешиваться в это дело: как он скажет, как он поймет, так и должно быть. Я на первых порах тоже сидел и приглядывался и думал: «А может, действительно это так?» Но потом я подошел несколько иначе и стал анализировать — в чем же тут дело? Оказывалось, что в очень многих случаях эта ожидаемая оригинальность была просто перепевом, и даже не перепевом высокого культурного наследства, а самых убогих образцов, на которые были обречены во времена царского правительства рабочие Симоновского и других районов в их тяге к культуре и искусству. Тогда мы стали проводить иной крен, опираясь на то, что в отношении Пролеткульта говорил Владимир Ильич, брали крен на другое: на то, чтобы дать весь материал и все образцы совершеннейших форм культуры, совершеннейшего мастерства и техники этим молодым рабочим, которые приходили к нам в студии и театры Пролеткульта.
Во избежание повтора возможных ошибок в этом направлении я и считаю своим долгом это сегодня напомнить. Эта самая фраза Жорж Санд направлена против т. Юткевича и еще другим планом. И здесь приходится оперировать мне не только ее письмом, но и оперировать теми высказываниями, которые встречаются у ее адресата — Флобера. Дело в том, что Флоберу принадлежит замечательное дополнительное высказывание, что несовершенство формы есть всегда показатель неотчетливости в охвате идеи. Но я не хочу пользоваться этим полемически против т. Юткевича. Я здесь говорил, и он согласился, и все мы согласились, что «Встречный» при всем своем замечательном высоком идейном качестве формально еще — не последняя точка совершенства, которая может быть.
Согласны?
Голоса: Конечно.
Я не буду делать из этого обратного вывода, что если он совершенен не во всех своих композиционных достоинствах, то это от неискренности художника. Этого не может быть. Я слишком уважаю произведение и авторов, и в их же интересах я же предпочту снять цитату Жорж Санд как ведущую и ближе подойти к тому, чему учил нас Ленин в отношении Пролеткульта.
128 Это подводит меня к вопросу, который тоже имел здесь некоторое хождение, а именно, что работу по изысканиям в области техники нашего искусства, работу над разрешением специальных проблем нашего мастерства и искусства мы все-таки еще немного недооцениваем.
Никому не приходилось здесь выслушивать столько комплиментов в отношении мудрости, ума и высокого лба, как мне. Почти каждый выступавший об этом говорил очень мило: «Дорогой Сергей Михайлович, вы у нас умный и пр.» Когда же дело касалось конкретной работы Сергея Михайловича на этом фронте, то столь же неизменно происходило некоторое похлопывание по плечу: чудачеством, дескать, занимаетесь. В академии и в кабинете. Нужно ставить картины. А вся ваша работа там — это так, между прочим.
Я считаю, что нужно ставить картины, и я буду ставить картины, но я считаю, что эта работа должна вестись параллельно с такой же интенсивной теоретической работой и теоретическими изысканиями.
Голос: Правильно. (Аплодисменты).
В связи с этим мне хочется сказать Сергею Васильеву47. В твоем выступлении ты выходил и говорил: «Я говорю с тобой как ученик с учителем». Позволь же и мне говорить с тобой как учителю с учеником.
Когда ты говоришь мне о моем китайском халате с иероглифами, в котором я якобы сижу в своем кабинете, ты делаешь одну ошибку: на нем не иероглифы. И я не на статуэтки смотрю и абстрактно созерцаю, когда сижу в кабинете. Я работаю над проблемами, которые будут двинуты подрастающему молодняку кинематографии. И если я сижу и работаю в кабинете, то это для того, чтобы ты не терял времени в кабинетах, а мог бы и дальше делать столь замечательные картины, как твой «Чапаев». (Продолжительные аплодисменты).
Известен разговор «о башне из слоновой кости». И если уже говорить о слоновой кости48, то позвольте мне поселиться не в башню, а считать, что я живу в одном из бивней, которыми нужно пробивать те темы, которые есть в кинематографии. И если я в последние годы, может быть, работал больше одним бивнем — теоретическим и академическим — над методикой, теорией и практикой воспитания режиссеров, то с этого момента я включаюсь на работу в два бивня — в производственный и теоретический. (Продолжительные аплодисменты).
И сейчас в связи с этим я хочу коснуться одного вопроса, который волнует вас и о котором не говорят в открытую. Я хочу этот вопрос поставить открыто. Это тот пункт из постановления правительства о награждениях в связи с пятнадцатилетием нашего кино, который касается меня.
129 Какие чувства у нас, и в частности у меня, в отношении этого постановления?
Товарищи, я считаю, что это документ величайшего назидания, которое мы получили от партии и от правительства. И в той части, в которой это касается меня, это, может быть, наиболее мудро, чем во всех других, сделано. И так именно я его и читаю. Дело в том, что вы знаете, что в оперативную, непосредственно производственную работу я не включался несколько лет, и постановление в части, которая касается меня, я понимаю как величайшее указание партии и правительства на то, что я обязан включиться и в производство.
Я режиссер и педагог. И возможны случаи, когда я поступил бы так же, не боясь, что это может разбить чье-либо сердце.
Товарищи, мое сердце не разбито, не разбито потому, что сердце, которое бьется за большевистское дело, разбито быть не может. (Продолжительные аплодисменты, все встают и стоя аплодируют).
Товарищи, вы мне здесь ассигновали очень много на мозг, прошу с сегодняшнего дня ассигновку и на сердце. (Аплодисменты).
Случаен ли, как здесь обронил замечание т. Юткевич, или не случаен, товарищи, «Броненосец “Потемкин”» — такие картины пишутся кровью сердца, и то, что я вам сейчас говорю, говорится для того, чтобы положить конец всем тем сплетням и разговорам об обойденных или недооцененных, которые могут быть у кого-нибудь или среди кого-нибудь. Эти разговоры нужно со всей большевистской решимостью выдрать немедленно из ваших сердец. (Аплодисменты). Это мешает работать. Работа, которую мы делаем в нашем партийном деле, работа не пропадающая, это работа историческая, и эта работа всегда себя покажет. В этом самая громадная похвала, которую мы можем иметь.
Заканчиваю и хочу сказать, что те великие исторические события кинематографии, которые происходят в эти самые дни, должны нас мобилизовать на то, чтобы брать в лоб и крепко все те колоссальные, трудные проблемы, которые перед нами ставит наш наступающий классический период социалистического реализма. Он классический потому, что, собственно говоря, с сегодняшних дней устанавливает правильные нормы и правильные пути исканий, правильные взаимоотношения нашей тематики, и форм нашего искусства, и всей работы в целом. Это есть период величайшей внутренней гармонии. Это не значит, что мы, как в Эдеме, будем спать спокойно, без бдительности и без борьбы. Многое сделано, но еще больше впереди! Но это значит, что борьба наша за чистоту методов социалистического реализма будет идти на более высоком уровне, мы будем говорить более полным голосом, мы будем говорить на базе возросшего социалистического мировоззрения кинематографистов, чего не было в таком объеме раньше.
130 Товарищи, здесь, может быть, смешались акценты, может быть, обижены сценаристы, что недостаточно о них говорили, может быть, режиссеры, может быть, актеры, может быть, операторы. Товарищи, это не так. Может быть, мы не говорили об этом в каждом выступлении, но мы это чувствуем и знаем, что только бездарный коллектив может существовать на подавлении одной творческой индивидуальности другой. (Аплодисменты).
И, товарищи, мы не должны забывать на этом самом собрании ту колоссальную роль, которую в нашем деле играет и наше непосредственное руководство. Вы знаете, что мы немало спорили и препирались в речах и на страницах прессы с т. Шумяцким49. Но вчера, когда было собрание награжденных, мы с т. Шумяцким обнимались, и Фридрих Эрмлер50 сказал, что с этого момента начинается новый этап во всей нашей работе, этап непосредственной близости и полного до конца ощущения одного общего дела между творческими работниками, которых я в тот момент имел честь представлять, и руководством, которое поставлено партией и которое ведет большевистское дело со всеми нами. (Аплодисменты).
Товарищи, осталось бы еще сказать заключительное слово по поводу всего того, что было здесь сказано. Я думаю, что от этого заключительного слова, формулирующего еще раз все положения, мы можем спокойно отказаться. Мы считаем, что это только первое совещание, но можем сказать, что мы оказались самым сильным совещанием из имевших место в искусстве. Почему? Потому что в качестве наших формулировок и заключительных слов мы имеем документы такой неоценимой исторической важности, как те, которые мы в эти дни читали на первых страницах наших газет. Те слова, которые к нам обращали ЦК нашей партии и правительство Страны Советов51.
Лучшие заключительные слова, лучшие программы на дальнейшие действия найти невозможно, и переложением этих слов на язык нашего дела будет та социалистическая красота, с которой начал свой доклад т. Динамов.
Я думаю, товарищи, что мы можем на этом закончить наше совещание. Мы твердо знаем, что мы должны делать в будущем. (Бурные аплодисменты).
1935
131 ПРОГРАММА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РЕЖИССУРЫ
О
методе преподавания предмета режиссуры*
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В основу изучения многосторонних областей, из знания которых складывается специфика режиссерского мастерства, берется положение Ленина:
«… от сосуществования к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей…» (Лен[инский] сборник IX, стр. 277).
Это единственный путь, который позволяет охватить все разносторонние и на первый взгляд самостоятельные темы и разделы, входящие в состав собственно режиссерской дисциплины.
При этом в основе метода прохождения всех этапов режиссерских знаний неуклонно соблюдается то положение, что мы имеем: «… повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей…» (Лен[инский] сборник IX, стр. 277).
Поэтому области, разделы и темы режиссерской дисциплины рассматриваются как этапы единого общего процесса развития и усложнения. Специфика их рассматривается как последовательная поэтапность с качественным скачком между отдельными областями и видами.
Поэтому и каждый частный раздел и каждая отдельная тема внутри этих областей излагаются так, чтобы их признаки и черты опознавались как качественные виды и проявления одних и тех же закономерностей, относящихся к данной области в целом.
(Например: кадрик — кадр — монтаж; или: мизансцена — жест — интонация и т. д.)
Каждый признак на новом этапе развития форм и разновидностей прослеживается как перерастание специфики предыдущей стадии и всех ее черт в новое качество.
132 В этой взаимосвязи поэтапного развития рассматриваются как целые области, так и отдельные элементы внутри каждой из них.
(Театр и кино. Выразительное проявление в движении и проявление, объективированное в произведение. Мизансцены и мимика, повторяющие свои взаимоотношения на более высокой стадии в виде сочетания монтажа и кадра, и т. д.)
Такой подход от нагляднейших и простейших форм и проявлений — с прослеживанием развития и усложнения их по мере приближения к областям более сложного развития — единственно обеспечивает сознательную ориентацию в сложнейших проблемах режиссерского знания и мастерства.
Только такой подход обеспечивает единый теоретический охват всех сложнейших разновидностей предмета режиссуры, в то же время до конца характеризуя специфику каждого частного его раздела.
Только при таком подходе мы этап за этапом сумеем критически овладеть культурой и двигать ее дальше.
«… Критика должна состоять в том, чтобы сравнить и сопоставить данный факт не с идеей, а с другим фактом; для нее важно только, чтобы оба факта были по возможности точно исследованы и чтобы они представляли из себя один по отношению к другому различные моменты развития, причем особенно необходимо, чтобы с такой же точностью был исследован весь ряд известных состояний, последовательность их и связь между различными ступенями развития» (Ленин, т. I, «Что такое друзья народа?», стр. 83).
Если это неуклонно применяется ко всем областям режиссерской деятельности, то и сама эта деятельность в отношении родственных областей, вплоть до наивысшей формы творчества — практического перестроения социальной действительности1, рассматривается не изолированно: на каждом этапе необходимы экскурсы в соответствующие фазы других отраслей творчески созидательной активности, прослеживающие те же элементы и закономерности в других сферах и областях.
Таким образом, предмет режиссуры на каждом этапе его прохождения органически соприкасается и планомерно врастает в соседние дисциплины, где каждая отрасль уже углубленно изучается под руководством специалистов.
Это обусловливает взаимосвязь всех дисциплин2 факультета в целом и ликвидирует хаотическое взаимоприсутствие безотносительных или безотносительно изучаемых дисциплин, что обычно является характерным для программ по художественному образованию.
133 МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ
Ни один из общепринятых академических методов преподавания для обучения режиссерскому мастерству — недостаточен.
Это касается не разделов по накоплению специальных знаний, по которым режиссура соприкасается с другими предметами преподавания (первый курс), а в первую очередь ее основной специфики, а именно развития и воспитания творчески изобретательской и творчески конструктивной деятельности и мастерства.
Причем в этом режиссура специфически отличается еще и от других творческих специальностей, несмотря на общность ряда черт с ними.
Основа деятельности режиссера состоит в том, чтобы в противоречиях вскрывать, выявлять и выстраивать образы и явления классово отраженной и осознанной действительности.
Для обучения этому ни лекционный, ни семинарский метод — недостаточны.
Поэтому в порядке подведения к каждому разделу лекций по теории данного вопроса мы вводим особый вид занятий — режиссерский практикум.
Режиссерский практикум имеет целью творческое разрешение заданий совместно с руководителем по соответствующему разделу творческой практики на основе дискуссионно-коллективного метода.
Через столкновение разных точек зрения фактических носителей их — членов учебного коллектива — и отсюда [через] всестороннее освещение задания и критический отбор творческих предложений студент постепенно подводится к умению всесторонне критически разбираться в условиях собственной индивидуальной работы по изобретению и композиции.
Таким образом, каждый новый этап прохождения дисциплины после необходимейших теоретических предпосылок начинается с практического разрешения простейшего задания из цикла тем, охватываемых данным разделом (планировочное, игровое, кадрово-монтажное и т. п.).
На каждой стадии работы руководитель наводит аудиторию на правильную постановку тех вопросов, решение которых обеспечивает конкретное разрешение задания.
Сталкивая между собой отдельные правильные или неправильные ответы аудитории, руководитель показывает:
1. Как выводится исчерпывающе правильное для данных условий творчески композиционное решение.
2. Исходя из этого частного конкретного разрешения, раскрывает подлежащую ему общую закономерность, стараясь на данной «клеточке» частного творческого разрешения раскрыть общие элементы диалектического процесса созидания, связанного с данным этапом, следуя в этом указаниям Ленина по изучению диалектики 134 вообще, ибо «… в любом предложении можно (и должно), как в “ячейке” (“клеточке”), вскрыть зачатки всех эл[емен]тов диалектики…» (Ленинск[ий] сборник XII, стр. 325).
3. Развертывает перед студентами в порядке теоретических обобщений уже соответствующий раздел теории: момент, когда практикум органически переходит в слушание цикла теоретических лекций, касающихся данной области режиссерского мастерства.
Следующей фазой обучения явится уже самостоятельная индивидуальная работа студента в пределах данного раздела, закрепляемая соответствующими контрольными работами.
Работы критикуются коллективно под руководством преподавателя на основании пройденного раздела теории, после чего руководитель дает теоретическое резюме по проделанным работам и переходит к следующему этапу обучения.
Данный метод обеспечивает:
1. Единый для всей группы общий фонд первоначального накопления конкретного опыта практических разрешений по данной отрасли работы.
При прохождении дисциплины это дает руководителю возможность оперировать этим общим запасом практических разрешений, в одинаковой мере знакомым всей группе.
2. Раскрывает как бы «цейтлупой» перед аудиторией фактический ход процесса изобретения и выдумывания, т. е. «творческого озарения», которое есть не более как сжатый в мгновенность процесс отбора решения, наиболее отвечающего данным частным условиям. Четкое осознавание этих определяющих условий и умение находить разрешение, им отвечающее, — суть основы техники режиссерского мастерства.
В целях наиболее наглядного и живого проведения этих занятий рекомендуется преподавателю, если он достаточно опытный режиссер, заготавливать заранее только основные, узловые этапы разрешения, через которые он проводит аудиторию, максимум же изобретательской и композиционной работы проводить совместно с аудиторией на месте, дабы наглядно и ощутимо демонстрировать этот процесс в работе самого мастера.
3. Приучает дисциплинированно мыслить «по существу» и применительно к конкретному случаю и заданию. Одной из основных задач педагога по линии планомерного подбора последовательных заданий на такого рода занятиях является умение играть «наводящую» роль, умело втягивать слушателей в творчески изобретательские высказывания и направлять обсуждение по жестко рациональной линии.
4. Наконец, этот метод обеспечивает наиболее полное и всестороннее раскрытие индивидуальности, хода мысли, умственного и творческого склада и предрасположения, роста и успеваемости каждой индивидуальности внутри коллектива аудитории.
135 ПЕРВЫЙ КУРС
[I и II
семестры]
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В задачу первого курса входит воспитание в студенте тех качеств и снабжение его теми специальными сведениями, которые в равной мере необходимы для любой творческой деятельности и профессии. К ним постепенно присоединяются элементы, специально нужные для будущего режиссера.
Поэтому курс, естественно, распадается на две группы занятий, а именно:
1. Занятия, имеющие воспитательно-тренировочную установку.
2. Занятия, имеющие целью дать первоначальное накопление сведений по будущей творческой и производственной специальности.
Первая группа занятий имеет задачей приучить студента к основным нормам и установкам, необходимым для каждого творческого работника вообще: от примитивной наблюдательности разведчика в быту и простой ориентации во времени и пространстве до классово направленной ориентированности в окружающей социальной действительности и ее явлениях.
Достигается это путем воспитания в нем необходимых психофизиологических предпосылок и развития в нем способности выявления на конкретном пластическом материале действительности тех общеполитических и социально-экономических положений, которые он проходит по циклу общественных наук.
Вторая группа предметов имеет задачей в лекционном порядке:
а) ознакомить студента с общими чертами творческой деятельности и практики по разным областям творчески созидательной активности вообще;
б) развернуть перед студентом общую картину его будущей производственно-творческой деятельности на специфическом участке производства кинолент.
МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ
Эти общие положения определяют и специальный метод прохождения предмета режиссуры на первом курсе.
Целый ряд тем проходится циклами под руководством специалистов по этим областям. Однако все они рассматриваются как составные части одной дисциплины и проходятся в строгой взаимной координации под непосредственным наблюдением основного преподавателя, ответственного за прохождение дисциплины предмета теории и практики режиссуры, по его указаниям и его программным 136 заданиям, поскольку все эти циклы не имеют самостоятельного значения, а являются необходимыми подготовительными предметами к специфике режиссерской композиции и выразительного движения в установке на технику режиссерского показа.
РАЗДЕЛ I. РАБОТА НАД СОБОЙ
Развитие необходимых физических данных
1. Физическое укрепление здоровья и организма. Общая физкультура.
2. Воспитание правильных основ движения:
а) бокс, воспитание равновесия и четкой работы двигательных рефлексов;
б) прохождение выразительной гимнастики Рудольфа Боде3 или биомеханики4 по системе Мейерхольда.
3. Постановка голоса и основы дикции.
4. Ориентация во времени и пространстве:
а) глазомерная геодезическая съемка методом военного планшета и вольной крокировки;
б) воспитание чувства времени;
в) ритмическое воспитание (специальные упражнения и танец) как синтез временно-пространственной ориентации.
5. Рисунок и зарисовка (пространственное размещение в примитивной композиции, пропорции, ракурс, зарисовки по памяти и т. д.).
Развитие необходимых данных для направленного восприятия5.
1. Проблемы реконструкции действительности:
а) общее и частное;
б) искажения в передаче «очевидцев»;
в) роль традиционных шаблонов;
г) использование наследства6;
д) объективность и тенденциозность7.
2. Техника направленной фактографии8.
А. Работа анализа и синтеза, рассмотренная на литературных примерах (беллетристика и фактический материал).
Б. Аналитическая работа.
1. Разведчик-наблюдатель.
2. Розыск:
а) наблюдение;
б) протоколизация и классификация;
в) словесный портрет.
137 3. Расспрос:
а) опрос и интервью;
б) допрос и следствие;
в) обследовательская работа.
Практика аналитической работы:
а) собирание сведений по определенным отраслям, местам и событиям (из материала действительности, а также музейно-библиографического порядка);
б) опись и классификация «типажа»;
в) практическое интервьюирование.
В. Синтетическая работа.
1. Репортаж и корреспонденция.
2. Обозрение.
3. Очерк и фельетон.
«Короткая строка» как потенциальный монтажный лист.
4. Эти же методы в сходной специфике на кино (хроника и кинопоезд).
Практикум направленной реконструкции события и явления.
1. Разложение явления:
а) общий план события;
б) физиогномика события;
в) определяющие детали. Исходный литературный материал: записи Леонардо да Винчи, Золя, Гоголя.
2. Обобщение и изложение события:
а) точка зрения на явление;
б) тональное ощущение и конкретизация его на материале,
в) монтаж элементов излагаемого события;
г) закрепление изложенного работой очеркиста-практика.
Творческий процесс
А. Общие положения.
1. Характерные черты и качества, определяющие творческую личность.
2. Творческие приемы и техника работы.
3. Количество, качество и планировка работы.
4. Метод и объем накопления запасного исходного материала.
5. Использование наследства (творческое и плагиат).
6. Творческие неудачи. Ошибки, самокритика, преодоление и опыт, ошибки и неудачи.
7. Процессы творчества и творческие биографии выдающихся творческих личностей:
а) Ленин, Маркс, Энгельс;
в) Флобер, Золя, Бальзак, Мопассан, Гоголь, Толстой.
138 8. Западные и советские мастера театра и киномастера и их творческий опыт.
9. Творческий коллектив. Творчество индивидуальное и коллективное27*.
Б. Практикум творческого процесса.
1. Воспитание необходимых предпосылочных данных к творческой деятельности.
2. Творческий режим и творческое самодисциплинирование. (Пп. 1 и 2 под руководством специалистов системы Станиславского, однако лишь в объеме первоначальных ее ступеней.)
3. Накопление творческого запасного материала:
а) записная книжка;
б) собирание иконографического материала.
Работа в коллективе и на производстве.
Такт и тактика в обращении с людьми.
1. Буржуазные методы, вытекающие из основ буржуазного общества.
2. Пролетарский подход:
а) коллективизм и принципы коллективной работы;
б) практика Ленина в обращении с людьми и в руководстве;
в) специфика работы в условиях советской общественности.
Работа начальника политотдела, массовика-организатора и т. д.
РАЗДЕЛ II. РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ
Режиссер на производстве
Ознакомление с фазами процесса производства кинофильмов, рабочими местами и деятельностью всех специальностей, из которых складывается данный процесс.
1. Тематическое планирование производства.
2. Организация производства (система ГУКФ11 и кинотресты нацреспублик).
3. Сценарный отдел и работа сценаристов.
4. Режиссер и режиссерская группа:
а) режиссерский сценарий;
б) подготовительный период;
в) репетиционный период;
139 г) производственно-съемочный период;
д) монтажный период;
е) выпуск картины и общественный просмотр;
ж) прокат и распространение картины.
5. Взаимодействие режиссера и остальных творческих работников:
а) режиссер и сценарист;
б) режиссер и оператор;
в) режиссер и композитор;
г) режиссер и художник;
д) режиссер и актер.
6. Режиссер и фабричные цехи.
7. Режиссер в административно-хозяйственной системе фабрики.
8. Режиссер как общественный работник (массовые просмотры).
Режиссер на Западе и в СССР12
Рассмотрение ряда картин в чисто режиссерской установке и ознакомление с теми образцами и примерами режиссерской кинокультуры, которые необходимы как иллюстративный материал на специальных семестрах.
А. Кинематография Запада
1. Авантюрно-приключенческая.
2. Комическая.
3. Мелодрама и наивный реализм.
4. Комедия.
5. Исторические фильмы.
6. Немецкий экспрессионизм.
7. «Авангард».
8. Другие разновидности.
Б. Советская кинематография
1. Старые мастера.
2. Послереволюционные мастера, направления и жанры.
Практика первого курса
Теория, изучаемая на первом курсе, неразрывна с практикой, и для полного освоения этого раздела проводится еще и практика вне института.
Практика эта должна натренировать студента на умение прилагать методы практического обследования действительности, которым должен обучать первый курс.
Студент проходит практику так, чтобы в окружении знакомого и привычного ему суметь практически ориентироваться и охарактеризовать 140 социальную значимость происходящего; очертить конкретных людей, проводящих конкретное дело; описать осмысленно соответствующие участки социалистического строительства, с которыми ему приходится сталкиваться.
Все это закрепляется в форме очеркового обследования, подборе характеристик, фотоматериала, записей, зарисовок и типичных данных с таким расчетом, чтобы представить это в конкретном, социально осмысленном фактическом виде, предшествуя этим будущей художественной и образной форме показа социалистической действительности.
Этот тип практики для первого курса проходится во время летнего отпуска, для того чтобы названная работа студентом могла проводиться в условиях наиболее близкой и знакомой ему обстановки.
Выбор темы предоставляется студенту и зависит от специфики той обстановки и условий, в которые он в отпускное время попадает. (Работа многотиражки на крупном предприятии. Колхоз. Кампания по реализации займа. Внедрение стахановских методов. МТС. Лагери красноармейских частей. Лесные разработки. Бесконечное количество реальных конкретных фактов и людей, в окружение которых он попадает или сам или среди которых он, сознательно принимая участие, выступает.)
По линии кинематографической это воспитывает то, что мы могли бы назвать киноразведчиком.
Воспитанные на этом курсе качества в равной мере нужны на всех этапах творческого овладения действительностью. По профессиональной же характеристике тому, кто этим бы ограничил свое образование, может быть присвоена квалификация технического помрежа13.
ВТОРОЙ КУРС
III
семестр
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ПРАКТИКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
Мизансцена-резонэ14
Практическое переложение строчки простейшего сценарного выразительного задания или ситуации в цепь драматических событий и действий. Методы коллективного дискуссионного отбора и изобретения.
1. Анализ ситуации: социальная характеристика действующих лиц и сюжетно-эмоциональная трактовка. Установление отправных выразительных узлов.
141 2. Организация событий в пространстве:
а) ознакомление с техникой трехмерного графика записи;
б) планировка статической обстановки и света;
в) выразительное движение одной фигуры внутри неподвижной обстановки.
3. Организация события в пространстве и времени:
а) ознакомление с техникой четырехмерного графика;
б) планировка динамической среды, динамический источник света;
в) координация выразительной деятельности и взаимных перемещений ряда фигур;
г) планировка массовой сцены.
4. Специальная организация события в пространстве:
а) планировка по кругу (типа цирка);
б) по окружности (окружая зрителя);
в) на портал;
г) на точку (переход к понятию кадра).
5. Специальная организация события во времени: виды на переход мизансцены в примитивный монтажный лист.
6. Специальная организация события в звуке. Специфика радиопьесы и радиопостановки.
7. Практическое выполнение аналогичных мизансценных заданий на дому, разрешаемых группами студентов.
Коллективно-дискуссионная группа (не бригада) как переходная стадия от полной аудитории к индивидуальному решению заданий.
8. Индивидуальные задания.
Положения общего порядка, раскрываемые по ходу практикума
А. По линии творческой.
1. Творческий феномен в его реальном протекании. Полная картина его, единая для любых областей творческого порядка. Практическое участие в таковом (коллективно и индивидуально).
2. Теоретический экскурс в область существующих учений и систем:
а) односторонность их, понимаемая как гипертрофия отдельных фаз нормально протекающего творческого процесса;
б) социально-историческое этому объяснение;
в) ошибочность механического разделения на «внутреннюю» и «внешнюю» технику. Ошибочность механического «синтеза». Подлинное единство в целостном творческом процессе. Методика его;
142 г) рациональное использование существующих систем применительно к определенным фазам творческого процесса и воспитания его.
Б. По линии композиционной.
1. Понятие о трактовке.
2. Закон соподчинения частей и частностей единству замысла целостного разрешения.
3. Прием перевода словесно-образного обозначения в образ действия.
4. Несостоятельность формальной логики и недостаточность «здравого смысла» (Ф. Энгельс)15 в деле разрешения художественных заданий. Наглядные примеры. Анализ типовых ошибок. Диалектичность правильного разрешения.
5. Перевод основного законченного мелодраматического разрешения путем перетрактовки в план буффонно-комический и патетический. Приемы этого перевода, обоснованные кратким экскурсом в природу комического и патетического (подробное рассмотрение этих вопросов является предметом VII семестра).
6. Организация выразительного проявления на человеке. Жест, мимика, рассматриваемые как мизансцена, собранная на человеке. Мизансцена как мимическое проявление, взрывающееся в трехмерное пространственное проявление.
7. Такое же понимание, распространенное и на интонацию. Переход к планировке диалога и монолога пространственно и интонационно.
8. Стадиальная последовательность развития и композиционное соприсутствие отдельных элементов выразительного проявления.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
А. Учение о мотиве.
Мотив как побудитель проявлений.
Ответное реагирование: комплексное и дифференцированное.
Б. Выразительное проявление как борьба мотивов. Прослеживание этого явления от борьбы нескольких мотивов до реагирования в противоречиях на единый мотив.
1. Низшая стадия:
а) выразительное проявление растений: гелиотропизм16 и геотропизм17;
б) тропизм низших животных18 и специфика их реагирования в отличие от растений. Реагирование зародыша.
143 2. Стадия рефлексов,
Продление традиций предыдущих этапов и новое качественное приобретение данного этапа.
3. Произвольное движение.
Реагирование в полноте целиком развившегося процесса проявления. Новая качественная специфика данного этапа.
4. Человеческое социальное и психологическое реагирование.
Данный обзор дает краткую историю качественного развития
выразительных проявлений от стадии простейших реакций низших организмов до полноты социально сознательного реагирования человека как общественной единицы.
В этом он базируется на материале предшествующей ему специальной дисциплины психологии и поведения человека и является специальным приложением этих данных к специфической области выразительных проявлений.
РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
А. Краткая история вопроса о законах выразительного человека.
Критический разбор учений о выразительном движении человека.
1. Платон19. 2. Аристотель20. 3. Лукиан21. 4. Квинтилиан22. 5. Цицерон23. 6. Теологические «объяснения» и «божественный произвол». 7. Декарт24. 8. Спиноза25. 9. Лессинг26. 10. М. Энгель27. 11. Дюшен28. 12. Грасиоле29. 13. Дарвин30. 14. Бехтерев31. 15. Жан д’Удин32 и Гавеллок Эллис33. 16. Джемс34. 17. Людвиг Клагес35 (предшественники: Пидерит36 и Карус37, последователи: Принцхорн и Рудольф Боде, Конштамм и Крукенберг). 18. Кэнон38. 19. Фрейд39. 20. Лешли40. 21. Учение Павлова41 в приложении к вопросу выразительности.
Примечание. Явно ошибочные теории, например Дельсарта42, его популяризаторов (князь Сергей Волконский43) и эпигонов, рассматриваются лишь в порядке оттеняющего противопоставления.
Б. Основные теоретические ошибки ряда разбираемых учений глубоко социально обусловлены, поскольку корни этих теорий имеют происхождение буржуазное и несут на себе соответствующие отпечатки односторонности и ограниченности. В чем эти ошибки и в чем положительный вклад каждого из них в деле приближения к исчерпывающим (на сей день) положениям по данному вопросу.
144 РАЗДЕЛ IV. ПРОЦЕСС ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ44
А. Проблема выразительности в условиях и достижениях на сегодняшний день. Общие закономерности. Их исторические предпосылки, их общетеоретические и практические подтверждения.
Стадиальная взаимосвязь разных видов выразительного проявления.
Б. Выразительное проявление как обнаружение себя вовне и выразительное проявление как средство социального взаимного общения и воздействия.
В. Роль подражания в выразительном проявлении.
Г. Органичность как основное условие воздействия выразительного проявления. Органические законы выразительного проявления. Филогенез45 и его роль. Социальный определитель выразительного проявления.
Д. Условия, в которых и при которых протекает выразительное проявление. Патология выразительного проявления. Реконструкция выразительного проявления (воспроизведение его) как переход к выразительному произведению46.
IV семестр
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Третий семестр посвящен выразительному проявлению с точки зрения производящего его в той мере, в какой оно является частным выражением общего поведения человека.
Четвертый семестр посвящен рассмотрению выразительного проявления специально с точки зрения взаимного общения, а также в специальном приложении к тому, как оно проявляет себя в искусстве.
Соответственно с этим выразительное проявление рассматривается в двух своих разновидностях.
1. Выразительное проявление, неотъемлемое от производителя в процессе общения и взаимного потребления (актерская игра, выступление оратора и т. п.).
2. Выразительное проявление, способное существовать отдельно от производителя в виде так называемых произведений, которые могут служить объектами потребления самостоятельно («произведение» живописи, скульптуры, литературы и пр.).
Основная разница в процессе восприятия этих двух разновидностей. Это устанавливает основное разделение IV семестра на два раздела:
а) о личном образе;
б) об образе произведения.
145 ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Учение о выразительном движении как элементе актерской игры.
РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЙ ПРАКТИКУМ
Разработка заданий типа заданий III семестра, доводимая до следующей фазы их разрешения, то есть подробная разработка мимико-жестикулятивной стороны. Производится в виде постановки в показательном порядке режиссером-руководителем игрового фрагмента с одним или двумя квалифицированными актерами-профессионалами с репетиционной доработкой этого задания в деталях.
РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ АКТЕРА
А. Изучение выразительного движения.
1. Простое утилитарное движение.
2. Собственно выразительное движение.
Б. Построение выразительного движения.
1. Разбор различных школ и систем актерского мастерства.
2. Выразительное проявление актера и техника актерского движения:
а) центр тела и периферия. Основные закономерности;
б) мимика тела в целом;
в) мимика тела по выразительным областям: мимика лица; мимика руки; мимика речи (интонация);
г) координация и композиция выразительного проявления в условиях художественного воспроизведения;
д) актерская работа самих студентов в объеме режиссерского показа в пределах исполнения задаваемых фрагментов на технику выразительного движения и интонирования.
УЧЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ
РАЗДЕЛ I. О ЛИЧНОМ ОБРАЗЕ
Вводный практикум
1. Процесс создавания актерского образа проводится в виде показательной демонстрации актерами-профессионалами фрагментов законченных ролей (со всеми атрибутами сценического или 146 кинематографического их воплощения). Подробное изложение истории становления и процесса создавания конкретно продемонстрированного образа. Демонстрация подсобного материала или воссоздание отдельных этапов становления роли.
2. Пространственная, двигательная, мимическая и интонационная планировка диалога и монолога при наличии разработанного образа.
3. Теоретическое обобщение.
Творческий акт создавания актерского образа как частный вид общего образотворчества. Творческая специфика. Становление образа-роли. Анализ и критика существующих теорий.
Образ актера
1. Образ как единство формы и содержания изображаемого действующего лица.
2. Социальная обусловленность в образе.
3. Тип, образ, маска, типаж.
4. Практикум самостоятельного создания образа по заданной роли. Анализ роли и вспомогательный материал.
5. Собственное образотворчество (полное самостоятельное авторство образа, создаваемого непосредственно из материала действительности).
Исполнение актерского образа
1. Процесс исполнения роли как повтор в свернутом виде процесса становления роли.
2. Трудовой процесс актерской игры. Психофизическое состояние. Режим и тренировка.
3. Практикум исполнения созданного образа в объеме режиссерского показа самими студентами на основе заданной роли.
Работа с актером
1. Такт и тактика в работе с актером. Формы сотрудничества актера с режиссером. Работа с актером одинаковой школы.
2. Выбор актера, экспозиция пьесы и роли. Специфическая форма изложения актеру режиссерского плана и намерений.
Работа с актером над ролью и на репетициях.
3. Метод показа и метод рассказа.
147 4. Работа с актерами других школ и направлений. Работа с детьми. Терминология разных школ и специфика режиссерского подхода в зависимости от разных систем.
5. Практикум и практическая работа студентов режиссерского факультета с актерами третьего курса актерского факультета. Постановка этюдов объединенными силами студентов обоих факультетов.
РАЗДЕЛ II. ОБ ОБРАЗЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1. Художественный образ как закрепление в форме содержания и образа мысли:
а) социальная обусловленность;
б) творческий продукт как конкретизация образа мышления на определенном материале;
в) творческий процесс как практика его реализации.
2. Образ произведения как единство формы и содержания:
а) форма как логика содержания, развернутая в чувственное мышление. Единство во взаимном проникании обеих сторон мышления в целостном произведении искусства;
б) ошибка формалистов и теория остранения47;
в) творческий акт восприятия.
3. Образность и изобразительность:
а) их стадиальная связь, взаимодействие и органическое соприсутствие в совершенной композиции;
б) гипертрофия изобразительности: так называемая «ленинградская школа»48 кинематографии и др.;
в) гипертрофия образности: театр Мэй Лань-фана49 и др.;
г) связь пластической образности с «линейной речью» (термин ак[адемика] Марра);
д) изображение — образ — криптограмма — символ;
е) рассмотрение данного вопроса по различным областям.
4. От идеи произведения до внешней его формы. Фактический процесс становления произведения.
5. Общая закономерность выразительного проявления в приложении к образотворчеству. Стадиальная связь с принципами выразительного движения. Новое качество.
6. Образотворчсство, социальный и психологический смысл его. Социальное его приложение.
Окончивший второй курс и сдавший отчет по летней практике приобретает право на звание квалифицированного помрежа по художественной части.
148 ТРЕТИЙ КУРС
V [и
VI семестры]
Примечание. Начало данного курса предполагает знакомство студента с частными приемами монтажа и монтажными навыками по образцам кинокартин и хрестоматиям киноприемов.
(Проходится в виде особого курса параллельно IV семестру прохождения теории.)
РАЗДЕЛ I. ПРАКТИКУМ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ
Перевод простой мизансцены в ортодоксальный монтажный лист.
Общие предпосылки
1. От выразительного человека к выразительному кинопроизведению.
2. Специфичность кинематографа сравнительно с театром. Новые элементы и элементы театра и других искусств в новом качестве.
3. Жестикулятивно-моторный процесс, подлежащий монтажу.
4. Монтажный росчерк, собранный внутри рамки кадра.
5. Общие положения образотворчества в разрешении специфическими средствами кино.
Практикум
1. Мизансцена и мизанкадр.
Практикум композиционного заполнения рамки кадра (европейская композиционная традиция): а) на проектной схеме, б) на реальных предметах.
2. Монтажные узлы и монтажная композиционная группа.
3. Монтажные элементы внутри композиционной группы. Практикум выреза рамкой кадра (японский композиционный
метод50): а) на проектной схеме, б) на реальных предметах.
4. Ритм пространственный и временной.
5. Закономерность повтора единой композиционной схемы через все выразительные элементы и средства, рассмотренная на элементах кино.
6. Обусловленность этой схемы трактовочной установкой. Социальная обусловленность трактовки и композиции.
7. Практикум монтажной композиции сложной сцены, разрешенной предварительно мизансценно. Полный процесс монтажного построения.
149 РАЗДЕЛ II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ
Общие предпосылки
1. От традиционного кинематографа к кинематографу революционному. Кинематограф единой точки съемки и кинематограф сменяющихся точек. Кино немое и звуковое.
2. Классовая точка зрения на явление и ее реализация в кино специальными средствами кинематографии. Точка зрения. Трактовка. Точка съемки. Монтаж.
3. Элементы кинематографии, рассмотренные в их стадиальной взаимосвязи:
а) титр;
б) титр — кадр;
в) кадр;
г) монтаж и его предпосылки:
основной кинофеномен;
кадр как процесс монтажного сочетания клеток («кадриков»); монтаж как новое качество по линии развития ячейки монтажа — единичного кадра; звук и его место в общей концепции кинематографического монтажа;
д) важность подобного понимания для установления единой композиционной закономерности, подлежащей качественно различным элементам кино.
Специальный раздел
1. Общие положения о пластической композиции. Анализ образцов живописной композиции.
Проходится по специальной дисциплине искусствознания и на ряде совместных занятий руководителей предмета режиссуры и предмета искусствознания.
2. Кадр:
а) примитивный обрез кадра;
б) ракурс и свет;
в) выразительность объективов и темпов съемки;
г) от обреза к образу;
д) примитивный кадровый образ и символ;
е) практическая работа студентов режиссерского факультета со студентами операторского факультета над кадром.
Фоторабота. Статический материал (человек, предмет, пространство, среда).
Киноработа. Динамический материал (человек, предмет и пр. в движении).
3. Монтаж.
Виды монтажа по линии кинетического ряда:
150 а) метрический;
б) ритмический;
в) тональный (мелодический);
г) обертонный51;
д) интеллектуальный, как новое качество по линии развития обертонного в сторону смысловых обертонов.
Стадиальная зависимость отдельных видов монтажа и контрапунктическое соприсутствие.
Виды монтажа по линии семантического ряда:
а) монтаж, параллельный развивающемуся ходу события (примитивно информационный монтаж);
б) монтаж, параллельный ходу нескольких действий («параллельный монтаж»);
в) монтаж, параллельный ощущению (монтаж примитивных сравнений);
г) монтаж, параллельный ощущению и значению (образный монтаж);
д) монтаж, параллельный представлениям (монтаж, конструирующий понятие).
Стадиальная взаимосвязь отдельных видов монтажа и их контрапунктическое соприсутствие.
4. Звук:
а) о скрытом звуке;
б) о собственно звуке;
в) изобразительность звука;
г) звук в тонфильме;
д) звуковой монтаж и его особенности;
е) практическая работа со звукотехником по звукопостроениям в условиях звукозаписи и микрофона.
5. Композиция элементов кинопроизведения:
а) стадиальная связь театр — кино по линии сочетания элементов;
б) звукозрительный контрапункт (принципы);
в) приемы звукозрительного контрапункта и разновидности сочетания.
РАЗДЕЛ III. ПОСТРОЕНИЕ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ
О строении произведений
От выразительного движения до завершенного выразительного произведения драматургической формы.
1. Драматическое разрешение.
2. Закрепление драматического разрешения в драматургический тип или структуру.
151 3. Краткий исторический экскурс в область становления типовых структур. Их социальные и психологические предпосылки. Типовые ситуации.
4. Краткий обзор специфических разновидностей кинематографических жанров (в хрестоматийном порядке).
Практикум построения киновещи
Коллективная творческая поэтапная работа над созданием полного кинопроизведения (метод, общий с другими практикумами).
1. Нахождение темы.
2. От темы к сюжету.
3. От сюжета к сценарию.
4. От сценария к монтажным листам.
(Совместно со студентами — выпускниками сценарного факультета или сценаристами-профессионалами28*.)
5. Разработка образов и работа с актером.
(Совместно со студентами — выпускниками актерского факультета или актерами-профессионалами.)
6. Съемка.
7. Монтаж.
(Совместно со студентами-выпускниками операторского факультета или операторами-профессионалами.)
Отдельные части и стадии выполнения общего кинопроизведения реализуются студентами в индивидуальном порядке и служат зачетными показателями.
Примечание. Техника съемки и монтажа до этого практически проходится на специальных циклах занятий.
Генеральный план
а) генплан — творчески-композиционно;
б) генплан — сметно-производственно;
в) форма и техника составления генплана;
г) практика в виде переложения киновещи в полный генеральный план.
Творчество, техника, труд режиссера в конкретных производственных условиях
а) гигиена и рационализация творческого труда. Норма выработки. Творческая экономия. Коллективизм в творчестве; методы перевыполнения норм.
152 б) монтаж производственно-оперативной программы;
в) творческая подготовка к съемке. Кроки замысла. Необходимая лабильность замысла. Ее пределы. Варианты и вариации;
г) творчество в период реализации замысла по последовательным этапам.
Работа завершается резюмирующей оценкой и характеристикой творческого процесса и необходимыми указаниями к переходу на индивидуальное творческое выполнение.
Этим студенты подводятся к работе четвертого курса, протекающего в освоении избираемых специальностей, жанров и школ ведущих мастеров, по которым студентами сдаются дипломные работы.
Окончившие третий курс и сдавшие отчет по соответствующей практике на производстве получают право на звание квалифицированного ассистента-режиссера.
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС
VII
и VIII семестры
Предыдущий VI семестр обучает будущего режиссера всестороннему и полному процессу создания фильма во всех его творческих фазах, по всем его этапам.
Осуществляемая на частной разновидности кинематографии — на художественном фильме, — эта работа вместе с тем дает общее типовое представление о тренаже по созданию любого типа фильма вообще.
Этот материал должен представляться по возможности объективно и в максимальном охвате встречающихся проблем. Очень важно при этом избегать узкожанровой и направленческой специфики (рекомендуется полижанризм внутри вещи).
Задачей VII семестра является ознакомление студента с избираемой им кинематографической специальностью, жанровыми подразделениями и творческими направлениями внутри них.
Подобных специальностей имеется три52.
1. Режиссер художественной кинематографии.
2. Режиссер публицистического и хроникального фильма.
3. Режиссер научно-педагогического фильма.
Студент избирает соответствующий раздел, по которому он желает специализироваться, и по своему разделу слушает соответствующий цикл дисциплин общего порядка.
Дипломный же проект студент выполняет согласно избираемому им жанру и направлению под руководством соответствующего мастера.
153 РЕЖИССЕРСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Режиссер художественного фильма
Обязательные семинары для всех студентов данного отделения.
1. Построение патетического кинофильма.
а) Природа патетического явления.
б) Специфика патетического построения, вытекающая из социально-исторических предпосылок. Рассмотрение на разных областях искусства.
в) Построение патетического произведения средствами кинематографии. Общие положения. Анализ имеющихся образцов. Практические указания. Практика.
г) Революционный патетический фильм.
2. Построение комического кинофильма.
а) Природа комического. Связь патетического и комического.
б) Специфика комического построения, вытекающая из социально-исторических предпосылок. Рассмотрение на разных областях искусства.
в) Построение комического произведения средствами кинематографии. Общие понятия. Анализ имеющихся образцов. Практические указания. Практика.
г) Советская комедия.
3. Краткое обобщенное рассмотрение других жанров художественной кинематографии: авантюрно-приключенческий фильм, психологический53, детективный и т. д.
Выполнение дипломной работы согласно избранному жанру внутри специальности под руководством соответствующего мастера кинематографии по выбору студента. Каждый мастер объединяет группу размером не более шести-семи человек, прошедших у него соответствующий отбор, руководит выполнением дипломной работы и отвечает за соответствующий выпуск.
Режиссер публицистического и хроникального фильма
Ознакомление с направлениями и жанрами публицистического и хроникального фильма:
а) хроникальный фильм и киноочерк;
б) техника и композиция киножурнала;
в) документальный фильм;
г) выездная редакция и кинопоезд;
д) этнографический и экспедиционный фильм.
Порядок сдачи дипломных работ такой же, как и для режиссера художественного фильма.
154 Режиссер научно-педагогического фильма
Ознакомление с жанром и разновидностями данной отрасли:
а) общие педагогические дисциплины;
б) методика научной работы;
в) научный фильм;
г) техфильм;
д) учебный фильм;
е) военно-учебный фильм;
ж) детский фильм;
з) школьно-педагогический фильм.
Порядок сдачи дипломных работ такой же, как и для режиссеров художественного и публицистического фильмов.
Работа четвертого курса должна быть организована так, чтобы в течение VII семестра заканчивалось слушание всех специальных дисциплин и были проведены все подготовительные работы к выполнению дипломных заданий с таким расчетом, чтобы VIII семестр был целиком отдан под реализацию и защиту дипломных работ.
Дипломная работа для всех специальностей состоит в подробном и исчерпывающем проекте кинопостановки по избранному жанру и специальности, представляемом в виде полностью разработанного генерального плана.
Для режиссера художественного фильма проект генерального плана слагается из следующих моментов:
1. Общая трактовка. Опирающаяся на разбор произведения в целом на базе марксистского анализа и оценки.
2. Подробный анализ и характеристика отдельных образов персонажей данного произведения. Социальная и психологическая характеристика, внешность, костюмы, гримы. Подробное описание, зарисовки, разъяснительные схемы, образцы иконографического материала и т. д.
3. Сценическое разрешение. Подробная разработка планировки и обстановки сцены и отдельных мизансцен главных моментов (графические схемы и описания, смысловые и игровые указания в виде подробно развернутых ремарок, описание действий к отдельным элементам диалога, реплик и поступков действующих лиц).
4. Кинематографическое разрешение. Монтажный лист, сделанный на основе игровой мизансцены. Узловые моменты монтажного листа, представленные последовательными схемами отдельных кадров (последовательное графическое изображение композиции сменяющихся монтажных кусков).
5. Работа с актером. Кроме письменных замечаний дипломник обязан в устном своем докладе квалификационной комиссии дать интерпретацию ролей, по объему и форме достаточную для объяснения актеру образа и деталей его.
155 Дипломник должен практически показать движение, жест, интонацию, общее поведение применительно к разработанным образам в объеме и методе режиссерского показа.
6. Кинематографическая съемка и монтаж. Практическое выполнение частей запроектированного задания в виде засъемки и монтажа отдельных фрагментов запроектированного фильма.
7. Хозяйственно-оперативный план постановки. Кроме перечисленных моментов художественно-творческого порядка дипломная работа должна также включать хозяйственный, календарный и оперативный план.
Примечание. Ознакомление с этой отраслью проходится по специальному циклу, параллельно основному предмету.
Сдача и защита дипломных работ дает право на звание квалифицированного сорежиссера.
По сдаче и защите дипломного проекта окончивший институт обязан провести в качестве ассистента-практиканта или сорежиссера не менее одной цельной постановки на производстве54.
После подобной производственной практики и детального отчета о ней окончивший институт получает диплом и звание квалифицированного режиссера.
1936
156 МОНТАЖ 1938*
Был период в нашем кино, когда монтаж провозглашался «всем». Сейчас на исходе период, когда монтаж считается «ничем». И, не полагая монтаж ни «ничем», ни «всем», мы считаем нужным сейчас помнить, что монтаж является такой же необходимой составной частью кинопроизведения, как и все остальные элементы кинематографического воздействия. После бури «за монтаж» и натиска «против монтажа» нам следует заново и запросто подойти к его проблемам. Это тем более нужно, что период «отрицания» монтажа разрушал даже самую бесспорную его сторону, ту, которая никак и никогда не могла вызывать нападок. Дело в том, что авторы ряда фильмов последних лет настолько начисто «разделались» с монтажом, что забыли даже основную его цель и задачу, неотрывную от познавательной роли, которую ставит себе всякое произведение искусства, — задачу связно последовательного изложения темы, сюжета, действия, поступков, движения внутри киноэпизода и внутри кинодрамы в целом. Не говоря уже о взволнованном рассказе, даже логически последовательный, просто связный рассказ во многих случаях утерян в работах даже весьма незаурядных мастеров кино и по самым разнообразным киножанрам. Это требует, конечно, не столько критики этих мастеров, сколько прежде всего борьбы за утраченную многими культуру монтажа. Тем более что перед нашими фильмами стоит задача не только логически связного, но именно максимально взволнованного эмоционального рассказа.
Монтаж — могучее подспорье в решении этой задачи.
Почему мы вообще монтируем? Даже самые ярые противники монтажа согласятся: не только потому, что мы не располагаем 157 пленкой бесконечной длины и, будучи обречены на конечную длину пленки, вынуждены от времени до времени склеивать один ее кусок с другим.
«Леваки» от монтажа подглядели в монтаже другую крайность. Играя с кусками пленки, они обнаружили одно качество, сильно их удивившее на ряд лет. Это качество состояло в том, что два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество.
Это отнюдь не сугубо кинематографическое обстоятельство, а явление, встречающееся неизбежно во всех случаях, когда мы имеем дело с сопоставлением двух фактов, явлений, предметов. Мы привыкли почти автоматически делать совершенно определенный трафаретный вывод — обобщение, если перед нами поставить рядом те или иные отдельные объекты. Возьмите, для примера, могилу. Сопоставьте ее с женщиной в трауре, плачущей рядом, и мало кто удержится от вывода: «вдова». Именно на этой черте нашего восприятия строится эффект следующего коротенького анекдота Амброза Бирса1 — из его «Фантастических басен» — «Безутешная вдова».
«Женщина в одеждах вдовы рыдала на могиле.
— Успокойтесь, сударыня, — сказал ей Соболезнующий странник, — небесное милосердие безгранично. И где-нибудь на свете найдется еще другой мужчина помимо вашего мужа, с которым вы сумеете быть счастливой.
— Был такой, — проплакала она в ответ, — нашелся такой, но, увы… это и есть его могила…».
Весь эффект рассказа на том и строится, что могила и стоящая рядом с ней женщина в трауре по раз установленному трафарету вывода складываются в представление вдовы, оплакивающей мужа, в то время как оплакиваемый на деле оказывается любовником!
Это же обстоятельство использовано и в загадках. Пример фольклорный: «Ворона летела, а собака на хвосте сидела. Как это возможно?» Мы автоматически сопоставляем оба элемента и сводим их воедино. При этом вопрос прочитывается так, что собака сидела на хвосте у вороны. Загадка же имеет в виду, что оба действия безотносительны: ворона летела, а собака сидела на своем хвосте.
Нет ничего удивительного, что у зрителя возникает определенный вывод и при сопоставлении двух склеенных кусков пленки.
Я думаю, что мы будем критиковать не факты и не их примечательность и повсеместность, а те выводы и заключения, которые из них делались, и внесем сюда необходимые коррективы.
158 * * *
В чем же заключалось то упущение, которое мы делали, когда в свое время сами впервые указывали2 на несомненную важность отмеченного явления для понимания и освоения монтажа? Что было верного и что неверного в энтузиазме наших тогдашних утверждений?
Верным оставался и на сегодня остается факт, что сопоставление двух монтажных кусков больше похоже не на сумму их, а на произведение. На произведение — в отличие от суммы — оно походит тем, что результат сопоставления качественно (измерением, если хотите, степенью) всегда отличается от каждого слагающего элемента, взятого в отдельности. Женщина — если вернуться к нашему примеру — изображение; черный наряд на женщине — изображение, и оба предметно изобразили. «Вдова» же, возникающая из сопоставления обоих изображений, уже предметно неизобразимое, новое представление, новое понятие, новый образ.
А в чем состоял «загиб» тогдашнего обращения с этим неоспоримым явлением?
Ошибка была в акценте, главным образом на возможностях сопоставления при ослабленном акценте исследовательского внимания к вопросу материалов сопоставления.
Мои критики не преминули изобразить это как ослабление интереса к самому содержанию кусков, смешав исследовательскую заинтересованность определенной областью и стороной проблемы отношением самого исследователя к изображаемой действительности3.
Оставляю это на их совести.
Думаю, что дело здесь в том, что я был пленен в первую очередь чертой безотносительности кусков, которые тем не менее и часто вопреки себе, сопоставляясь по воле монтажера, рождали «некое третье» и становились соотносительными4.
Меня пленяли, таким образом, возможности нетипические в условиях нормального кинопостроения и кинокомпозиции.
Оперируя в первую очередь таким материалом и такими случаями, естественно было задумываться больше всего над возможностью сопоставлений. Меньше аналитического внимания уделялось самой природе сопоставляемых кусков. Впрочем, и этого одного также было бы недостаточно. Это внимание только к «внутрикадровому» содержанию привело на практике к захирению монтажа со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Чему же следовало уделить больше всего внимания, чтобы привести обе крайности в норму?
Следовало обратиться к тому основному, что в равной степени определяет как «внутрикадровое» содержание, так и композиционное сопоставление этих отдельных содержаний между собой, то есть к содержанию целого, общего, объединяющего.
159 Одна крайность состояла в увлечении вопросами техники объединения (методы монтажа), другая — объединяемыми элементами (содержание кадра).
Следовало больше заняться вопросом самой природы этого объединяющего начала. Того именно начала, которое для каждой вещи в равной мере родит как содержание кадра, так и то содержание, которое раскрывается через то или иное сопоставление этих кадров.
Но для этого сразу же надо было обратить исследовательский интерес не в сторону парадоксальных случаев, где это целое, общее и конечное не предусмотрено, а неожиданно возникает. Следовало бы обратиться к случаям, когда куски не только не безотносительны друг к другу, но когда само конечное, общее, целое не только предусмотрено, оно самое предопределяет как элементы, так и условия их сопоставления. Это будут случаи нормальные, общепринятые и общераспространенные. В них это целое совершенно так же будет возникать, как «некое третье», но полная картина того, как определяются и кадр и монтаж — содержание того и другого, — будет нагляднее и отчетливее. И такие случаи как раз окажутся типическими для кинематографа.
При таком рассмотрении монтажа как кадры, так и их сопоставление оказываются в правильном взаимоотношении. Мало того, сама природа монтажа не только не отрывается от принципов реалистического письма фильма, но действует как одно из наиболее последовательных и закономерных средств реалистического раскрытия содержания.
Действительно, что мы имеем при таком понимании монтажа? В этом случае каждый монтажный кусок существует уже не как нечто безотносительное, а являет собой некое частное изображение единой общей темы, которая в равной мере пронизывает все эти куски. Сопоставление подобных частных деталей в определенном строе монтажа вызывает к жизни, заставляет возникнуть в восприятии то общее, что породило каждое отдельное и связывает их между собой в целое, а именно — в тот обобщенный образ, в котором автор, а за ним и зритель переживают данную тему.
И если мы теперь рассмотрим два рядом поставленных куска, то мы сами в несколько ином свете увидим их сопоставление. А именно:
кусок А, взятый из элементов развертываемой темы, и кусок В, взятый оттуда же, в сопоставлении рождают тот образ, в котором наиболее ярко воплощено содержание темы.
Выраженное в императивной форме, более точно и более оперативно, это положение прозвучит так:
изображение А и изображение В должны быть так выбраны из всех возможных черт внутри развиваемой темы, должны быть так выисканы, чтобы сопоставление их — именно их, а не других 160 элементов — вызывало в восприятии и чувствах зрителя наиболее исчерпывающе полный образ самой темы.
Здесь в наше рассуждение о монтаже вошло два термина — «изображение» и «образ».
Уточним то размежевание между ними, которое мы здесь имеем в виду.
* * *
Обратимся к наглядному примеру. Возьмем белый средней величины кружок с гладкой поверхностью, разделенный по окружности на шестьдесят равностоящих друг от друга делений. На каждом пятом делении проставлена порядковая цифра от единицы до двенадцати включительно. В центре кружка прикреплены две свободно вращающиеся, заостренные к свободному концу металлические полоски: одна размером в радиус кружка, другая — несколько короче. Допустим, что более длинная заостренная полоска упирается свободным концом в цифру двенадцать, а более короткая полоска своим свободным концом последовательно упирается в цифры 1, 2, 3 и т. д. до 12 включительно. Это будет серия последовательных геометрических изображений того факта, что некие две металлические полоски последовательно находятся по отношению друг к другу под углами в 30, 60, 90 и т. д. до 360° включительно.
Если, однако, этот кружок снабжен механизмом, равномерно передвигающим металлические полоски, то геометрический рисунок на его поверхности приобретает уже особое значение: он не просто изображение, а является уже образом времени.
В данном случае изображение и вызываемый им образ в нашем восприятии настолько слиты, что нужны совсем особенные обстоятельства, чтобы отделить геометрический рисунок стрелок на циферблате от представления о времени. Однако это может случиться и с любым из нас, правда, в обстоятельствах необыкновенных.
Вспомним Вронского после сообщения Анны Карениной о том, что она беременна. В начале XXIV главы второй части «Анны Карениной» мы находим именно такой случай:
«… Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час…»
Образа времени, который создавали часы, у него не возникало. Он видел только геометрическое изображение циферблата и стрелок.
Как видим, даже в простейшем случае, когда дело идет об астрономическом времени — часе, недостаточно одного изображения на циферблате. Мало увидеть, нужно, чтобы с изображением что-то произошло, чтобы с ним что-то было проделано, и только тогда оно перестанет восприниматься как простой геометрический 161 рисунок, но будет воспринято как образ «некоего часа», в который происходит событие. Толстой показывает нам то, что получается, если этого процесса не происходит.
В чем же состоит этот процесс? Определенная конфигурация стрелок на циферблате включает рой представлений, связанных с соответствующим часом, которому отвечает данная цифра. Пусть это будет, для примера, цифра пять. В таком случае наше воображение приучено к тому, чтобы в ответ на этот знак приводить на память картины всяческих событий, происходящих в этот час. Это будет обед, конец рабочего дня или час «пик» на метро. Закрывающиеся книжные магазины или тот особый свет в предсумеречные часы, который так характерен для этого времени дня… Так или иначе, это будет целый ряд картин (изображений) того, что происходит в пять часов.
Из всех этих отдельных картин складывается образ пяти часов.
Таков этот процесс в развернутом виде, и таков он на стадии освоения изображений цифр, от которых возникают образы часов дня и ночи.
В дальнейшем вступают в силу законы экономии психической энергии. Происходит «уплотнение» внутри описанного процесса: цепь промежуточных звеньев выпадает, и вырабатывается непосредственная, прямая и мгновенная связь между цифрой и ощущением образа — часа, которому она соответствует. На примере с Вронским мы видели, что связь эта под влиянием резкого аффекта может нарушаться, и тогда изображение и образ отрываются друг от друга.
Нас интересует та полная картина становления образа из изображений, какой мы ее только что описали. Эта «механика» становления образа интересует нас потому, что подобная механика его становления в жизни, конечно, служит прообразом того, чем оказывается в искусстве метод создания художественных образов.
Поэтому запомним, что между изображением часа на часах и ощущением образа этого времени дня протекает длинная цепь нанизываемых изображений отдельных аспектов, характерных для данного часа. Повторяем, что психический навык ведет к тому, что эта промежуточная цепь сводится к минимуму, и мы ощущаем лишь начало и конец процесса.
Но как только нам приходится по какому-либо поводу устанавливать связь между некоторым изображением и образом, который оно должно вызывать в сознании и чувствах, мы неизбежно вынуждены прибегнуть к подобной же цепи промежуточных изображений, собирающихся в образ5.
Возьмем сперва вовсе близкий к изложенному пример из бытовой практики.
162 В Нью-Йорке большинство улиц не имеет названий. Вместо этого они обозначаются… номерами, «Фифт авеню» — пятый проспект, «Форти секонд стрит» — сорок вторая улица и т. п. Для приезжих подобный способ обозначения улиц на первых порах необычайно труден для запоминаний. Мы привыкли к названиям улиц, и это для нас значительно легче, ибо название сразу же родит образ улицы, то есть при произнесении соответствующего названия возникает вместе с образом определенный комплекс ощущений.
Мне было очень трудно запомнить образы улиц Нью-Йорка, а следовательно, и знать эти улицы. Обозначенные нейтральными номерами «сорок вторая» или «сорок пятая» улицы, они не порождали во мне образов, концентрировавших ощущение общего облика той или иной улицы. Чтобы помочь этому, приходилось устанавливать в памяти набор предметов, характерных для той или иной улицы, набор предметов, возникавших в сознании, ответ на сигнал — «сорок вторая», в отличие от сигнала — «сорок пятая». Набирались в памяти театры, кино, магазины, характерные дома и т. д. для каждой из улиц, которую следовало запомнить. Такое запоминание шло отчетливыми этапами. Таких этапов можно отметить два: в первом из них на словесное обозначение «Форти секонд стрит» (сорок вторая улица) память с большим затруднением ответно перечисляла всю цепь элементов, характерных для этой улицы, но настоящего ощущения этой улицы еще не получалось, потому что отдельные элементы еще не сложились в единый образ. И только на втором этапе все эти элементы стали сплавляться в единый, возникающий образ: при назывании «номера» улицы также вставал целый рой отдельных ее элементов, но не как цепь, а как нечто единое — как цельный облик улицы, как цельный ее образ.
Только с этого момента можно было говорить о том, что улица по-настоящему запомнилась. Образ этой улицы начинал возникать и жить в сознании и ощущениях совершенно так же, как в ходе художественного произведения из его элементов постепенно складывается единый, незабываемый, целостный его образ.
В обоих случаях — идет ли дело о процессе запоминания или о процессе восприятия художественного произведения — остается верной закономерность того, что единичное входит в сознание и чувства через целое и целое — через образ.
Этот образ входит в сознание и ощущение, и через совокупность каждая деталь сохраняется в нем в ощущениях и памяти неотрывно от целого. Это может быть звуковой образ — некая ритмическая и мелодическая звукокартина, или это может быть пластический образ, куда изобразительно вошли отдельные элементы запоминаемого ряда.
163 Тем или иным путем ряд представлений укладывается в восприятие, в сознание, в целостный образ, в который складываются отдельные элементы.
Мы видели, что в запоминании есть два очень существенных этапа: первый — это становление образа, а второй — результат этого становления и значение его для запоминаний. При этом для памяти важно уделять как можно меньше внимания первому этапу и как можно скорее, пройдя через процесс становления, достигнуть результата. Такова жизненная практика, в отличие от практики искусства. Ибо, переходя отсюда в область искусства, мы видим отчетливое смещение акцента. Естественно, добиваясь результата, произведение искусства, однако, всю изощренность своих методов обращает на процесс.
Произведение искусства, понимаемое динамически, и есть процесс становления образов в чувствах и разуме зрителя29*. В этом особенность подлинно живого произведения искусства и отличие его от мертвенного, где зрителю сообщают изображенные результаты некоторого протекшего процесса творчества, вместо того чтобы вовлекать его в протекающий процесс.
Это условие оправдывает себя всюду и всегда, какой бы области искусства мы ни коснулись. Совершенно так же живая игра актера строится на том, что он не изображает скопированные результаты чувств, а заставляет чувства возникать, развиваться, переходить в другие — жить перед зрителем.
Поэтому образ сцены, эпизода, произведения и т. п. существует не как готовая данность, а должен возникать, развертываться.
Совершенно так же и характер, чтобы производить действительно живое впечатление, должен складываться для зрителя по ходу действия, а не являться заводной фигуркой с a priori заданной характеристикой.
Для драмы особенно важно, чтобы ход событий не только складывал представления о характере, но еще и складывал, «образовывал» самый характер.
Следовательно, уже в методе создания образов произведение искусства должно воспроизводить тот процесс, посредством которого в самой жизни складываются новые образы в сознании и в чувствах человека.
Мы это только что показали на примере нью-йоркских улиц. И мы вправе ожидать, что художник, если перед ним будет поставлена задача сквозь изображение факта выразить некий образ, прибегнет к подобному методу «освоения» нью-йоркских улиц.
164 Мы взяли пример изображения на циферблате и раскрыли, в каком процессе за этим изображением появился образ времени. И произведению искусства для создания образа придется прибегнуть к аналогическому методу создания цепи изображений.
Останемся в пределах примера с часами.
В нашем случае с Вронским геометрический рисунок не зажил образом часа. Но ведь бывают случаи, когда важно не астрономически ощутить двенадцать часов ночи, а пережить полночь во всех тех ассоциациях и ощущениях, какие по ходу сюжета понадобилось автору возбудить. Это может быть час трепетного переживания полночного свидания, час смерти в полночь, роковая полночь побега, то есть далеко не просто изображение астрономических двенадцати часов ночи.
И тогда сквозь изображение двенадцати ударов должен сквозить образ полуночи как некоего «рокового» часа, наполненного особым смыслом.
Проиллюстрируем и этот случай примером. На этот раз его подскажет Мопассан в «Милом друге». Пример этот интересен и тем, что он — звуковой. И еще интереснее тем, что, чисто монтажный по правильно выбранному приему разрешения, он представлен в романе как бы бытописательным.
«Милый друг»6. Сцена, в которой Жорж Дюруа, уже пишущий свою фамилию «Дю-Руа», ожидает в фиакре Сюзанну, условившуюся с ним бежать в двенадцать часов ночи.
Двенадцать часов ночи — здесь меньше всего астрономический час и больше всего час, в который все (или во всяком случае очень много) поставлено на карту: «Кончено. Все погибло. Она не придет».
Вот как Мопассан врезает в сознание и чувства читателя образ этого часа, его значительность, в отличие от описания соответствующего времени ночи:
«… он вышел из дому около одиннадцати часов, побродил немного, взял карету и остановился на площади Согласия, у арки морского министерства.
От времени до времени он зажигал спичку и смотрел на часы. Около двенадцати его охватило лихорадочное волнение. Каждую минуту он высовывал голову из окна кареты и смотрел, не идет ли она.
Где-то вдали пробило двенадцать, потом еще раз, ближе, потом где-то на двух часах сразу и, наконец, опять совсем далеко. Когда раздался последний удар, он подумал: “Кончено. Все погибло. Она не придет”.
Он решил, однако, ждать до утра. В таких случаях надо быть терпеливым.
Скоро он услышал, как пробило четверть первого, потом половину, потом три четверти и, наконец, все часы повторяли друг за другом час, как раньше пробили двенадцать…»
165 Мы видим из этого примера, что, когда Мопассану понадобилось вклинить в сознание и ощущение читателя эмоциональность полуночи, он не ограничился тем, что просто дал пробить часам двенадцать, а потом час. Он заставил нас пережить это ощущение полуночи тем, что заставил пробить двенадцать часов в разных местах, на разных часах. Сочетаясь в нашем восприятии, эти единичные двенадцать ударов сложились в общее ощущение полуночи. Отдельные изображения сложились в образ. Сделано это строго монтажно.
Данный пример может служить образцом тончайшего монтажного письма, где «двенадцать часов» в звуке выписано целой серией планов «разной величины»: «где-то вдали», «ближе», «совсем далеко». Это бой часов, взятый с разных расстояний, как съемка предмета, сфотографированного в разных размерах и повторенного в последовательности трех различных кадров — «общим планом», «средним», «еще более общим». При этом самый бой, вернее, разнобой часов выбран здесь вовсе не как натуралистическая деталь ночного Парижа. Сквозь разнобой часов у Мопассана прежде всего настойчиво бьет эмоциональный образ «решительной полуночи», а не информация о… «ноль часах».
Желая дать лишь информацию о том, что сейчас двенадцать часов ночи, Мопассан вряд ли прибегнул бы к столь изысканному письму. Совершенно так же без избранного им художественно-монтажного разрешения ему никогда не добиться бы такими простейшими способами столь же ощутимого эмоционального эффекта.
Если говорить о часах и часе, то неизбежно вспоминается пример и из собственной практики. В Зимнем дворце в период съемок «Октября» (1927) мы натолкнулись на любопытные старинные часы: помимо основного циферблата на них еще имелся окаймляющий его венок из маленьких циферблатиков. На каждом из них были проставлены названия городов: Париж, Лондон, Нью-Йорк и т. д. Каждый из этих циферблатов указывал время таким, каким оно бывает в этих городах, — в отличие от времени Москвы или Петербурга, не помню, — которое показывал основной циферблат. Вид часов запомнился. И когда хотелось в картине особенно остро отчеканить историческую минуту победы и установления Советской власти, часы подсказали своеобразное монтажное решение: час падения Временного правительства, отмеченный по петроградскому времени, мы повторили всей серией циферблатов, где этот же час прочитывался лондонским, парижским, нью-йоркским временем. Таким образом этот час, единый в истории и судьбах народов, проступал сквозь все многообразие частных чтений времени, как бы объединяя и сливая все народы в ощущении этого мгновения — победы рабочего класса. Эту мысль подхватывало еще круговое движение самого венка циферблатов, 166 движение, которое, возрастая и ускоряясь, еще и пластически сливало все различные и единичные показания времени в ощущение единого исторического часа…
В этом месте я отчетливо слышу вопрос моих неизбежных противников: «Но как же быть в случае одного непрерывного, длиннометражного куска, где без монтажных перерезок играет актер? Разве игра его не впечатляюща? Разве не впечатляет само исполнение Черкасова7 или Охлопкова8, Чиркова9 или Свердлина10?» Напрасно думать, что этот вопрос наносит смертельный удар монтажной концепции. Принцип монтажа куда шире. Неверно предполагать, что если актер играет в одном куске и режиссер не режет этот кусок на планы, то построение «свободно от монтажа»! Ничуть.
В этом случае монтаж лишь следует искать в другом, а именно… в самой игре актера. О том, насколько «монтажен» принцип его «внутренней» техники, мы скажем дальше. Сейчас же уместно предоставить слово по этому вопросу одному из крупнейших артистов театра и экрана Джорджу Арлиссу11. В своей автобиографии он пишет:
«… Я всегда думал, что для кино следует играть преувеличенно, но я увидел, что самоограничение есть то самое главное, чему должен научиться актер при переходе от театра к кино. Искусство самоограничения и намека на экране есть то, что может быть в полноте изучено наблюдением игры неподражаемого Чарли Чаплина…»
Подчеркнутому изображению (преувеличению) Арлисс противопоставляет самоограничение. Степень этого самоограничения он видит в сведении действия к намеку. Не только преувеличенное изображение действия, но даже изображение действия целиком он отвергает. Вместо этого он рекомендует намек. Но что такое «намек», как не элемент, деталь действия, как не такой «крупный план» его, который в сопоставлении с другими служит определителем для целого фрагмента действия? И слитный действенный кусок игры, таким образом, по Арлиссу, есть не что иное, как сопоставление подобных определяющих крупных планов, сочетаясь, они родят образ содержания игры, в отличие от изображения этого содержания. И согласно этому и игра актера может быть изобразительно плоской или подлинно образной в зависимости от метода, которым актер строит свое действие. Пусть игра будет снята с одной точки, тем не менее — в благополучном случае — сама она будет «монтажной».
О приведенных выше примерах монтажа можно было бы сказать, что второй из них («Октябрь») все же не рядовой пример монтажа, а первый (Мопассан) иллюстрирует только тот случай, когда один и тот же объект взят с разных точек и в разных приближениях.
167 Приведем еще пример, уже типичный для кинематографа и вместе с тем такой, где дело идет не об единичном объекте, а об образе целого явления, слагающегося совершенно тем же путем.
Этим примером будет один замечательный «монтажный лист». Здесь из нагромождения частичных деталей и изображений перед нами ощутимо вырастает образ. Пример интересен тем, что это не законченное литературное произведение, а запись великого мастера, в которой он сам для себя хотел закрепить вставшие перед ним видения «Потопа».
«Монтажный лист», о котором я говорю, — это запись Леонардо да Винчи о том, как следует в живописи изображать потоп. Я выбираю именно этот отрывок, так как в нем особенно ярко представлена звукозрительная картина потопа, что в руках живописца особенно неожиданно и вместе с тем наглядно и впечатляюще.
«… Пусть будет видно, как темный и туманный воздух потрясается дуновением различных ветров, пронизанных постоянным дождем и градом и несущих то здесь, то там бесчисленное множество вещей, которые сорваны с деревьев вместе с бесчисленными листьями.
Кругом — старые деревья, вырванные с корнем и разбитые яростью ветра.
Виднеются остатки гор, размытых потоками, — остатки, которые обрушиваются в них и загромождают долины.
Эти потоки с шумным клокотанием разливаются и затопляют обширные пространства с их населением.
На вершинах многих гор могут быть заметны различные виды собравшихся вместе животных, испуганных и укрощенных в обществе сбежавшихся людей, мужчин и женщин с детьми.
По полям, покрытым водою, носятся в волнах столы, кровати, лодки и разные приспособления, сделанные в минуту нужды и страха смерти.
На всех этих вещах — женщины, мужчины, дети с воплем и плачем, обезумевшие от неистового ветра, который своими бурными порывами вздувает и волнует воды вместе с телами утопленников. И нет предмета (более легкого, чем вода), на котором не собрались бы различные животные, примиренные между собою и стоящие вместе с испуганной толпой — волки, лисицы, змеи и другие породы, спасающиеся от смерти.
Волны, ударяясь о края плывущих предметов, бьют их ударами различных утонувших тел — ударами, которые убивают тех, в ком еще осталась какая-либо жизнь.
Можно видеть толпы людей, которые с оружием в руках защищают маленькие оставшиеся им клочки земли от львов, волков и других животных, ищущих здесь спасения.
168 О, какие ужасающие крики оглашают темный воздух, раздираемый яростью громов и молний, которые разрушительно устремляются на все, что попадается на их пути.
О, сколько можно видеть людей, которые закрывают руками уши, чтобы не слышать страшных звуков, производимых в темном воздухе ревом ветров и дождя, грохотанием неба и разрушительным полетом молний!
Другие не только закрывают глаза рукою, но кладут руку на руку, чтобы плотнее закрыться от зрелища жестокого избиения человеческого рода разгневанным богом.
О, какие вопли!
О, сколько людей, обезумевших от страха, бросается со скал, большие ветви больших дубов вместе с уцепившимися за них людьми несутся в воздухе, подхваченные исступленным ветром.
Сколько лодок, опрокинутых вверх дном, — одни целиком, другие в обломках, а из-под них выбиваются люди отчаянными средствами и телодвижениями, свидетельствующими о близости смерти.
Некоторые, потеряв надежду на спасение, лишают себя жизни, не имея сил перенести такого ужаса: одни бросаются с высоких скал, другие душат себя за горло собственными руками, третьи хватают своих детей и… поражают их одним ударом.
Некоторые наносят себе смертельные раны своим собственным оружием, а другие, бросившись на колени, отдают себя на волю бога.
О, сколько матерей плачут над своими захлебнувшимися детьми, держа их на коленях, поднимая к небу распростертые руки, и голосом, в котором сливаются вопли всех оттенков, ропщут на божий гнев!
Некоторые, стиснув руки со скрещенными пальцами, кусают их до крови и пожирают их, припав грудью к коленям от безмерного, нестерпимого страдания.
Видны стада животных — лошадей, быков, коз, овец, уже окруженных водою, оставшихся, как на островке, на вершинах высоких гор и жмущихся друг к другу.
Те из них, которые находятся посредине, карабкаются наверх друг через друга, вступая в ожесточенную борьбу. Многие умирают от недостатка пищи.
И уже птицы стали садиться на людей и других животных, не находя более открытого места, которое не было бы занято живыми существами.
И уже голод — орудие смерти — отнял жизнь у многих животных, и в то же время мертвые тела, подвергшись брожению, поднимаются из глубины водных пучин на поверхность и, ударяясь друг о друга между бьющимися волнами, подобно наполненным воздухом шарам, отскакивают от места своего удара и ложатся на трупы только что умерших.
169 И над этими проклятиями — воздух, покрытый темными тучами, которые раздираются змеевидным полетом неистовых небесных стрел, сверкающих то здесь, то там в глубинах мрака…» (Цитирую по книге А. Волынского12 «Леонардо да Винчи», приложение V, стр. 624 – 626).
Это описание задумано не в форме поэмы или литературного наброска. Пеладан13 — издатель французского перевода «Трактата о живописи» Леонардо да Винчи — видит в этом описании неосуществленный проект картины, которая была бы непревзойденным «шедевром пейзажа и стихийной борьбы сил природы». Тем не менее эта запись не хаотична и проведена по признакам, свойственным скорее даже «временным» искусствам, нежели пространственным.
Не разбираясь в структуре этого замечательного «монтажного листа», обратим внимание на то, что описание следует совершенно определенному движению. При этом ход этого движения никак не случаен. Движение это идет по определенному порядку и затем в аналогичном строгом обратном порядке возвращается назад к тем же самым исходным явлениям. Начинаясь описанием небес, картина замыкается таким же описанием. В центре — группа людей, их переживания; развитие сцены от небес к людям и от людей обратно к небу идет через группы зверей. Наиболее крупные детали («крупные планы») встречаются в центре, в кульминации описания (стиснутые, искусанные до крови руки со скрещенными пальцами и т. д.). Совершенно явно проступают элементы, типичные для монтажной композиции.
«Внутрикадровое» содержание отдельных сцен усиливается возрастающей интенсивностью действия.
Рассмотрим то, что можно было бы назвать «темой зверей»: звери спасаются; зверей несут потоки волн; звери тонут; звери дерутся с людьми; звери дерутся между собой; трупы потонувших зверей всплывают. Или постепенное исчезновение тверди из-под ног людей, животных и птиц, достигающее кульминации в точке, где птицы вынуждены садиться на людей и животных, не находя ни одного не занятого кусочка земли или дерева. Эта часть записи Леонардо да Винчи лишний раз напоминает нам о тот, что размещение деталей в одной плоскости картины тоже предполагает композиционно строгое движение глаза от одного явления к другому. Здесь, конечно, такое движение выражено менее четко, чем в кино, где глаз не может увидеть последовательности деталей в ином порядке, чем тот, который создал монтажер.
Несомненно, однако, что последовательным описанием Леонардо да Винчи преследует задачу не только перечислить детали, но и начертить траекторию будущего движения по поверхности холста. Мы видим здесь блестящий пример того, что в кажущемся 170 статическом одновременном «соприсутствии» деталей неподвижной картины применен совершенно тот же монтажный отбор, та же строгая последовательность сопоставлений деталей, как и во временных искусствах.
Монтаж имеет реалистическое значение в том случае, если отдельные куски в сопоставлении дают общее, синтез темы, то есть образ, воплотивший в себе тему.
Переходя от этого определения к творческому процессу, мы увидим, что он протекает следующим образом. Перед внутренним взором, перед ощущением автора витает некий образ, эмоционально воплощающий для него тему. И перед ним стоит задача — превратить этот образ в такие два-три частных изображения, которые в совокупности и в сопоставлении вызывали бы в сознании и в чувствах воспринимающего именно тот исходный обобщенный образ, который витал перед автором.
Я говорю об образе произведения в целом и об образе отдельной сцены. Совершенно с таким же правом и в том же смысле можно говорить о создании образа актером.
Перед актером стоит совершенно такая же задача — в двух, трех, четырех чертах характера или поступка выразить основные элементы, которые в сопоставлении создадут целостный образ, задуманный автором, режиссером и самим актером.
Что же примечательного в подобном методе? Прежде всего его динамичность. Тот именно факт, что желаемый образ не дается, а возникает, рождается. Образ, задуманный автором, режиссером, актером, закрепленный ими в отдельные изобразительные элементы, в восприятии зрителя вновь и окончательно становится. А это конечная цель и конечное творческое стремление всякого актера. Красочно писал об этом Горький в письме к Федину (см. «Литературная газета» № 17 от 26 марта 1938 г.):
«Вы говорите: Вас мучает вопрос “как писать”? Двадцать пять лет наблюдаю я, как этот вопрос мучает людей… Да, да, это серьезный вопрос, я тоже мучился, мучаюсь и буду мучиться им до конца дней. Но для меня вопрос этот формулируется так: так надо писать, чтобы человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической ощутимости его бытия, с тою убедительностью его полуфантастической реальности, с какою вижу и ощущаю его. Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела…»
Монтаж помогает разрешить эту задачу. Сила монтажа в том, что в творческий процесс включаются эмоции и разум зрителя. Зрителя заставляют проделать тот же созидательный путь, которым прошел автор, создавая образ. Зритель не только видит изобразимые элементы произведения, но он и переживает динамический процесс возникновения и становления образа так, как переживал его автор. Это и есть, видимо, наибольшая возможная 171 степень приближения к тому, чтобы зрительно передать во всей полноте ощущения и замысел автора, передать с «той силой физической ощутимости», с какой они стояли перед автором в минуты творческой работы и творческого видения.
Уместно вспомнить о том, как Маркс определял путь истинного исследования:
«Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинно, истинное исследование — это развернутая истина, разъединенные члены которой соединяются в результате» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. I, стр. 113).
Сила этого метода еще в том, что зритель втягивается в такой творческий акт, в котором его индивидуальность не только не порабощается индивидуальностью автора, но раскрывается до конца в слиянии с авторским смыслом так, как сливается индивидуальность великого актера с индивидуальностью великого драматурга в создании классического сценического образа. Действительно, каждый зритель в соответствии со своей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фантазии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава и социальной принадлежности творит образ по этим точно направляющим изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его к познанию и переживанию темы. Это тот же образ, что задуман и создан автором, но этот образ одновременно создан и собственным творческим актом зрителя.
Казалось бы, что может быть определеннее и яснее почти научной записи деталей «Потопа», как они проходят перед нами в «монтажном листе» Леонардо да Винчи? И вместе с тем до какой степени личны и индивидуальны каждый из тех конечных образов, которые возникают у читающих, это общее для всех перечисление и сопоставление деталей. Они столь же схожи и вместе с тем столь же различны, как роль Гамлета или Лира, сыгранная разными актерами разных стран, эпох и театров.
Мопассан предлагает каждому читателю одно и то же монтажное построение боя часов. Он знает, что именно такое построение вызовет в ощущениях не информацию о времени ночи, а переживание значительности часа полуночи. Каждый зритель слышит одинаковый бой часов Но у каждого зрителя родится свой образ, свое представление полуночи и ее значительности. Все эти представления образно индивидуальны, различны и вместе с тем тематически едины. И каждый образ подобной полуночи для каждого зрителя-читателя одновременно и авторский, но столько же и свой собственный, живой, близкий, «интимный».
Образ, задуманный автором, стал плотью от плоти зрительского образа… Мною — зрителем — создаваемый, во мне рождающийся 172 и возникающий. Творческий не только для автора, но творческий и для меня, творящего зрителя.
Вначале мы говорили о волнующем рассказе в отличие от протокольно-логического изложения фактов.
Протоколом изложения было бы не монтажное построение во всех приведенных выше примерах. Это было бы описание Леонардо да Винчи, сделанное без учета отдельных планов, расположенных по строю рассчитанной траектории глаза на поверхности будущей картины. Это был бы неподвижный циферблат часов, отмечающий время свержения Временного правительства, в фильме «Октябрь». Это была бы у Мопассана короткая информация о том, что пробило двенадцать часов. Иначе говоря, это были бы документальные сообщения, не поднятые средствами искусства до подлинной взволнованности и эмоционального воздействия. Все они были бы, выражаясь кинематографически, изображениями, снятыми с одной точки. А в том виде, как они сделаны художниками, они представляют собой образы, вызванные к жизни средствами монтажного построения.
И сейчас мы можем сказать, что именно монтажный принцип, в отличие от изобразительного, заставляет творить самого зрителя и именно через это достигает той большой силы внутренней творческой взволнованности30* у зрителя, которая отличает эмоциональное произведение от информационной логики простого пересказа в изображении событий.
Вместе с этим обнаруживаем, что монтажный метод в кино есть лишь частный случай приложения монтажного принципа вообще, принципа, который в таком понимании выходит далеко за пределы области склейки кусков пленки между собой. […]
* * *
Выше мы не напрасно сравнивали в монтажном методе творчество зрителя с творчеством актера. Ибо как раз здесь в первую очередь происходит встреча метода монтажа с самой, казалось бы, неожиданной областью — с областью внутренней техники актера и с формами того внутреннего процесса, в котором у актера родится живое чувство, с тем чтобы проступать в правдивых его действиях на сцене или на экране.
По вопросам актерской игры создан ряд систем и доктрин. Вернее, их можно свести к двум-трем системам и разным их ответвлениям. 173 Ответвления эти различаются не только терминологией, номенклатурой, но главным образом тем, что представители разных течений видят ведущую роль и ставят акценты внимания на различных узловых пунктах актерской техники15. Иногда та или иная школа совсем почти забывает целое звено внутрипсихологического процесса образотворчества. Иногда, наоборот, выдвигает на первое место нерешающее звено. Даже внутри такого монолита, как метод Художественного театра, имеются при всей общности основных предпосылок самостоятельные течения в его истолковании.
Я не собираюсь вдаваться в оттенки существенных или номенклатурных отличий в методах работы с актером. Я остановлюсь лишь на тех положениях внутренней техники, которые в основных своих предпосылках сейчас входят обязательно в технику работы актера во всех тех случаях, когда она действительно достигает результатов, то есть захватывает зрителя. Эти положения всякий актер или режиссер способен в конечном счете вычитать из собственной «внутренней» практики, если ему удастся на мгновение остановить этот процесс и вглядеться в него. Актерская и режиссерская техника в этой части проблемы также неотличима, поскольку и режиссер какой-то своей частью также является актером. Из наблюдений за этой «актерской долей» моего режиссерского опыта я постараюсь на конкретном примере обрисовать интересующую нас внутреннюю технику. При этом меньше всего стремлюсь сказать в этом отношении что-либо новое.
Допустим, что передо мной стоит задача сыграть утро человека, проигравшего накануне в карты казенные деньги. Предположим, что сцена полна всяческих перипетий, куда могут войти и разговор с ничего не подозревающей женой, и сцена с дочерью, пытливо поглядывающей на отца, замечая в его поведении какие-то странности, и сцена боязливого ожидания звонка по телефону с вызовом растратчика к отчету и т. п.
Пусть целый ряд этих сцен постепенно ведет растратчика к попытке застрелиться, и актеру нужно проиграть последний фрагмент сцены, когда в нем созревает сознание того, что остался только один исход — самоубийство, и его рука начнет почти автоматически, не глядя, шарить по ящикам письменного стола в поисках браунинга…
Я думаю, что сегодня вряд ли найдется культурный актер, который стал бы в этой сцене «играть чувство» человека перед самоубийством. И каждый из нас, вместо того чтобы пыжиться и выдумывать, что ему здесь делать, поступит иначе. Он заставит соответствующее самочувствие и соответствующее чувство охватить себя. И верно почувствованное состояние, ощущение, переживание немедленно «проступит» в верных и эмоционально правильных движениях, действиях, поступках. Так находятся 174 отправные элементы правильного поведения, правильного в том смысле, что оно соответствует подлинно пережитому ощущению, чувству.
Последующая стадия работы заключается в композиционной разработке этих элементов, очистке их от попутного и случайного, в доведении этих предпосылок до предельной степени выразительности. Такова последующая стадия. Но нас сейчас занимает предыдущая стадия этого процесса.
Нас интересует та часть этого процесса, в которой происходит охват актера чувством. Как это достигается и «как это делается»? Мы уже сказали, что пыжиться, изображая чувство, мы не будем. Вместо этого мы пойдем по общеизвестному и почти общеупотребительному пути.
Он состоит в том, что мы свою фантазию заставляем рисовать перед нами ряд конкретных картин или ситуаций, соответствующих нашей теме. Совокупность этих воображаемых картин вызывает в нас ответную искомую эмоцию, чувство, ощущение, переживание. При этом материал этих картин, рисуемых фантазией, будет совершенно различен в зависимости от того, каковы особенности образа и характера того человека, которого именно сейчас играет актер.
Допустим, что для характера нашего растратчика типичной чертой окажется боязнь общественного мнения. Тогда его пугают в первую очередь не столько угрызения совести, чувство виновности или будущие тяготы тюремного заключения, сколько то, что скажут люди, и т. п.
В этом случае перед человеком, попавшим в такое положение, будут в первую очередь рисоваться страшные последствия растраты именно в этом направлении.
Именно они, именно их сочетание станет приводить человека к той степени отчаяния, при которой он прибегает к роковому концу.
В реальной действительности именно так и происходит. Испуг перед сознанием ответственности лихорадочно начнет рисовать картины последствий. И совокупность этих картин, обратно воздействуя на чувства, будет усиливать их еще больше, доводя растратчика до предельных степеней ужаса и отчаяния.
Совершенно таков же процесс, которым актер станет приводить себя в то же самое состояние в условиях театральной действительности. Разница заключается только в том, что здесь он произвольно заставит свою фантазию рисовать себе те же самые картины последствий, которые в реальной действительности фантазия рисовала бы сама и непроизвольно.
Как привести фантазию к тому, чтобы она делала это же по поводу воображаемых и предполагаемых обстоятельств, не входит сейчас в задачи моего изложения. Я описываю процесс с того 175 момента, когда фантазия уже рисует необходимое по ситуации. Заставлять себя чувствовать и переживать эти предвидимые последствия актеру не придется. Чувство и переживание, как и вытекающие из них действия, возникнут сами, вызванные к жизни теми картинами, которые перед ним нарисовала его фантазия. Живое чувство будет вызвано самими картинами, совокупностью этих картин и их сопоставлением. Ища подобных путей к тому, чтобы возникло нужное чувство, я нарисую перед собой бесчисленное множество ситуаций и картин, где в разных аспектах будет проступать та же тема.
Выберем из их многообразия для примера две первые попавшиеся ситуации. При этом, не обдумывая их, постараемся записать их такими, какими они сейчас проносятся передо мною. «Я — преступник в глазах бывших друзей и знакомых. Люди чуждаются меня. Я вытолкнут из их среды» и т. д. Чтобы в чувствах ощутить все это, я, как сказано, рисую перед собой конкретные ситуации, реальные картины того, что ожидает меня. Пусть первая окажется в зале суда во время слушания моего дела. Пусть вторая будет моим возвращением к жизни после отбытого наказания.
Попробуем записать во всей пластической наглядности те многочисленные фрагментарные ситуации, которые мгновенно перед нами набрасывает наша фантазия. У каждого актера они возникают по-своему.
Здесь я перечисляю первое попавшееся мне на ум, когда я ставлю перед собой подобную задачу.
Зал суда. Разбирательство моего дела. Я на скамье подсудимых. Зал полон людей, знавших и знающих меня. Ловлю на себе взгляд моего соседа по дому. Тридцать лет живем рядом. Он замечает, что я поймал его взгляд. Глаза его с деланной рассеянностью скользнули мимо меня. Скучающим взглядом он смотрит в окно… Вот другой зритель в зале суда. Соседка с верхнего этажа. Встретившись со мной глазами, она испуганно смотрит вниз, при этом чуть-чуть краешком взгляда наблюдая за мной… Демонстративно вполоборота поворачивается ко мне спина моего обычного партнера в биллиард… А вот стеклянными глазами навыкат нагло смотрят на меня в упор жирный хозяин биллиардной и его жена… Я съеживаюсь и гляжу себе под ноги. Я никого не вижу, но слышу вокруг себя шепот порицания и присвисты голосов. И удар за ударом падают слова обвинительного заключения…
С не меньшим успехом я представляю себе и другую сцену — сцену моего возвращения из тюрьмы.
Стук закрывающихся ворот тюрьмы, когда я выпущен на улицу… Недоумевающий взгляд служанки, перестающей протирать окно в соседнем доме, когда я возвращаюсь на свою улицу… Новое имя на дверной табличке моей бывшей квартиры… Пол 176 заново перекрашен, и у двери другой половичок… Соседняя дверь открывается. Какие-то новые люди подозрительно и любопытно смотрят из-за двери. К ним жмутся дети: они инстинктивно пугаются моего вида. Снизу, задрав нос из-под кривых очков, неодобрительно глядит из пролета лестницы старый швейцар, который меня еще помнит по прежним временам… Три-четыре пожелтевших письма на мое имя, пришедшие до того, как мой позор стал общеизвестным… В кармане звенят две-три монеты… А затем — двери бывших знакомых закрываются перед моим носом… Ноги робко поднимают меня по лестнице к бывшему другу и, не доходя двух ступенек, сворачивают обратно. Поспешно поднятый воротник прохожего, который узнал меня, и т. д.
Так примерно выглядит честная запись того, что роится и мелькает в сознании и чувствах, когда как режиссер или как актер я эмоционально охватываю предложенную ситуацию.
Мысленно поставив себя в первую ситуацию, мысленно же пройдя через вторую, проделав это же еще с двумя-тремя аналогичными ситуациями других оттенков, я постепенно прихожу в реальное ощущение того, что меня ожидает впереди, и отсюда — к переживанию безысходности и трагичности того положения, в котором я нахожусь сейчас. Сопоставление деталей первой ситуации родит один оттенок этого чувства. Сопоставление деталей второй ситуации — другой. Оттенок чувства складывается с оттенком, и из трех-четырех оттенков уже вырастает в полноте образ безысходности, неразрывной с острым эмоциональным переживанием самого чувства этой безысходности.
Так, не пыжась играть самое чувство, удается вызвать его путем набора и сопоставления сознательно подбираемых деталей и ситуаций.
Здесь совершенно не важно, совпадает или не совпадает описание этого процесса, каким я его дал выше, по всем своим оттенкам с существующими школами актерской техники. Здесь важно то, что этап, подобный тому, который я описываю выше, неизбежно существует на путях формирования и усиления эмоций, будь то в жизни, будь то в технике творческого процесса. В этом может нас убедить малейшее самонаблюдение как в условиях творчества, так и в обстановке реальной жизни.
При этом важно, что творческая техника воссоздает процесс таким, каким он протекает в жизни, применительно к тем особым обстоятельствам, которые перед ним ставит искусство.
Совершенно очевидно, что мы здесь имеем дело никак не со всей системой актерской техники, а только с одним лишь ее звеном.
Мы здесь, например, совсем не коснулись природы самой фантазии, техники ее «разогревания» или того процесса, которым нашей фантазии удается рисовать нужные по теме картины.
177 Недостаток места не дает возможности рассмотреть эти звенья, хотя и их разбор не в меньшей степени подтверждает правильность наших утверждений. Однако ограничимся пока только этим, но будем твердо помнить, что разбираемое звено процесса занимает в технике актера не более места… чем монтаж в системе выразительных средств кинематографа. Правда, — и не меньше.
* * *
Но… позвольте, чем же обрисованная выше картина из области внутренней техники актера практически и принципиально по методу отличается от того, что мы расшифровали выше как самую суть кинематографического монтажа? Отличие здесь в сфере приложения, но не в сущности метода.
Здесь речь идет о том, как заставить возникнуть живое чувство и переживание внутри актера.
Там речь шла о том, как заставить эмоционально переживаемый образ возникать в чувствах зрителя.
Как здесь, так и там из статических элементов — данных, придуманных — и из сопоставления их друг с другом рождаются динамически возникающая эмоция, динамически возникающий образ.
Как мы видим, все это принципиально ничем не отличается от того, что делает кинематографический монтаж: мы видим то же самое острое конкретизирование темы чувства в определяющие детали и ответный эффект сопоставления деталей, уже вызывающий самое чувство.
Что же касается самой природы этих слагающих «видений» перед «духовным взором» актера, то по пластическому (или звуковому) своему облику они совершенно однородны с теми особенностями, которыми отличаются кинокадры. Недаром мы выше называли эти «видения» фрагментами и деталями, понимая под этим отдельные картины, взятые не в целом, а в своих решающих и определяющих частностях. Ибо если мы вчитаемся в ту почти автоматическую запись наших «видений», которую мы постарались зафиксировать с фотографической точностью психологического документа, то мы увидим, что сами эти «картинки» так же последовательно кинематографичны, как разные планы, как разные размеры, как разные вырезы в монтажных кусках.
Действительно, один кусок — это прежде всего отворачивающаяся спина, то есть явный «вырез» из фигуры. Две головы с выпученными глазами, глядящие в упор, в отличие от опущенных ресниц, откуда украдкой уголком глаза за мной следит соседка, — явная разница размера кадров. В другом месте это явные «крупные планы» новой таблички на дверях и трех конвертов. Или по другому ряду: звуковой общий план шепчущихся посетителей зала 178 суда, в отличие от крупного плана звука нескольких монет, звенящих у меня в кармане, и т. д. и т. п. Умозрительный «объектив» также работает по-разному — укрупненными или уменьшенными планами; он поступает совершенно так же, как это делает кинообъектив, вырезывающий «слагающие изображения» строгой рамкой кинокадров. Достаточно поставить номера перед каждым из вышеприведенных фрагментов, для того чтобы получить типично монтажное построение.
Таким образом окажется раскрытым и секрет того, как в действительности создаются монтажные листы, по-настоящему эмоционально увлекательные, а не горохом сыплющие одурь смены крупных, средних и общих планов!
Основная закономерность метода остается верной для обеих областей. Задача состоит в том, чтобы, творчески разложив тему в определяющие изображения, затем эти изображения в их сочетании заставить вызывать к жизни исходный образ темы. Процесс возникновения этого образа у воспринимающего неразрывен с переживанием темы его содержания. Совершенно так же неразрывен с таким же острым переживанием и труд режиссера, когда он пишет свой монтажный лист. Ибо только подобный путь единственно способен подсказать ему решающие изображения, через которые действительно и засверкает в восприятии цельность образа темы.
В этом секрет той эмоциональности изложения (в отличие от протокольности информации), о которой мы говорили вначале и которая так же свойственна живой игре актера, как и живому монтажному кинематографу.
С подобным же роем картин, строго отобранных и сведенных к предельной лаконике двух-трех деталей, мы непременно будем иметь дело в лучших образцах литературы.
Возьмем «Полтаву» Пушкина. Остановимся на сцене казни Кочубея. В этой сцене тема «конца Кочубея» особенно остро выражена через образ «конца казни Кочубея». Сам же образ конца казни возникает и возрастает из сопоставления тех «документально» взятых изображений из трех деталей, которыми заканчивается казнь.
Уж поздно, — кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намост ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.
Трудно найти более сильный подбор деталей, чтобы во всем ужасе дать ощущение образа смерти, чем это сделано в финале сцены казни.
179 Тот факт, что настоящим методом разрешается и достигается именно эмоциональность, подтверждается любопытными примерами. Возьмем из «Полтавы» Пушкина другую сцену, где Пушкин магически заставляет возникнуть перед читателем образ ночного побега во всей его красочности и эмоциональности:
… Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шепот…
Три куска:
1. Конский топот.
2. Казачья речь.
3. Женский шепот.
Опять-таки три предметно выраженных (в звуке!) изображения слагаются в объединяющий их эмоционально переживаемый образ, в отличие от того, как воспринимались бы эти три явления, взятые вне всякой связи друг с другом. Этот метод применяется исключительно с целью вызвать нужное эмоциональное переживание в читателе. Именно переживание, так как информация о том, что Мария исчезла, самим же автором дана строчкой выше («… Она сокрылась. Лишь рыбак…»). Сообщив о том, что она сокрылась, автор хочет, чтобы это еще было пережито читателем. И для этого он сразу же переходит на монтаж: тремя деталями, взятыми из элементов побега, он заставляет монтажно возникнуть образ ночного побега и через это в чувствах его пережить.
К трем звуковым изображениям он присоединяет четвертое. Он как бы ставит точку. И для этого четвертое изображение он выбирает из другого измерения. Он дает его не звуковым, а зрительно-пластическим «крупным планом».
… И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.
Так «монтажен» Пушкин, когда он создает образ произведения. Но совершенно так же «монтажен» Пушкин и тогда, когда он имеет дело с образом человека, с пластической обрисовкой действующих лиц. И в этом направлении Пушкин поразительно умелым комбинированием различных аспектов (то есть «точек съемки») и разных элементов (то есть кусков изображаемых предметов, выделяемых обрезом кадра) достигает потрясающей реальности в своих обрисовках. Человек действительно возникает как осязаемый и ощущаемый со страниц пушкинских поэм.
Но в случаях, когда «кусков» уже много, Пушкин в отношении монтажа идет еще дальше. Ритм, строящийся на смене длинных фраз и фраз, обрубленных до одного слова, заключает в «монтажном построении» еще и динамическую характеристику образа.
180 Ритм как бы закрепляет темперамент изображаемого человека, дает динамическую характеристику действий этого человека.
Наконец, у Пушкина можно поучиться еще и последовательности в подаче и раскрытии облика в характеристики человека. Лучшим примером в этом направлении остается описание Петра в «Полтаве». Напомним его:
I. …
Тогда-то свыше вдохновенный
II. Раздался звучный глас Петра:
III. «За дело, с богом!» Из шатра,
IV. Толпой любимцев окруженный,
V. Выходит Петр. Его
глаза
VI. Сияют. Лик его ужасен.
VII. Движенья быстры. Он прекрасен.
VIII. Он весь, как божия гроза.
IX. Идет. Ему коня подводят.
X. Ретив и смирен
верный конь.
XI. Почуя роковой огонь,
XII. Дрожит. Глазами косо водит
XIII. И мчится в прахе боевом,
XIV. Гордясь могущим седоком.
Мы занумеровали строчки. Теперь перепишем этот же отрывок в порядке монтажного листа, нумеруя отдельные кинематографические «планы» так, как они даны Пушкиным.
1. Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: «За
дело, с богом!»
2. Из шатра, толпой любимцев окруженный,
3. Выходит Петр.
4. Его глаза сияют.
5. Лик его ужасен.
6. Движенья быстры.
7. Он прекрасен.
8. Он весь, как божия гроза.
9. Идет.
10. Ему коня подводят.
11. Ретив и смирен верный конь.
12. Почуя роковой огонь, дрожит.
13. Глазами косо водит
14. И мчится в прахе боевом, гордясь могущим седоком.
Количество строк и «планов» оказалось одинаковым — и тех и других по четырнадцать. Но при этом почти нет внутреннего совпадения разбивки на строки и разбивки на планы, на все четырнадцать случаев они встречаются только два раза: (VIII – 8 и X – 11). При этом нагрузка плана колеблется от двух полных строк (1, 14) вплоть до случая одного слова (9).
Это очень поучительно для работников кино, и звукового прежде всего.
181 Посмотрим, как монтажно «подан» Петр:
1, 2, 3 — это великолепный пример значительной подачи действующего лица. Здесь совершенно явны три ступени, три этапа в его появлении.
1. Петр еще не показан, а подан сперва только звуком (голоса).
2. Петр вышел из шатра, но его еще не видно. Видна лишь группа его любимцев, выходящих с ним из шатра.
3. Наконец, только в третьем куске выясняется, что выходит Петр.
Дальше: сияющие глаза как основная деталь в его облике (4). После этого — все лицо (5). И только тогда уже вся его фигура (вероятно, по колени) для того, чтобы показать его движения, их быстроту и резкость. Ритм и характеристика движений тут выражены «порывистостью», столкновением коротких фраз. Показ фигуры в рост дается лишь в седьмом куске, и уже не протокольно, а красочно (образно): «Он прекрасен». В следующем кадре это общее определение усиливается конкретным сравнением: «Он весь, как божия гроза». Так лишь на восьмом куске Петр раскрывается во всей своей (пластической) мощности. Этот восьмой кусок, видимо, дает фигуру Петра во весь рост, решенную всеми средствами образной выразительности кадра с соответствующей компоновкой кроны облачных небес над ним, шатра и людей вокруг него и у его ног. И после этого широкого «станкового» плана поэт сразу же возвращает нас в сферу движения и действия одним словом: «Идет» (9). Трудно четче схватить и запечатлеть наравне с сияющими глазами (4) вторую решающую характерность: шаг Петра. Это краткое, лаконическое «Идет» целиком передает ощущение того громадного, стихийного, напористого шага Петра, за которым трудно угнаться всей его свите. Так же мастерски схвачен и запечатлен этот «шаг Петра» В. Серовым в его знаменитой картине16, изображающей Петра на стройке Петербурга.
Я думаю, что вычитанная нами из текста последовательность и характеристика кадров выхода Петра правильна именно в том виде, как мы ее изложили выше. Во-первых, подобная «подача» действующих лиц вообще характерна для манеры Пушкина. Взять хотя бы другой блестящий пример совершенно такой же «подачи» балерины Истоминой (в «Евгении Онегине»). Во-вторых, самый порядок слов абсолютно точно определяет порядок последовательного видения тех элементов, которые в конце концов собираются в образ действующего лица, его пластически «раскрывают».
2, 3 строились бы совсем иначе, если бы в тексте стояло не
…
Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр…
а стояло бы:
182 Петр выходит,
Толпой любимцев окруженный,
Из шатра…
Впечатление от выхода, который начинался бы с Петра, но не приводил бы к Петру, было бы совершенно иное. Это и есть образец выразительности, достигаемой чисто монтажным путем и чисто монтажными средствами. Для каждого случая это будет различное выразительное построение. И это выразительное построение каждый раз предпишет и предначертает тот «единственно возможный порядок» «единственно возможных слов», о котором Лев Толстой писал в статье «Что такое искусство?».
Совершенно так же последовательно построены и звук и слова Петра (см. кусок 1).
Там ведь не сказано:
«За дело, с богом!» —
Раздался голос Петра, звучный и
вдохновенный свыше…
Там сказано:
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!»
И, строя выразительность возгласа, мы должны передавать его так, чтобы последовательно раскрывались сперва вдохновенность его, затем его звучность, потом мы должны в нем узнать голос именно Петра, и тогда, наконец, разобрать, что этот вдохновенный, звучный голос Петра произносит («За дело, с богом!»). Очевидно, что в «постановке» такого фрагмента первые требования легко бы разрешились на какой-то предшествующей фразе возгласа, доносящейся из шатра, где самые слова были бы непонятны, но где уже звучали бы вдохновенность и звучность, из которых мы уже потом могли бы узнать характерность голоса Петра.
Как видим, все это имеет громадное значение для проблемы обогащения выразительных средств кино.
Этот пример является образцом и для самой сложной звукозрительной композиции17. Казалось, что в этой области почти не сыскать «наглядных пособий» и что для накопления опыта остается лишь изучать сочетания музыки и действия в опере или балете!
Пушкин учит нас даже тому, как поступать, чтобы отдельные зрительные кадры не совпадали механически с членениями внутри строя музыки.
Сейчас мы остановимся только на самом простом случае — на несовпадении тактовых членений (в данном случае строк!) с концами, 183 началами и протяженностью отдельных пластических картин. В грубой схеме это будет выглядеть так:
|
Музыка... |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
XIII |
XIV |
||||
|
Изображение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
Верхний ряд занимают четырнадцать стихов строфы, нижний ряд — четырнадцать изображений, которые они несут.
Схема отмечает соответствующее размещение их по строфе.
На этой схеме совершенно наглядно видно, какое изысканное контрапунктическое письмо звукозрительных членений применяет Пушкин для достижения замечательных результатов в разнообразном отрывке. За исключением случаев VIII – 8 и X – 11, мы в остальных двенадцати ни разу не встречаемся даже с одинаковыми сочетаниями стихов и соответствующих им изображений.
При этом изображение и стих совпадают не только по размеру, но и по порядковому месту всего лишь один раз — это VIII и 8. Это не случайно. Этим совпадением членения музыки и членения изображения отмечен самый значительный кусок внутримонтажной композиции. Он действительно единственный в своем роде: это тот самый восьмой кусок, которым во всей полноте развернут и раскрыт облик Петра. Именно этот стих является также единственным образным сравнением («Он весь, как божия гроза»). Мы видим, что прием совпадения членений изображения и музыки использован Пушкиным для наиболее сильного ударного случая. Так же поступил бы и опытный монтажер — подлинный композитор звукозрительных сочетаний.
В поэзии перенос картины-фразы со строчки в строчку называется «enjambement».
«… Когда метрическое членение не совпадает с синтаксическим, появляется так называемый “перенос” (“enjambement”)… Наиболее характерным признаком переноса является присутствие внутри стиха синтаксической паузы, более значительной, чем в начале или в конце того же стиха…» — пишет Жирмунский в «Введении в метрику»18 (стр. 173 – 174).
Тот же Жирмунский приводит одно из композиционных истолкований этого типа построений, не лишенное известного интереса и для наших звукозрительных сочетаний: «… Всякое несовпадение синтаксического членения с метрическим есть художественно рассчитанный диссонанс, который получает разрешение там, где после ряда несовпадений синтаксическая пауза, наконец, совпадает с границей ритмического ряда…» Это хорошо видно на особо резком примере из стихотворения Полонского19, 184 которое приводит Ю. Тынянов в «Проблемах стихотворного языка»20, стр. 65.
Гляди: еще цела за нами
Та сакля, где, тому назад
Полвека, жадными глазами
Ловил я сердцу милый взгляд.
Напомним о том, что метрическое членение, не совпадающее с синтаксическим, как бы повторяет взаимоотношение, имеющее место между стопою и словом, последнее явление гораздо более распространенное, чем в случае «enjambement». «… Обычно границы слов не совпадают с границами стоп. Старинные теоретики русского стиха видели в этом одно из условий ритмического благозвучия…» (Жирмунский, «Введение в метрику», стр. 168). Здесь не обычным, а редкостью является совпадение. И тут как раз совпадения рассчитаны на неожиданные и особые эффекты. Например, у Бальмонта21 «Челн томленья»:
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас воли.
Буря близко. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн…
«Enjambement» в русской поэзии представлен особенно богато у Пушкина. В английской — у Шекспира и у Мильтона22, а за ним у Томсона23 (XVIII век), у Китса24 и Шелли25. У французов — в поэзии Виктора Гюго и Андре Шенье26. Вчитываясь в подобные примеры и анализируя в каждом отдельном случае побудительные предпосылки и выразительные эффекты каждого, мы необычайно обогащаемся опытом звукозрительных соразмещений образов в звукомонтаже.
Обычно начертание поэмы придерживается записи строф, разделенных по метрическому членению — по стихам. Но мы имеем в поэзии и мощного представителя другого начертания — Маяковского. В его «рубленой строке» расчленения ведутся не по границам стиха, а по границам «кадров».
Маяковский делит не по стиху:
Пустота. Летите,
В звезды врезываясь.
а делит по «кадрам»:
Пустота…
Летите,
В
звезды врезываясь.
При этом Маяковский разрубает строчку так, как это делал бы опытный монтажер, выстраивающий типичную сцену столкновения («звезд» и «Есенина»). Сперва — один. Потом — другой. Затем столкновение того и другого.
185 1. Пустота (если снимать этот «кадр», то в нем следует взять звезды так, чтобы подчеркнуть пустоту и вместе с тем дать ощутить их присутствие).
2. Летите.
3. И только в третьем куске показано содержание первого и второго кадра в обстановке столкновения.
Такой же набор изысканных переносов мы можем найти и у Грибоедова. Ими изобилует «Горе от ума». Например:
Лиза:
Ну, разумеется, к тому б
И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы;
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы…
(I акт)
или
Чацкий:
Вы что-то не веселы стали;
Скажите, отчего? Приезд не в пору мой?
Уж Софье Павловне какой
Не приключилось ли печали?..
(II акт)
Но «Горе от ума» для монтажера еще интереснее в другом отношении. И этот интерес возникает тогда, когда начинаешь сличать рукописи и разные издания комедии. Дело в том, что более поздние издания отличаются от первоначальных не только вариантами внутри текста, но в первую очередь измененной пунктуацией при сохранении тех же слов и их порядка. Более поздние издания во многих случаях отступили от оригинальной авторской пунктуации, и возвращение к этой пунктуации первых изданий оказывается чрезвычайно поучительным в монтажном отношении.
Сейчас установилась такая традиция типографского набора и соответственной читки:
Когда избавит нас творец
От шляпок их, чепцов, и шпилек, и булавок,
И книжных и бисквитных лавок…
Между тем как в оригинальной трактовке это место у Грибоедова задумано так:
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек!! и булавок!!!
И книжных и бисквитных лавок!!!..
Совершенно очевидно, что произнесение текста в обоих случаях совершенно разное. Но мало того: как только мы постараемся представить это перечисление в зрительных образах, в зрительных кадрах, мы сразу же увидим, что негрибоедовское 186 начертание понимает шляпки, чепцы, шпильки и булавки как один общий план, где вместе изображены все эти предметы. Между тем как в оригинальном грибоедовском изложении каждому из этих атрибутов туалета отведен свой крупный план и перечисление их дано монтажно сменяющимися кадрами.
Очень характерны здесь двойные и тройные восклицательные знаки. Они как бы говорят о возрастающем укрупнении планов. Укрупнение, которое в читке стиха достигается голосовыми и интонационными усилениями, в кадрах выразилось бы увеличивающимися размерами деталей.
Тот факт, что мы позволяем себе здесь говорить о размерах видимых предметов перечисления, вполне законен. Этому вовсе не противоречит то обстоятельство, что мы здесь имеем дело не с пушкинским описательным материалом, вроде тех случаев, что мы разбирали выше. Здесь в словах Фамусова не описание картин и не авторское изложение тех последовательных частностей, в которых он хочет, чтобы мы постепенно воспринимали, например, Петра в «Полтаве». Здесь мы имеем дело с перечислением, которое произносит возмущенное действующее лицо. Но есть ли здесь принципиальная разница? Конечно, нет! Ведь для того чтобы с подлинной яростью обрушиваться на все эти шляпки, шпильки, чепцы и булавки, актер в момент произнесения тирады должен ощущать их вокруг себя и перед собою — видеть их! При этом он может видеть их перед собой и как общую массу (общим планом), но может видеть их нагромождение в виде резкой «монтажной» смены каждого атрибута в отдельности. Да еще в возрастающем укрупнении, заданном двойными и тройными восклицательными знаками. И уже тут выяснение того, как видеть эти предметы перечисления — общим планом или монтажно, — вовсе не праздная игра ума: тот или иной порядок видения этих предметов перед собой и вызовет ту или иную степень усиления интонации. Это усиление будет не нарочно сделанным, а естественно отвечающим на степень интенсивности, с которой фантазия рисует предмет перед актером.
На этом же отрывке совершенно наглядно видно, до какой степени сильнее и более выразительно монтажное построение, чем построение, данное «с одной точки», как оно дано в позднейшей транскрипции.
Любопытно, что таких примеров у Грибоедова очень много, При этом отличие старой транскрипции всегда сводится к разбивке «общего» плана на «крупные», а не наоборот.
Так, например, столь же неверна традиционная транскрипция:
Для довершенья чуда
Раскрылся пол и вы оттуда
Бледны, как смерть…
187 Вместо этого Грибоедов пишет:
Для довершенья чуда
Раскрылся пол и вы оттуда
Бледны! Как смерть!
Еще более неожиданно и замечательно это в таком, ставшем трафаретным, случае чтения, как:
И прослывет у них мечтателем опасным.
Оказывается, что Грибоедов пишет это иначе:
И прослывет у них мечтателем! Опасным!
В обоих случаях мы имеем дело с чисто монтажным явлением. Вместо маловыразительной картины фразы «бледны, как смерть» мы имеем дело с двумя картинами возрастающей силы: 1) «бледны!» и 2) «как смерть!» Совершенно то же самое и во втором случае, где тема опять-таки идет, возрастая от куска к куску.
Как видим, эпоха Грибоедова и Пушкина весьма остромонтажна и, не прибегая к манере монтажной расстановки строк так, как это делает Маяковский, Грибоедов, например, по внутреннему монтажному ощущению во многом перекликается с величайшим поэтом нашей современности.
Занятно, что здесь исказители Грибоедова проделали обратный путь тому, что делает сам Маяковский от варианта к варианту стихотворения — все по той же монтажной линии. Так обстоит дело, например, с одним куском стихотворения «Гейнеобразное», сохранившегося в двух стадиях работы над ним.
Первоначальная редакция:
… Вы низкий и подлый самый
Пошла и пошла ругая…
Окончательный текст:
«… Ты самый низкий,
Ты подлый самый…» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая…
(цитирую по В. В. Тренину, «В мастерской стиха Маяковского»).
В первой редакции максимум два кадра. Во второй — явных пять. «Укрупнение» во второй строке против первой и три куска на одну и ту же тему в строках третьей, четвертой и пятой.
Как видим, творчество Маяковского очень наглядно в этом монтажном отношении. Но вообще же в этом направлении интереснее обращаться к Пушкину, потому что он принадлежит к периоду, когда о «монтаже» как таковом не было еще и речи. Маяковский же целиком принадлежит к тому периоду, когда 188 монтажное мышление и монтажные принципы широко представлены во всех видах искусства, смежных с литературой: в театре, в кино, в фотомонтаже и т. д. Поэтому острее, интереснее и, пожалуй, наиболее поучительны примеры строгого реалистического монтажного письма именно из области классического наследства, где взаимодействия со смежными областями в этом направлении или меньше или вовсе отсутствуют (например, в кино).
Итак, в зрительных ли, в звуковых или в звукозрительных сочетаниях, в создании ли образа, ситуации или в «магическом» воплощении перед нами образа действующего лица — у Пушкина или у Маяковского — везде одинаково наличествует все тот же метод монтажа.
Каков же из всего сказанного выше вывод?
Вывод тот, что нет противоречия между методом, которым пишет поэт, методом, которым действует воплощающий его актер внутри себя, методом, которым тот же актер совершает поступки внутри кадра, и тем методом, которым его действия, его поступки, как и действия его окружения и среды (и вообще весь материал кинокартины) сверкают, искрятся и переливаются в руках режиссера через средства монтажного изложения и построения фильма в целом. Ибо в равной мере в основе всех их лежат те же живительные человеческие черты и предпосылки, которые присущи каждому человеку, равно как и каждому человечному и жизненному искусству.
Какими, казалось бы, полярными кругами каждая из этих областей ни двигалась, они не могли и не могут не встретиться в конечном родстве и единстве метода такими, какими мы ощущаем их сейчас.
Эти положения с новой силой ставят перед нами вопрос о том, что мастера киноискусства наравне с изучением драматургически-литературного письма и актерского мастерства должны овладеть и всеми тонкостями культурного монтажного письма.
1938
189 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ*
I
В статье «Монтаж 1938», давая окончательную формулировку о монтаже, мы писали:
«… Кусок А, взятый из элементов развертываемой темы, и кусок В, взятый оттуда же, в сопоставлении рождают тот образ, в котором наиболее ярко воплощено содержание темы…», то есть «изображение А и изображение В должны быть так выбраны из всех возможных черт внутри развиваемой темы, должны быть так выисканы, чтобы сопоставление их — именно их, а не других элементов — вызывало в восприятии и чувствах зрителя наиболее исчерпывающе полный образ самой темы…»
В этой формулировке мы совершенно не ограничивали себя определением того, к какому качественному ряду принадлежат А или В и принадлежат ли они к одному разряду измерений или к разным.
* * *
Мы не случайно писали: «… из всех возможных черт внутри развиваемой темы…»
Ибо поскольку решающим является возникающий из них, наперед задуманный, единый и обобщающий образ, постольку принадлежность отдельных этих слагающих к той или иной области выразительных средств принципиальной роли не играет.
Мало того, именно о принадлежности выразительных средств к самым разнообразным областям толкуют почти что все примеры от Леонардо да Винчи до Пушкина и Маяковского включительно1.
190 В «Потопе» Леонардо элементы чисто пластические (то есть зрительные); элементы поведения людей (то есть драматически игровые); элементы шумов, грохота и воплей (то есть звуковые) — все в одинаковой мере слагаются в единый обобщающий конечный образ представления о потопе.
Таким образом, мы видим, что переход от монтажа немого фильма к монтажу звукозрительному ничего принципиально не меняет.
Наше понимание монтажа в равной мере обнимает и монтаж немого фильма и монтаж фильма звукового.
Это отнюдь не значит, что сама практика звукозрительного монтажа не ставит перед нами новых задач, новых трудностей и во многом совершенно новую методику.
Наоборот, это именно так.
И поэтому надо как можно обстоятельнее разобраться в самой природе звукозрительного феномена. И прежде всего встает вопрос о том, где же искать предпосылок непосредственного опыта в этом деле.
Как и всегда, неисчерпаемым кладезем опыта останется и остается человек2.
Наблюдение за его поведением, в частности, в данном случае, за тем, как он воспринимает действительность и как он охватывает ее, создавая себе исчерпывающий образ ее, здесь навсегда останется решающим.
Дальше мы увидим, что и в вопросах узкокомпозиционных снова же человек и взаимосвязь его жеста и интонации, порождаемых единой эмоцией, окажутся решающим прообразом для определения звукозрительных структур, которые совершенно так же вытекают из единого определяющего образа. Но об этом, как сказано, дальше. Пока же с нас хватит и следующего положения. Чтобы найти правильный подбор именно тех монтажных элементов, из которых сложится именно тот образ, в котором мы ощущаем то или инее явление, лучше всего остро следить за собой, остро следить за тем, из каких именно элементов действительности этот образ действительно складывается в нашем сознании,
При этом лучше всего ловить себя на первом, то есть наиболее непосредственном восприятии, ибо именно оно всегда будет наиболее острым, свежим, живым и составленным из впечатлений, принадлежащих к наибольшему количеству областей.
Поэтому и в обращении к материалам классики, пожалуй, тоже лучше всего оперировать не только с законченными произведениями, но и с теми эскизными записями, в которых художник старается запечатлеть гамму первых, наиболее ярких и непосредственных впечатлений.
Ведь именно в силу этого эскиз или набросок часто бывает гораздо более живым, чем законченное полотно (например, «Явление 191 Христа народу» Иванова и эскизы к нему3; в особенности композиционные наброски Иванова к другим неосуществленным картинам).
Не забудем, что тот же «Потоп» Леонардо есть тоже «набросок», если не набросок с натуры, то, во всяком случае, эскизная запись, лихорадочно стремящаяся записать все те черты образа и видения «Потопа», которые проносились перед внутренним взором Леонардо. Именно отсюда такое обилие не только изобразительных и не только пластических элементов в этом описании, но элементов звуковых и игровых.
Но возьмем для наглядности другой пример такой записи «с натуры», записи, сохранившей весь «трепет» первого непосредственного впечатления.
Это — сноска к записи от 18 сентября 1867 года в «Дневнике» Гонкуров4;
«… Описание Атлетической Арены… я нахожу ее в тетрадке документальных записей к нашим будущим романам (romans futurs), которые, увы, не были написаны.
В двух концах зала, погруженных в глубокую тень, — поблескивание пуговиц и рукояток сабель полицейских.
Блестящие члены борцов, устремляющихся в пространство яркого света. Вызывающий взгляд глаз. Хлопанье ладоней по коже при схватках. Пот, от которого несет запахом дикого зверя. Бледнеющий цвет лиц, сливающийся с белокурым оттенком усов. Тела, розовеющие на местах ударов. Спины, с которых струится пот, как с камней водостоков. Переходы фигур, волочащихся на коленях. Пируэты на головах и т. д. и т. д.»
Знакомая нам картина. Сочетание чрезвычайно остро взятых «крупных планов». Необычайно живой образ атлетической арены, возникающей из их сопоставления, и т. д. и т. д. Но что здесь особенно примечательно? Это то, что на протяжении всего нескольких строк описания отдельные эти планы — «монтажные элементы» — принадлежат буквально ко всем почти областям человеческих чувств:
1. Осязательно-фактурные (мокрые спины, по которым струится пот).
2. Обонятельные (запах пота, от которого несет диким зверем).
3. Зрительные:
Световые (глубокая тень и блестящие члены борцов, устремляющихся в полный свет; пуговицы полицейских и рукоятки их сабель, поблескивающие из темноты).
Цветовые (бледнеющие лица, белокурые усы, тела, розовеющие в местах ударов).
4. Слуховые (щелканье хлопков).
5. Двигательные (на коленках, пируэты на головах).
6. Чисто эмоциональные, «игровые» (вызов глаз) и т. д.
192 Примеров можно было бы привести несметное множество, но все они с большей или меньшей обстоятельностью проиллюстрируют все одно и то же положение, высказанное выше, а именно:
в подходе к монтажу чисто зрительному и монтажу, связывающему элементы разных областей, в частности зрительный образ и образ звуковой, по линии создания единого обобщающего звукозрительного образа принципиальной разницы нет.
Как принцип это было понятно уже и в тот период, когда мы совместно с Пудовкиным и Александровым подписывали нашу «Заявку» о звуковом фильме еще в 1929 году5.
Однако принцип принципом, но основное дело здесь в том, какими путями найти подходы к практике этого нового вида монтажа.
Поиски в этом направлении тесно связаны с «Александром Невским». А новый вид монтажа, который останется неразрывно в памяти с этой картиной, я называю:
вертикальный монтаж.
Откуда же это название и почему оно?
* * *
Всякий знаком с внешним видом оркестровой партитуры. Столько-то строк нотной линейки, и каждая отдана под партию определенного инструмента. Каждая партия развивается поступательным движением по горизонтали. Но не менее важным и решающим фактором здесь является вертикаль: музыкальная взаимосвязь элементов оркестра между собой в каждую данную единицу времени. Так поступательным движением вертикали, проникающей весь оркестр и перемещающейся горизонтально, осуществляется сложное, гармоническое музыкальное движение оркестра в целом.
Переходя от образа такой страницы музыкальной партитуры к партитуре звукозрительной, пришлось бы сказать, что на этой новой стадии к музыкальной партитуре как бы прибавляется еще одна строка. Это строка последовательно переходящих друг в друга зрительных кадров, которые пластически по-своему соответствуют движению музыки и наоборот. [Сравните схемы I и II на стр. 195].
Подобную же картину мы могли бы нарисовать с таким же успехом, идя не от образа музыкальной партитуры, но отправляясь от монтажного построения в немом фильме.
В таком случае из опыта немого фильма пришлось бы взять пример полифонного монтажа, то есть такого, где кусок за куском соединяются не просто по какому-нибудь одному признаку — движению, свету, этапам сюжета и т. д., но где через серию кусков идет одновременное движение целого ряда линий, из которых 193 каждая имеет свой собственный композиционный ход, вместе с тем неотрывный от общего композиционного хода целого.
Таким примером может служить монтаж «крестного хода» из фильма «Старое и новое».
В «крестном ходе» из «Старого и нового» мы видим клубок самостоятельных линий, которые одновременно и вместе с тем самостоятельно пронизывают последовательность кадров.
Таковы, например;
1. Партия «жары». Она идет, все нарастая из куска в кусок.
2. Партия смены крупных планов по нарастанию чисто пластической интенсивности.
3. Партия нарастающего упоения религиозным изуверством, то есть игрового содержания крупных планов.
4. Партия женских «голосов» (лица поющих баб, несущих иконы).
5. Партия мужских «голосов» (лица поющих мужчин, несущих иконы).
6. Партия нарастающего темпа движений у «ныряющих» под иконы. Этот встречный поток давал движение большой встречной теме, сплетавшейся как сквозь кадры, так и путем монтажного сплетения с первой большой темой — темою несущих иконы, кресты, хоругви.
7. Партия общего «пресмыкания», объединявшая оба потока в общем движении кусков «от неба к праху»,
от сияющих в небе крестов и верхушек хоругвей до распростертых в пыли и прахе людей, бессмысленно бьющихся лбами в сухую землю.
Эта тема прочерчивалась даже отдельным куском, как бы ключом к ней вначале: в стремительной панораме по колокольне от креста, горящего в небе, к подножию церкви, откуда движется крестный ход, и т. д. и т. д.
Общее движение монтажа шло непрерывно, сплетая в едином общем нарастании все эти разнообразные темы и партии. И каждый монтажный кусок строго учитывал кроме общей линии движения также и перипетии движения внутри каждой отдельной темы.
Иногда кусок вбирал почти все из них, иногда одну или две, выключая паузой другие; иногда по одной теме делал необходимый шаг назад, с тем чтобы потом тем ярче броситься на два шага вперед, в то время как остальные темы шли равномерно вперед, и т. д. и т. д. И везде каждый монтажный кусок приходилось проверять не только по одному какому-нибудь признаку, но по целому ряду признаков, прежде чем можно было решать, годится ли он «в соседи» тому или иному другому куску.
Кусок, удовлетворявший по интенсивности жары, мог оказаться неприемлемым, принадлежа не к тому хору «голосов». 194 Размер лица их мог удовлетворить, но выразительность игры диктовала ему совсем другое место и т. д. Сложность подобной работы никого не должна была бы удивлять: ведь это почти то же самое, что приходится делать при самой скромной музыкальной оркестровке. Сложность здесь, конечно, большая в том отношении, что отснятый материал гораздо менее гибок и как раз в этой части почти не дает возможности вариаций.
Но, с другой стороны, следует иметь в виду, что и самый полифонный строй и отдельные его линии выслушиваются и выводятся в окончательную форму не только по предварительному плану, но учитывая и то, что подсказывает сам комплекс заснятых кусков.
Совершенно такой же «спайки», усложненной (а может быть, облегченной?) еще «строчкой» фонограммы, мы добивались так же упорно и в «Александре Невском», и особенно в сцене наступления рыцарей. Здесь линия тональности неба — облачности и безоблачности; нарастающего темпа скока, направления скока, последовательности показа русских и рыцарей; крупных лиц и общих планов, тональной стороны музыки; ее тем; ее темпа, ее ритма и т. д. — делали задачу не менее трудной и сложной. И многие и многие часы уходили на то, чтобы согласовать все эти элементы в один органический сплав.
Здесь делу, конечно, помогает и то обстоятельство, что полифонное построение кроме отдельных признаков в основном оперирует тем, что составляет комплексное ощущение куска в целом. Оно образует как бы «физиогномию» куска, суммирующую все его отдельные признаки в общее ощущение куска. Об этом качестве полифонного монтажа и значении его для тогда еще «будущего» звукового фильма я писал в связи с выходом фильма «Старое и новое» (1929)6.
Для сочетания с музыкой это общее ощущение имеет решающее значение, ибо оно связано непосредственно с образным ощущением как музыки, так и изображения. Однако, храня это ощущение целого как решающее, в самих сочетаниях необходимы постоянные коррективы согласно их отдельным признакам.
Для схемы того, что происходит при вертикальном монтаже, эта особенность дает возможность представить ее в виде двух строчек. При этом мы имеем в виду, что каждая из них есть комплекс своей многоголосой партитуры, и искание соответствий здесь рассмотрено под углом зрения подобных соответствий для общего, комплексного «образного» звучания как изображения, так и музыки.
Схема II отчетливо показывает новый добавочный «вертикальный» фактор взаимосоответствия, который вступает с момента соединения кусков в звукозрительном монтаже.
С точки зрения монтажного строя изображения здесь уже не только «пристройка» куска к куску по горизонтали, но и «надстройка» 195 по вертикали над каждым куском изображения — нового куска другого измерения — звукокуска, то есть куска, сталкивающегося с ним не в последовательности, а в единовременности.
Интересно, что и здесь звукозрительное сочетание принципиально не отлично ни от музыкальных сочетаний, ни от зрительных в немом монтаже.
Ибо и в немом монтаже (не говоря уже о музыке) эффект тоже получается, по существу, не от последовательности кусков, а от их одновременности, оттого, что впечатление от последующего куска накладывается на впечатление от предыдущего. Прием «двойной экспозиции» как бы материализовал в трюковой технике этот основной феномен кинематографического восприятия. Феномен этот одинаков как на достаточно высокой стадии немого монтажа, так и на самом низшем пороге создания иллюзий кинематографического движения: неподвижные изображения разных положений предмета от кадрика к кадрику, накладываясь друг на друга, и создают впечатление движения. Теперь мы видим, что подобное же наложение друг на друга повторяется и на самой высшей стадии монтажа — монтажа звукозрительного. И для него образ «двойной» экспозиции так же принципиально характерен, как и для всех, других феноменов кинематографа.
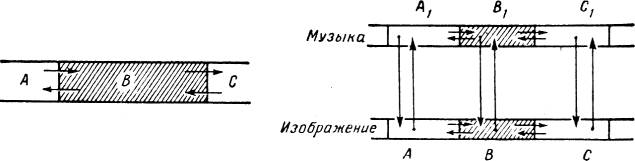
Схема I Схема II
Недаром же, когда мне еще в период немого кинематографа захотелось чисто пластическими средствами передать эффект звучания музыки, я прибег именно к этому техническому приему:
«… в “Стачке” (1924) есть попытки в этом направлении. Там была маленькая сценка сговора стачечников под видом безобидной гулянки под гармошку.
Она заканчивалась куском, где чисто зрительными средствами мы старались передать ощущение его звучания.
Две пленки будущего — изображение и фонограмму — здесь подменяла двойная экспозиция. На одной было уходящее в далекую глубину белое пятно пруда у подножия холма. От нега из глубины, вверх на аппарат, шли группы гуляющих с гармошкой. 196 Во второй экспозиции, ритмически окаймляя пейзаж, двигались блестящие полоски — освещенные ребра мехов громадной гармоники, снятой во весь экран. Своим движением и игрой взаимного расположения под разными углами они давали полное ощущение движения мелодии, вторящей самой сцене…» (см. мою статью «Не цветное, а цветовое», газета «Кино», № 24, май, 1940).
Схемы I и II рисуют систему композиционного стыка в немом кино (I) в отличие от звукового (II). Именно схему стыка, ибо сам монтаж, конечно, рисуется как некий большой развивающийся тематический ход, движущийся сквозь подобную схему отдельных монтажных стыков.
Но в разгадке природы этого нового вида стыка по вертикали и лежат как раз основные трудности.
Ибо строй композиционной связи движения А1 — В1 — С1 известен в музыке.
А законы композиционного движения А — В — С до конца обследованы в практике немого кино.
И новой проблемой перед звукозрительным кино будет стоять система соединения A — A1; A1B1C1; B — B1; C — C1 и т. д., которые обусловливают сложный пластический звуковой ход темы через сложную систему сочетаний A — A1 — B1 — B — C — C1 и т. д. в самых разнообразных переплетениях.
Таким образом, проблемой здесь явится нахождение ключа к неведомым доселе вертикальным стыкам A — A1, B — B1, которые надо научиться так же закономерно уметь сочетать и разводить, как через культуру слуха это делает с рядами A1, B1… музыка, или через культуру глаза — зрительный монтаж с рядами A1, B1 и т. д.
Отсюда на первый план выдвигается вопрос нахождения средств соизмеримости изображения и звука и вопрос нахождения в этом деле показателей, измерителей, путей и методики. Это будет в первую очередь вопрос о нахождении столь же остро ощущаемой внутренней синхронности изображения и музыки, какую мы уже имеем в отношении ощущения синхронности внешней (несовпадение между движением губ и произносимым словом мы уже научились замечать с точностью до одной клетки!).
Но сама она будет весьма далека от той внешней синхронности, что существует между видом сапога и его скрипом, и «будет той “таинственной” внутренней синхронностью», в которой пластическое начало целиком сливается с тональным.
Связующим звеном между этими областями, общим языком синхронности, конечно, явится движение. Еще Плеханов сказал, что все явления в конечном счете сводятся к движению. Движение же нам раскроет и те все углубляющиеся слои внутренней синхронности, которые можно последовательно установить. Движение же нам ощутимо раскроет и смысл объединения и его 197 методику. Но двинемся по этому пути от вещей внешних и наглядных к вещам внутренним и менее непосредственным.
Сама роль движения в вопросе синхронности абсолютно очевидна. Но рассмотрим ряд последовательных случаев.
Начинается такой ряд с той области синхронности, которая, по существу, лежит вне пределов художественного рассмотрения, — с фактической синхронности, то есть с натурального звучания снимаемого предмета или явления (квакающая лягушка, рыдающий аккорд сломанной арфы, стук колес пролетки по мостовой).
Собственно искусство начинается в этом деле с того момента, как в сочетании звука и изображения уже не просто воспроизводится существующая в природе связь, но устанавливается связь, требуемая задачами выразительности произведения.
В наиболее рудиментарных формах это будет подчинение обеих областей одному и тому же ритму, отвечающему содержанию сцены. Это будет наиболее простой, наиболее общедоступный, часто встречающийся случай звукозрительного монтажа, когда куски изображения нарезаются и склеиваются согласно ритму музыки, которая бежит им параллельно по фонограмме. Здесь принципиально безразлично, будет ли в кадре движение или будут ли кадры неподвижными. В первом случае надо будет лишь следить за тем, чтобы внутрикадровое движение тоже было в соответствующих ритмах.
Совершенно очевидно, что здесь, на этой невысокой стадии синхронности, тоже возможны очень строгие, интересные и выразительные построения.
От простейшего случая — простого «метрического» совпадения акцентов — своеобразной «скандировки» — здесь возможны любые комбинации синкопированных сочетаний7 и чисто ритмического «контрапункта» в учтенной игре несовпадения ударений, длин, частот, повторов и т. п.
Но каков же будет следующий шаг после этого второго случая внешне двигательной синхронности? Очевидно, такая, которая в пластике сумеет передать движение не только ритмическое, но и движение мелодическое.
Правильно говорит о мелодии Ланц (Henry Lanz, «The Physical basis of Rime», 1931):
«… Строго говоря, мы вовсе не “слышим” мелодию. Мы способны или неспособны ей следовать, что означает нашу способность или неспособность сочетать ряд звуков в некоторое единство высшего порядка…»
И во всем многообразии пластических средств выражения должны же найтись такие, которые своим движением сумеют вторить не только движению ритма, но и линии движения мелодии. Мы уже догадываемся о том, какие это будут элементы, 198 но, так как этому вопросу будет отведен большой самостоятельный раздел, мы только мимоходом бросим предположение о том,
что это, вероятно, будет в основном «линейным» элементом
пластики. Сами же обратимся к следующему разряду движения.
«Высшее единство», в которое мы способны объединить отдельные звуки звукоряда, нам совершенно ясно рисуется линией, объединяющей их своим движением. Но и сама тональная разница их тоже характеризуется опять-таки движением. Но на этот раз уже движением последующего разряда — уже не движением-перемещением, а колебательным движением, разные характеристики которого мы и воспринимаем как звуки разной высоты и тональности.
Какой же элемент изображения вторит и здесь этому «движению» в звуках? Очевидно, что тот элемент, который и здесь тоже связан с движением-колебанием (пусть и иной физической конфигурации), тот элемент, который характеризуется и здесь таким же обозначением… тона: в изображении это — цвет. (Высота, грубо говоря, видимо, будет соответствовать игре света, тональность — цвету.)
Остановимся на мгновение и осмотримся. Мы установили, что синхронность может быть «бытовой», метрической, ритмической, мелодической, тональной.
При этом звукозрительное сочетание может удовлетворять своей синхронностью всему ряду (что бывает более чем редко) или может строиться на сочетании по одной какой-либо разновидности, не скрывая при этом ощущения общего разлада между областью звука и изображения. Последнее — весьма частый случай. Когда он имеет место, мы говорим, что изображение — «само по себе», а музыка — «сама по себе»; звуковая и изобразительная сторона каждая бегут самостоятельно, не объединяясь в некое органическое целое. Следует при этом иметь в виду, что под синхронностью мы понимаем отнюдь не обязательный консонанс. Здесь вполне возможна любая игра совпадений и несовпадений «движения», но в тех и других случаях связь должна быть все равно композиционно учтенной. Так же очевидно и то, что в зависимости от выразительных задач «ведущим» основным признаком построения может быть любой из видов синхронности. Для каких-то сцен основным фактором воздействия окажется ритм, для других — тон и т. д. и т. д.
Но вернемся к самому ряду разновидностей, вернее, разных областей синхронности.
Мы видим, что разновидности эти целиком совпадают с теми разновидностями немого монтажа, которые мы установили в свое время (в 1928 – 1929) и которые мы в дальнейшем включили и в общий курс преподавания режиссуры (см. «Искусство кино», 1936, № 4, стр. 57, III курс, раздел II, [подраздел] Б, 3).
199 В свое время эта «номенклатура» некоторым товарищам могла показаться излишним педантизмом или произвольной игрой с аналогиями. Но мы тогда еще указывали на важность такого рассмотрения этого вопроса для тогдашнего «будущего» — для звукового фильма. Сейчас мы это наглядно и конкретно ощутили на самой практике звукозрительных сочетаний.
Этот ряд включал еще и монтаж «обертонный». Такого рода синхронности мы касались выше в случае «Старого и нового». И под этим, может быть, не совсем точным названием следует понимать «комплексное» полифонное «чувственное» звучание кусков (музыки и изображения) как целых. Этот комплекс есть тот чувственный фактор, в котором наиболее непосредственно воплощается синтетически образное начало куска.
И здесь мы подошли к основному и главному, что создает окончательную внутреннюю синхронность, к образу и к смыслу кусков. Этим как бы замыкается круг. Ибо эта формула о смысле куска объединяет и самую лапидарную сборку кусков — так называемую простую «тематическую подборку» по логике сюжета — и наивысшую форму, когда это соединение является способом раскрытия смысла, когда сквозь объединения кусков действительно проступает образ темы, полный идейного содержания вещи.
Это начало является, конечно, исходным и основоположным для всего ряда других. Ибо каждая «разновидность» синхронности внутри общего органического целого есть не более как воплощение основного образа через свою специфически очерченную область. Начнем мы наше рассмотрение с области цвета. И не только потому, что проблема цвета на сегодня является наиболее актуальной и интригующей проблемой нашего кино. А в основном потому, что как раз на области цвета наиболее остро ставился, а сейчас разрешается принципиальный вопрос об абсолютных и относительных соответствиях изображения и звука между собой и обоих вместе взятых — определенным человеческим эмоциям. Для вопроса о принципе звукозрительного образа это имеет кардинальное значение. Методику же самого дела наиболее наглядно и лучше всего развернуть на области мелодической синхронности, наиболее удобно поддающейся графическому анализу и одноцветному печатному воспроизведению (это составит тему следующих за этой статей).
Итак, обратимся в первую очередь к вопросу соответствия музыки и цвета, которое нам проложит путь к проблеме того вида монтажа, который я для удобства называю хромофонным (то есть цветозвуковым).
* * *
Уничтожение противоречия между изображением и звуком, между миром видимым и миром слышимым! Создание между 200 ними единства и гармонического соответствия. Какая увлекательная задача! Греки и Дидро8, Вагнер9 и Скрябин10 — кто только не мечтал об этом? Кто только не брался за эту задачу? Но обзор мечтаний мы начнем не с них.
А самый обзор сделаем для того, чтобы проложить пути к методике слияния звука с изображением и по ряду других его ведущих признаков.
Итак, начнем рассмотрение этого вопроса с того, в каком виде мечта о звукозрительной слиянности уже давным-давно волнует человечество. И здесь на область цвета выпадает львиная доля мечтаний.
Первый пример возьмем не слишком давний, не глубже рубежа XVIII – XIX веков, но очень наглядный. Первое слово предоставим Г. Эккартсгаузену11, автору книги «Ключ к таинствам натуры». Часть I. С.-Петербург, 1804 г. (немецкий оригинал его еще в 1791 году вышел уже вторым изданием). На стр. 295 – 299 этой книги он пишет:
«… Долго занимался я исследованием гармонии всех чувственных впечатлений. Чтоб сделать сие яснее и ощутительнее, на сей конец исправил я изобретенную Пастером Кастелем музыкальную машину для зрения, и привел ее в такое состояние, что можно на ней производить все аккорды цветов точно так, как и аккорды тонов. Вот описание сей машины. Я заказал себе цилиндрические стаканчики из стекла, равной величины, в полдюйма в поперечнике; налил их разноцветными жидкостями по теории цветов; расположил сии стаканчики, как струны в клавикордах, разделя переливы цветов, как делятся тоны. Позадь сих стаканчиков сделал я медные клапанцы, коими они закрывались. Сии клапанцы связал я проволокою так, что при ударе по клавишам клапанцы поднимались и цвета открывались. Как тон умолкает, когда палец оставляет клавишу, так и цвет пропадает, как скоро отнимешь палец, ибо клапанцы, по тяжести своей, тотчас упадают и закрывают стаканчики.
Сзади осветил я сии клавикорды высокими свечами. Красоту являющихся цветов описать нельзя, они превосходят самые драгоценные каменья. Так же невозможно выразить приятности ощущения глаза при различных аккордах цветов…
… Теория музыки глазной
Как тоны музыки должны соответствовать речам автора в мелодраме, так и цвета должны также согласоваться со словами. Для лучшего понятия я приведу здесь в пример песню, которую я положил на музыку цветов и которую я аккомпанирую на моем глазном клавесине. Вот она:
Слова: “Бесприютная сиротиночка”.
201 Тоны: Тоны флейты, заунывные.
Цвета: Оливковый, перемешанный с розовым и белым.
Слова: “По лугам ходя меж цветочками”.
Тоны: Возвышающиеся веселые тоны.
Цвета: Зеленый, перемешанный с фиолетовым и бледно-палевым.
Слова: “Пела жалобно, как малиновка”.
Тоны: Тихие, скоро друг за другом последующие, возвышающиеся и утихающие.
Цвета: Темно-синий с алым и изжелта-зеленоватым.
Слова: “Бог услышал песню сиротиночки”.
Тоны: Важные, величественные, огромные.
Цвета: Голубой, красный и зеленый с радужным желтым и пурпуровым цветом, переходящими в светло-зеленый и бледно-желтый.
Слова: “Солнце красно из-за гор взошло”.
Тоны: Величественные басы, средние тоны, тихо отчасу возвышающиеся!
Цвета: Яркие желтые цвета, перемешанные с розовым и переходящие в зеленый и светло-желтый.
Слова: “И пустило луч на фиалочку”.
Тоны: Тихо спускающиеся низкие тоны.
Цвета: Фиолетовый, перемешанный с разными зелеными цветами.
Довольно сего, чтоб показать, что и цвета могут выражать чувства души…»
Если этот пример принадлежит, вероятно, к малоизвестным, то следующее место отведем, наоборот, одному из самых популярных: знаменитому «цветному» сонету Артюра Рембо12 «Гласные» («Voyelles»), так долго и много волновавшему умы своей схемой соответствий цветов и звуков:
А — черный; белый — Е; И — красный; У —
зеленый;
О — синий; тайну их скажу я в свой черед.
А — бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.
Е — белизна холстов, палаток и тумана,
И гордых ледников, и хрупких опахал.
И — пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.
У — трепетная рябь зеленых волн широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.
О — звонкий рев трубы пронзительный и странный.
Полеты ангелов в тиши небес пространной —
О — дивных глаз ее лиловые лучи.
(Перевод Кублицкой-Пиоттух).
По времени ему очень близки таблицы Рене Гиля13.
Но с Рембо он во многом расходится:
202 У, иу, уи (où, ou, iou, oui): от черного к рыжему.
О, ио, уа (ô, o, io, oi): красные.
А, э (â, a, ai): вермильон.
Е, иё, ёи (eû, eu, ueu, eui): от розового до бледно-золотого.
Ю, ию, юи (û, u, iu, ui): золотые.
Е, э, эй (e, è, é, ei): от белых до золотисто-лазурных.
Ие, и (ie, iè, ié, î, i): лазурные.
После того как Гельмгольц14 опубликовал данные своих опытов о соответствии тембров голосовых и инструментальных, Гиль «уточняет» свои таблицы, вводя в них еще и согласные, и тембры инструментов, и целый каталог эмоций, представлений и понятий, которые им якобы абсолютно соответствуют.
Макс Дейтчбейн в своей книге о романтизме (Max Deutschbein, «Das Wesen der Romantik», 1921) считает «синтетизацию разных областей чувств» одним из основных признаков в творчестве романтиков.
В полном соответствии с этим мы снова находим подобную таблицу соответствий гласных и цветов у А.-В. Шлегеля (1767 – 1845)15 (цитирую по книге: Henry Lanz, «The Physical basis of Rime», 1931, p. 167 – 168):
«… A — соответствует светлому, ясному красному (das rote Licht — helle A) и означает молодость, дружбу и сияние. И — отвечает небесно-голубому, символизируя любовь и искренность. О — пурпурное, Ю — фиолетовое, а У — ультрамарин».
Другой романтик более поздней эпохи — тонкий знаток Японии Лафкадио Херн16 — в своих «Японских письмах» («The Japanese Letters of Lafcadio Hearn», edited by Elizabeth Bisland, 1911) уделяет этому вопросу тоже немало внимания; хотя он и не вдается в подобные «классификации» и даже осуждает всякие попытки отхода от непосредственности в этом направлении в сторону систематизации (критика книги Саймондза «В голубом ключе», Symonds «In the Key of Blue», в письме от 14 июня 1893 г.)
Зато за четыре дня до этого он пишет своему другу Базилю Хэллу Чемберлену:
«… Вы были истинным художником в вашем последнем письме. Ваша манера музыкальными терминами описывать цвета (“глубокий бас” одного из оттенков зеленого и т. д.) привела меня в восхищение…»
А еще за несколько дней до этого он разражается по этому поводу страстной тирадой:
«… Допуская уродство в словах, вы одновременно должны признать и красоту их физиономии. Для меня слова имеют цвет, форму, характер; они имеют лица, манеру держаться, жестикуляцию; они имеют настроения и эксцентричности; они имеют оттенки, тона, индивидуальности».
203 Далее, нападая на редакции журналов, возражавшие против его стиля и манеры писать, он пишет, что, конечно, они правы, когда утверждают, что: «… читатели вовсе не так чувствуют слова, как вы это делаете. Они не обязаны знать, что вы полагаете букву А светло-розовой, а букву Е — бледно-голубой. Они не обязаны знать, что в вашем представлении созвучие КХ имеет бороду и носит тюрбан, что заглавное Икс — грек зрелого возраста, покрытый морщинками, и т. д.».
Но тут же Херн ответно обрушивается на своих критиков:
«… Оттого, что люди не могут видеть цвета слов, оттенки слов, таинственное призрачное движение слов;
оттого, что они не могут слышать шепота слов, шелеста процессий букв, звуки флейты и барабанов слов;
оттого, что они не могут воспринять нахмуренности слов, рыданий слов, ярость слов, бунт слов;
оттого, что они бесчувственны к фосфоресценции слов, мягкости и твердости слов, сухости их или сочности, смены золота, серебра, латуни и меди в словах,
должны ли мы из-за этого отказываться от попытки заставить их слушать, заставить их видеть, заставить их чувствовать слова?..» (Письмо от 5 июня 1893 г.).
В другом месте он говорит об изменчивости слов:
«Еще давно я сказал, что слова подобны маленьким ящерицам, способным менять свою окраску в зависимости от своего положения».
Такая изощренность Херна, конечно, не случайна. Частично в этом виновата его близорукость, особенно обострившая эти стороны его восприятия. В основном же здесь, конечно, повинно то, что он жил в Японии, где эта способность находить звукозрительные соответствия развита особенно тонко. (Проблеме звукозрительных соответствий в связи с звуковым кино и японской традиции в этом направлении я посвятил в 1929 году обстоятельную статью «Нежданный стык».)
Лафкадио Херн привел нас на Восток, где в системе китайских учений звукозрительные соответствия не только присутствуют, но даже точно узаконены соответствующим каноном. Здесь и они подчинены тем же принципам Ян и Инь17, которые пронизывают всю систему мировоззрения и философии Китая. Сами же соответствия строятся так:
1) Огонь — Юг — Нравы — Лето — Красный — Dschi (sol) — горький.
2) Вода — Север — Мудрость — Зима — Черный — Yü (la) — соленый.
3) Дерево — Восток — Любовь — Весна — Голубой (зеленый) — Guo (mi) — кислый.
204 4) Металл — Запад — Справедливость — Осень — Белый — Schang (re) — острый.
(Цитирую по книге «Herbst und Frühling des Lü-Bu-We», Iena, 1926, S. 463 – 464).
Еще интереснее не только соответствия отдельных звуков и цветов, но одинаковое отражение стилистических устремлений определенных «эпох» как в строе музыки, так и в строе живописи.
Интересно об этом для «эпохи джаза» пишет покойный Рене Гийере в статье «Нет больше перспективы» (René Guilleré «Il n’y a plus de perspective», «Le Cahier Bleu», № 4, 1933):
«… Прежняя эстетика покоилась на слиянии элементов. В музыке — на линии непрерывной мелодии, пронизывающей аккорды гармонии; в литературе — на соединении элементов фразы союзами и переходными словами от одного к другому; в живописи — на непрерывности лепки, которая выстраивала сочетания.
Современная эстетика строится на разъединении элементов, контрастирующих друг с другом: повтор одного и того же элемента — лишь усиление, чтобы придать больше интенсивности контрасту…»
Здесь в порядке примечания надо отметить, что повтор может в равной мере служить двум задачам.
С одной стороны, именно он может способствовать созданию органической цельности.
С другой стороны, он же может служить и средством того самого нарастания интенсивности, которую имеет в виду Гийере. За примерами ходить недалеко. Оба случая можно указать на фильмах.
Таков для первого случая повтор — «Братья!» в «Потемкине»: первый раз — на юте перед отказом стрелять; второй раз не произнесено — на слиянии берега и броненосца через ялики; третий раз — в форме «Братья!» — при отказе эскадры стрелять по броненосцу.
Для второго случая имеется пример в «Александре Невском», где вместо четырех повторяющих друг друга одинаковых тактов, полагавшихся по партитуре, я даю их двенадцать, то есть тройным повтором. Это относится к тому куску фильма, где в зажатый клин рыцарей с тылу врезается крестьянское ополчение. Эффект нарастания интенсивности получается безошибочным и неизменно разрешается вместе с музыкой — громом аплодисментов.
Но продолжим высказывания Гийере:
«… форма джаза, если всмотреться в элементы музыки и в приемы композиции, — типичное выражение этой новой эстетики…
Его основные части: синкопированная музыка, утверждение ритма. В результате этого отброшена плавная кривизна линий; 205 завитки волют18; фразы в форме локонов, характерные для манеры Массне19; медленные арабески. Ритм утверждается углом, выдающейся гранью, резкостью профиля. У него жесткая структура; он тверд; он конструктивен. Он стремится к пластичности. Джаз ищет объема звука, объема фразы. Классическая музыка выстраивалась планами (а не объемами), планами, располагавшимися этажами, планами, ложившимися друг на друга, планами горизонтальными и вертикальными, которые создавали архитектуру благородных соотношений: дворцы с террасами, колоннадами, лестницами монументальной разработки и глубокой перспективы. В джазе все выведено на первый план. Важный закон. Он одинаков и в картине, и в театральной декорации, и в фильме, и в поэме. Полный отказ от условной перспективы с ее неподвижной точкой схода, с ее сходящимися линиями.
Пишут — и в живописи и в литературе — одновременно под знаком нескольких разных перспектив. В порядке сложного синтеза, соединяющего в одной картине части, которые берут предмет снизу, с частями, которые берут его сверху.
Прежняя перспектива давала нам геометрическое представление о вещах такими, какими они видны одному идеальному глазу. Наша перспектива представляет нам предметы такими, какими мы видим их двумя глазами, на ощупь. Мы больше не строим ее под острым углом, сбегающимся на горизонте. Мы раздвигаем этот угол, распрямляем его стороны. И тащим изображение: на нас, на себя, к себе… Мы соучаствуем в нем. Поэтому мы не боимся пользовать крупные планы, как в фильме: изображать человека вне натуральных пропорций, таким, каким он нам кажется, когда он в пятидесяти сантиметрах от нашего глаза; не боимся метафоры, выскакивающей из поэмы, резкого звука тромбона, вырывающегося из оркестра, как агрессивный наскок.
В старой перспективе планы уходили кулисами, уменьшаясь вглубь — дымоходом, воронкой, чтобы раскрыть в глубине колоннаду дворца или монументальную лестницу. Подобно этому же в музыке кулисы контрабасов, виолончелей, скрипок последовательными планами, один за другим, как по уступам лестницы, уводили к террасам, откуда взору раскрывалось закатом солнца торжество медных инструментов. В литературе также раскрывалась обстановка, выстраиваемая аллеей от дерева к дереву; и человек, описываемый по всем признакам, начиная с цвета волос…
В нашей новой перспективе — никаких уступов, никаких аллей. Человек входит в среду, среда выходит через человека. Они оба — функции друг друга.
Одним словом, в нашей новой перспективе — нет больше перспективы. Объем вещей не создается больше средствами перспективы… 206 разница интенсивности, насыщенность краски создают объем. В музыке объем создается уже не удаляющимися планами: первым планом звучания и удалениями. Объем создается полнотой звучаний. Нет больше больших полотен звука, поддерживающих целое в манере театральных задников. В джазе — все объем. Нет больше аккомпанемента и голоса, подобно фигуре на фоне. Все работает. Нет больше сольного инструмента на фоне оркестра; каждый инструмент ведет свое соло, соучаствуя в целом. Нет также и импрессионистического расчленения оркестра, состоящего в том, что для первых скрипок, например, все инструменты играют ту же тему, но каждый в соседних нотах, дабы при дать большее богатство звучанию.
В джазе каждый играет для себя в общем ансамбле. Тот же закон в живописи: сам фон должен быть объемом…»
Приведенный отрывок интересует нас прежде всего как картина полного эквивалента строя музыкального и строя пластического, здесь — не только живописного, но даже архитектурного, поскольку речь идет больше всего о пространственных и объемных представлениях. Однако достаточно поставить перед собой ряд картин кубистов, чтобы одинаковость того, что происходит в этой живописи, с тем, что делается в джазе, стала такой же наглядностью.
Столь же очевидно соответствие обоих архитектурному пейзажу, классическому — для доджазовой музыки и урбанистическому — для джазовой.
Действительно, парки и террасы Версаля, римских площадей и римских вилл кажутся подобными «прообразами» строя классической музыки.
Урбанистический, особенно ночной пейзаж большого города также отчетливо звучит пластическим эквивалентом для джаза. В особенности в той основной черте, которую здесь отмечал Гийере, а именно — в отсутствии перспективы.
Перспективу и ощущение реальной глубины уничтожают ночью моря световой рекламы. Далекие и близкие, малые (на переднем плане) и большие (на заднем), вспыхивающие и угасающие, бегающие и вертящиеся, возникающие и исчезающие — они в конце концов упраздняют ощущение реального пространства и в какие-то мгновения кажутся пунктирным рисунком цветных точек или неоновых трубок, движущихся по единой поверхности черного бархата ночного неба. Так когда-то рисовались людям звезды в виде светящихся гвоздиков, вбитых в небосвод!
Однако фары мчащихся автомобилей и автобусов, отблески убегающих рельс, отсветы пятен мокрого асфальта и опрокинутые отражения в его лужах, уничтожая представления верха и низа, достраивают такой же мираж света и под ногами; и, устремляясь сквозь оба эти мира световых реклам, они заставляют их казаться 207 уже не одной плоскостью, а системой кулис, повисших в воздухе, кулис, сквозь которые мчатся световые потоки ночного уличного движения.
И было одно звездное небо вверху и одно звездное небо внизу, — как рисовался мир действующим лицам из «Страшной мести» Гоголя, плывшим по Днепру между подлинным звездным небосводом вверху и его отражением в воде.
Таково примерно живое ощущение очевидца от вида улиц Нью-Йорка в вечерние и ночные часы. Но это же ощущение можно проверить и на фантастических фотографиях ночных городов!
* * *
Однако приведенный отрывок еще более интересен тем, в какой степени он рисует соответствия музыки и живописи не только друг другу, но обоих, вместе взятых, — самому образу эпохи и образу мышления тех, кто с этой эпохой исторически связан. Разве не близка ей вся эта картина, начиная с самого «отсутствия перспективы», которое кажется отражением исторической бесперспективности буржуазного общества, достигшего в империализме высшей стадии капитализма, и вплоть до образа этого оркестра, где «каждый за себя» и каждый старается выбиться и вырваться вперед из этого неорганического целого, из этого ансамбля самостоятельно вразброд мчащихся единиц, прикованных друг к другу только железной необходимостью общего ритма?
Ведь интересно, что все черты, которые перечисляет Гийере, уже встречались на протяжении истории искусств. Но во все этапы они стремятся к единой цельности и к высшему единству. И только в эпоху торжества империализма и начала декаданса в искусствах это центростремительное движение перебрасывается в центробежное, далеко расшвыривающее в стороны все эти тенденции к единству — тенденции, несовместимые с господством всепронизывающего индивидуализма. Вспомним Ницше20:
«Чем характеризуется всякий литературный декаданс? Тем, что целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается впереди затемняет смысл страницы, страница получает жизнь не за счет целого, — целое уже не является больше целым… Целое вообще уже не живет более: оно является составным, рассчитанным, искусственным…» («Вагнер как явление», «Der Fall Wagner», стр. 28, 1888).
Основной и характерный признак именно в этом, а не в отдельных частностях. Разве египетский барельеф не обходится без линейной перспективы? Разве Дюрер21 и Леонардо да Винчи не пользуются, когда им это нужно, в одной картине несколькими перспективами и несколькими точками схода? (В «Тайной вечере» 208 Леонардо да Винчи предметы на столе имеют иную точку схода, чем комната.) А у Яна Ван-Эйка22 в портрете четы Арнольфини — целых три главных точек схода. В данном случае это, вероятно, несознательный прием, но какая особая прелесть напряжения глубины этим достигнута в картине!
Разве китайский пейзаж не отказывается от увода глаза в глубину и не распластывает угла зрения вширь, заставляя горы и водопады двигаться на нас?
Разве японский эстамп не знает сверхкрупных первых планов и выразительной диспропорции частей в сверхкрупных лицах? Могут возразить, что дело не в тенденции образцов прежних эпох к единству, а просто в… в менее решительном диапазоне приложения той или иной черты по сравнению с эпохой декаданса.
Где, например, в прошлом можно найти такую же степень симультанности, как в приведенных случаях «сложного синтеза» в изображении предметов, показанных одновременно и сверху и снизу? Смешение планов вертикальных и горизонтальных?
Однако достаточно взглянуть на планы Коломенского дворца XVII века23, чтоб убедиться, что он представляет собою проекцию и вертикальную и горизонтальную в одно и то же время!
«Симультанные» (одновременные) декорации, например декорации Якулова24 в «духе традиций кубизма», врезают друг в друга географически разобщенные места действий и интерьеры — в экстерьеры. Этим они удивляют зрителя еще в послеоктябрьский период театра («Мера за меру» Шекспира в «Показательном театре»). А между тем они имеют совершенно точные прообразы в сценической технике XVI – XVII веков. Тогда на сцене «школьных театров»25 отдельные места действия совершенно так же врезались друг в друга, являя одновременно: пустыню и дворец, пещеру отшельника и трон царя, ложе царицы, покинутую гробницу и разверстые небеса!
Больше того — прообразы имеют даже и такие «головокружительные» явления, как, например, портреты работы Ю. Анненкова26, где на щеке профильной головы режиссера Н. Петрова изображена средняя часть его же лица, повернутая… фасом!
Одна медная гравюра XVII века изображает св[ятого] Иоанна святейшего креста, глядящего искоса сверху на распятие. И тут же врезано в изображение вторично это же самое распятие, скрупулезно вырисованное в перспективном виде полусверху (с точки зрения святого!).
Но если и этого мало, то обратимся к… Эль Греко27. Вот случай, где точка зрения художника бешеным скачем носится взад и вперед, снося на один холст детали города, взятые не только с разных точек зрения, но с разных улиц, переулков, площадей!
209 При этом это делается с полным сознанием собственной правоты; настолько, что на специальной табличке, вписанной в городской пейзаж, он подробно описывает эту операцию. Вероятно, во избежание недоразумений, ибо людям, знавшим город, его картина, вероятно, могла бы показаться таким же «левачеством», как портреты Анненкова или симультанные рисунки Бурлюка28.
Дело касается общего вида города Толедо, известного под названием «Вид и план города Толедо». Написан он между 1604 – 1614 годами и находится в Толедском музее.
На нем изображен общий вид города Толедо примерно с расстояния в километр с востока. Справа изображен молодой человек с развернутым планом города в руках. На этом же плане Греко поручил своему сыну написать те самые слова, которые нас здесь интересуют:
«… Я был вынужден изобразить госпиталь Дон Хуана де Тавера маленьким, как модель; иначе он не только закрыл бы собою городские ворота де Визагра, но и купол его возвышался бы над городом. Поэтому он оказался размещенным здесь, как модель, и перевернутым на месте, ибо я предпочитаю показать лучше главный фасад, нежели другой (задний) — впрочем, из плана видно, как госпиталь расположен в отношении города…»
В чем же разница? Изменены и реальные соотношения размеров, и часть города дана в одном направлении, отдельная же деталь его — в прямо противоположном!
Вот это-то обстоятельство и заставляет меня вписать Эль Греко в число предков… киномонтажа. Если в этом случае он своеобразный предтеча… кинохроники и перемонтаж его скорее информационный, то в другом виде города Толедо, в знаменитой «Буре над Толедо» (относящейся к тем же годам), он делает не менее радикальный монтажный переворот реального пейзажа, но здесь уже под знаком того эмоционального урагана, чем так примечательна эта картина.
* * *
Однако Эль Греко возвращает нас к нашей основной теме, ибо как раз его живопись имеет своеобразный точный музыкальный эквивалент в одной разновидности испанского музыкального фольклора. Так, Эль Греко примыкает и к проблеме хромофонного монтажа, ибо этой музыки не знать он не мог, а то, что он делает в живописи, уж очень близко по духу тому, чем характерен этот так называемый «Канте Хондо» (Cante Jondo).
На это сходство и сродство обоих по духу (конечно, вне всяких кинематографических соображений!) указывают Лежандр и Гартман в предисловии к своей капитальной монографии об Эль Греко.
210 Они начинают с того, что приводят свидетельство Гизеппе Мартинеца о том, что Эль Греко часто приглашал в свой дом музыкантов. Мартинец порицает это как «излишнюю роскошь». Но надо полагать, что эта близость музыки к живописной работе не могла не сказаться на характере работы живописца, который согласно своему характеру выбирал себе и музыку.
Лежандр и Гартман прямо пишут:
«… Мы охотно верим, что Эль Греко любил “Канте Хондо”, и мы поясним, в какой мере его картины составляют в живописи эквивалент тому, чем является “Канте Хондо” в музыке!»
Дальше они цитируют характеристику напевов «Канте Хондо» по брошюре Мануэля де Фалья, вышедшей в 1922 году.
Этот автор прежде всего напоминает о трех факторах, влиявших на историю музыки в Испании: принятие испанской церковью византийского напевного строя, вторжение арабов и иммиграция цыган. И в этом сопоставлении он подчеркивает родственность «Канте Хондо» с восточными напевами.
«… В обоих случаях имеют место энгармоничность29, то есть более мелкое разделение или подразделение интервалов, чем в принятой у нас гамме; кривая мелодии не скандирована размером; мелодический напев редко выходит за пределы сексты30, но и эта секста состоит не из девяти полутонов, как в нашем темперированном строе, поскольку энгармоническая гамма значительно увеличивает количество звуков, которыми пользуется певец; использование одной и той же ноты повторяется с настойчивостью заклинания и часто сопровождается верхней или нижней апподжиатурой (appogiatura)31. Таким образом оказывается, что хотя цыганская мелодия богата орнаментальными добавлениями, как и примитивный восточный напев, однако эти усиления вступают лишь в определенные моменты, как бы акцентируя расширение или порывы чувства, вызванные эмоциональной стороной текста».
Именно таково же и само исполнение:
«… Первое, что поражает иностранца, впервые слушающего “Канте Хондо”, — это необычайная простота певца и аккомпанирующего ему гитариста. Никакой театральности и никакой искусственности. Никаких специальных костюмов: они одеты в свои обыденные одежды. Лица их бесстрастны, и подчас кажется, что всякая сознательность покинула их взоры, лишенные всякого выражения.
Но под этим покровом остывшей лавы кипит затаенный огонь. В кульминационный момент выражения чувств (тема которых была пояснена вначале несколькими малозначащими словами) внезапно из груди певца к его горлу подкатывает порыв такой силы и страсти, что кажется, вот-вот лопнут голосовые связки, и в модуляциях, протяжных и напряженных, как агония, певец изливает 211 порыв своей страсти до тех пор, покуда аудитория не может себя более сдерживать и разражается криками восторга…»
А вот Эль Греко; здесь та же картина:
«… Из монохромного окружения, где “интервалы” цвета разделены на мельчайшие тональные подразделения, где основные модуляции вьются до бесконечности, — внезапно вырываются в цвете те вспышки, те взрывы, те зигзаги, которые так шокируют бесцветные и посредственные умы. Мы слышим Канте Хондо живописи — выражение Востока и Испании; Восточного, вторгшегося в Западное…» («Domenikos Theotokopulos called El Greco» by M. Legendre and A. Hartmann, стр. 16, 26, 27, 1937).
Другие исследователи Эль Греко (Морис Баррес, Мейер-Греффе, Карер, Виллумсен и др.), никак не ссылаясь на музыку, однако все описывают почти такими же словами характер живописного эффекта полотен Эль Греко. Кому же довелось иметь счастье видеть эту живопись собственными глазами, подтвердит это живым впечатлением!
Не систематизированы, но очень любопытны подобные же явления у Римского-Корсакова (см. В. В. Ястребцев, «Мои воспоминания о Николае Александровиче Римском-Корсакове». Выпуск 1-й, стр. 104 – 105, 1917. Запись от 8 апреля 1893 года):
«В течение вечера снова зашла речь о тональностях, и Римский опять повторил, что диезные строи в нем лично вызывают представления цветов, а бемольные — ему рисуют настроения или же большую или меньшую степень тепла, что чередование cis-moll с Des-dur в сцене “Египта” из “Млады”32 для него ничуть не случайное, а, наоборот, предумышленно введенное для передачи чувства тепла, так как цвета красные всегда в нас вызывают представления о тепловых ощущениях, тогда как синие и фиолетовые носят скорее отпечаток холода и тьмы. Поэтому, быть может, — сказал Корсаков, — гениальное вступление к “Золоту Рейна” Вагнера33, именно благодаря своей странной для данного случая тональности (Es-dur) производит на меня какое-то мрачное впечатление. Я бы, например, обязательно переложил этот форшпиль в E-dur…»
Мимоходом можем здесь вспомнить живописные симфонии Уистлера34 (1834 – 1903): «Harmony in Blue and Yellow», «Nocturne in Blue and Silver», «Nocturne in Blue and Gold», «Sim-phony in White», № 1, № 2, № 3, № 4 ([«Гармония в голубом и желтом»]; «Ноктюрны: голубой с серебром и голубой с золотом»; «Симфония в белом» № 1, 2, 3, 4, 1862 – 1867).
Но звукоцветовые соотношения имеют место даже у столь мало почтенной фигуры, как Бёклин35. Макс Шлезингер («Geschichte des Symbols, ein Versuch von Max Schlesinger», S. 376) пишет:
«Для него, вечно задумывавшегося над тайной цвета, как пишет Флерке (Floerke)36, все краски обладали речью, и, наоборот, 212 все, что он воспринимал, переводилось им на язык цвета… Звук трубы был для него цвета красной киновари…»
Как видим, явление это более чем повсеместное, и, исходя из него, вполне уместно требование Новалиса.
«… Никогда не следовало бы рассматривать произведения пластических искусств вне сопровождения музыки; а музыку слушать не в обстановке соответственно декорированных залов…»
Что же касается обстоятельного «алфавита цветов», то по этому поводу нельзя, к сожалению, не присоединиться к глубоко презираемому мною пошляку Франсуа Коппе37, когда он пишет:
Тщетно весельчак Рембо
В форме требует сонетной,
Чтобы буквы И, Е, О
Флаг составили трехцветный.
Тем не менее в этом вопросе приходится разбираться, ибо вопрос о подобных абсолютных соответствиях все еще волнует умы, и даже умы американских кинематографистов. Так, несколько лет назад мне пришлось читать весьма вдумчивые соображения какого-то американского журнала о том, что звучанию пикколо38 непременно отвечает… желтый цвет!
Но пусть этот желтый (или не желтый) цвет, которым якобы звенит это пикколо, послужит нам мостиком перехода к тому, как не в отвлеченных абстракциях, а в реальном художественном творчестве художник, создавая свои образы, обращается с цветом.
Это и составит тему нашей следующей статьи.
II
В предыдущей статье о вертикальном монтаже мы подробно коснулись вопроса о поисках «абсолютных» соответствий звука и цвета. Чтобы внести ясность в этот вопрос, обследуем другой вопрос, близко с ним соприкасающийся. А именно: вопрос об «абсолютных» соответствиях между определенными эмоциями и определенными цветами.
Для разнообразия проследим эту тему не столько на рассуждениях и высказываниях по этому поводу, сколько на живой эмоционально впечатляющей деятельности художников в области цвета.
Для удобства выдержим все наши примеры в одной и той же цветовой тональности и, выбрав для этого, например, желтый цвет, распишем из этих примеров некое подобие «желтой рапсодии».
213 * * *
Начнем наши примеры с самого крайнего случая. Мы говорим о «внутреннем звучании», о «внутренней созвучности линий, форм, красок». При этом мы имеем в виду созвучность с чем-то, соответствие чему-то и в самом внутреннем звучании какой-то смысл внутреннего ощущения. Пусть смутный, но направленный в сторону чего-то в конечном счете конкретного, что стремится выразиться в красках, в цвете, в линиях и формах.
Однако существуют точки зрения, усматривающие в таком положении недостаток «свободы» ощущений. И, в противовес нашим взглядам и представлениям, они выставляют подобное беспредметно смутное «абсолютно свободное» внутреннее звучание (der innere Klang) не как путь и средство, но как самоцель, как предел достижений, как конечный результат.
В таком виде эта «свобода» — прежде всего свобода от… здравого смысла — единственная, между нами говоря, свобода, абсолютно достижимая в условиях буржуазного общества.
Продуктом разложения этого общества на высших империалистических ступенях его развития и является Кандинский39 — носитель подобного идеала и автор того произведения, отрывком из которого мы и начнем нашу «желтую рапсодию» образцов. Цитирую по сборнику «Der blaue Reiter» (Мюнхен), сыгравшему такую большую роль в вопросах теоретических и программных обоснований так называемых «левых течений» в искусстве.
«Служа как бы дополнительным цветом “Голубому всаднику” обложки сборника, эта “Сценическая композиция” (“Bühnenkomposition”) Кандинского так и названа… “Желтое звучание” (“Der gelbe Klang”).
Это “Желтое звучание” является программой сценического воплощения смутных авторских ощущений в игре красок, понятых как музыка, в игре музыки, понятой как краски, в игре людей… никак не понятых.
В смутности и неопределенности всегда в конце концов прощупывается то, что наиболее туго поддается формулировкам, — мистическое “зерно”. Здесь оно даже религиозно окрашено, завершаясь картиной (шестой): “… Голубой матовый фон…
В середине светло-желтый Великан с белым, неясным лицом и большими круглыми черными глазами…
Он медленно подымает руки вдоль туловища — ладонями книзу — и вырастает при этом вверх…
В тот момент, когда он достиг полной высоты сцены и его фигура становится похожей на крест, внезапно становится совсем 214 темно. Музыка выразительна и подобна тому, что происходит на сцене…”» (стр. 131).
Отсутствующее конкретное содержание произведения в целом передать невозможно ввиду отсутствия как конкретности, так и… содержания.
Поэтому приведем лишь несколько примеров воплощения авторских чувств игрой «желтых звучаний»:
«… Картина вторая.
Голубой туман постепенно уступает место резкому белому свету. В глубине сцены, по возможности, крупный ярко-зеленый холм, совсем круглый.
Фон — фиолетовый, довольно светлый.
Музыка резкая, бурная. Отдельные тона в конце концов поглощаются бурным звучанием оркестра. Внезапно наступает полная тишина. Пауза…
… Фон внезапно становится грязно-коричневым. Холм становится грязно-зеленым. И в самой середине холма образуется неопределенное черное пятно, которое проступает то отчетливо, то смазанно. С каждым видоизменением его блекнет яркий белый свет, переходя толчками в серый. Слева на холме внезапно появляется большой белый цветок. Издали он похож на большой изогнутый огурец и становится все ярче и ярче. Стебель цветка длинный и тонкий. Только один длинный, узкий лист растет из его середины и направлен в сторону. Длинная пауза…
Далее при полной тишине цветок начинает медленно качаться справа налево. Позже вступает и лист, но не вместе с цветком. Еще позже качаются оба, но в разных темпах. Цветок сильно вздрагивает и застывает. В музыке звучания продолжаются. В это время слева входит много людей в ярких длинных бесформенных одеждах (один совсем синий, другой — красный, третий — зеленый и т. д., отсутствует только желтый). Люди держат в руках очень большие белые цветы такой же формы, как желтый цветок… Они говорят на разные голоса и декламируют.
… Внезапно вся сцена теряет ясность очертаний, погружаясь в матовый красный цвет…
Полная темнота сменяется ярко-синим светом… … Все становится серым (все цвета исчезают!). Только желтый цветок сияет еще ярче!
Постепенно вступает оркестр и покрывает голоса. Музыка становится беспокойной, делает скачки от фортиссимо к пианиссимо…
… Цветок судорожно вздрагивает. Потом внезапно исчезает. Так же внезапно все белые цветы становятся желтыми…
… К концу цветы как бы наливаются кровью. Люди отбрасывают их далеко от себя и, тесно сгрудившись, подбегают к авансцене… Внезапно темнеет.
215 Картина третья.
В глубине: две красно-коричневые скалы; одна из них острая, другая — круглая, крупнее первой. Задник — черный. Между скалами стоят Великаны (действующие лица первой картины) и беззвучно шепчут что-то друг другу; то попарно, то сближая все головы. Тела при этом остаются неподвижными. В быстрой смене на них падают резко окрашенные лучи (синий, красный, фиолетовый, зеленый — меняются по нескольку раз). Затем все лучи встречаются на середине, смешиваются. Все неподвижно. Великанов почти не видно. Внезапно исчезают все краски. На мгновение все черно. Потом по сцене разливается бледно-желтый свет, который постепенно усиливается до тех пор, пока вся сцена становится ярко-лимонно-желтого цвета. С возрастанием интенсивности света музыка уходит вглубь и становится все темнее (это движение напоминает улитку, втягивающуюся в свою раковину).
Во время этого двойного движения на сцене не должно быть никаких предметов, ничего, кроме света…» и т. д. и т. д. (стр. 123 – 126).
Метод — показывать лишь абстрагированные «внутренние звучания», освобожденные от всякой «внешней» темы, — очевиден.
Метод этот сознательно стремится к разъединению элементов формы и содержания: упраздняется все предметное, тематическое, оставляется только то, что в нормальном произведении принадлежит крайним элементам формы. (Ср. «программные» высказывания Кандинского там же.)
Отказать подобным композициям в неясном, смутном, — в основном неопределенно беспокоящем воздействии трудно. Но… и только.
Но вот делаются попытки эти неясные и смутные цветовые ощущения поставить в какие-то, правда, тоже смутные, отдаленно смысловые соотношения.
Так поступает с подобными «внутренними звучаниями» Поль Гоген40.
В его рукописи «Choses Diverges» есть такой отрывок под заглавием «Рождение картины»:
«Манао тупапау» — «Дух мертвых бодрствует».
«… Молодая канакская девушка41 лежит на животе, открывая одну сторону лица, искаженного испугом. Она отдыхает на ложе, убранном синим “парео” и желтой простыней, написанной светлым хромом. Фиолетово-пурпуровый фон усеян цветами, похожими на электрические искры, у ложа стоит несколько странная фигура.
Я был увлечен формой и движениями; рисуя их, я не имел никакой другой заботы, как дать обнаженное тело. Это не более как этюд обнаженного тела, немного нескромный, и тем не менее 216 я хотел создать из него целомудренную картину, передающую дух канакского народа, его характер и традиции.
Канак в своей жизни интимно связан с “парео”; я им воспользовался как покрывалом постели. Простыня из материи древесной коры должна быть желтой, потому что этот цвет возбуждает у зрителей предчувствие чего-то неожиданного, потому что он создает впечатление света лампы, что избавляет меня от необходимости вводить настоящую лампу. Мне нужен фон, несколько пугающий. Фиолетовый цвет вполне подходит.
Вот музыкальная сторона картины, данная в повышенных тонах.
В этом несколько смелом положении что может делать юная канакская девушка, обнаженная, в постели? Готовиться к любви? Это вполне в ее характере, но это нескромно, и я этого не хочу. Спать? Любовное действие, значит, закончено, что опять-таки нескромно. Я вижу только страх. Но какой вид страха? Конечно, не страх Сусанны, застигнутой старцами42. Его не существует в Океании.
“Тупапау” (дух мертвых) для этого предназначен. Канакам он внушает непрестанный страх. Ночью они всегда зажигают огонь. Никто не ходит по улицам, когда нет луны; если же есть фонарь, они выходят группами.
Напав на мысль о “тупапау”, я всецело отдаюсь ему и делаю из него основной мотив картины. Мотив обнаженного тела отходит на второй план.
Что за привидение может явиться канакской девушке? Она не знает театра, не читает романов и, когда она думает о мертвеце, она в силу необходимости думает о ком-нибудь, ею уже виденном. Мое привидение может быть только маленькой старушкой. Ее рука вытянута как бы для того, чтобы схватить добычу.
Декоративное чувство побудило меня усеять фон цветами. Это цветы “тупапау”, они светятся — знак, что привидение интересуется вами. Таитянские верования.
Название “Манао тупапау” имеет два значения: “она думает о привидении” или “привидение думает о ней”.
Подытожим. Сторона музыкальная: горизонтальные волнистые линии, сочетания оранжевого с синим, соединенные с их производными, желтыми и фиолетовыми оттенками, и освещенные зеленоватыми искрами. Сторона литературная: душа живой женщины, тяготеющая к духу мертвых. Ночь и день.
Очерк происхождения картины написан для тех, кто постоянно хочет знать “почему” и “потому что”.
А иначе это просто океанский этюд обнаженного тела…»
Тут все, что нам нужно. И «музыкальная сторона картины, данная в повышенных тонах». И психологическая расценка красок: «пугающий» фиолетовый и интересующий нас желтый 217 цвет, возбуждающий в зрителе «предчувствие чего-то неожиданного».
А вот как пишет о том же желтом цвете другой художник, Ю. Бонди43, в связи с постановкой «Виновны — невиновны» Стриндберга44 в 1912 году:
«… При постановке пьесы Стриндберга была попытка ввести декорации и костюмы в непосредственное участие в действии пьесы.
Для этого нужно было, чтобы все, каждая мелочь в обстановке выражала что-нибудь (играла свою определенную роль). Во многих случаях, например, прямо пользовались способностью отдельных цветов определенно действовать на зрителя. Тогда некоторые лейтмотивы, проходившие в красках, как бы открывали (показывали) более глубокую символическую связь отдельных моментов. Так, начиная с третьей картины, постепенно вводился желтый цвет. Первый раз он появляется, когда Морис и Генриетта сидят в “Auberge des Adrets”31*; общий цвет всей картины — черный; черной материей только что завешано большое разноцветное окно; на столе стоит шандал с тремя свечами. Морис вынимает галстук и перчатки, подаренные ему Жанной. Первый раз появляется желтый цвет. Желтый цвет становится мотивом “грехопадения” Мориса (он неизбежно при этом связан с Жанной и Адольфом).
В пятой картине, когда после ухода Адольфа Морису и Генриетте становится очевидным их преступление, на сцену выносят много больших желтых цветов. В седьмой картине Морис и Генриетта сидят (измученные) в аллее Люксембургского сада. Здесь все небо ярко-желтое, и на нем силуэтами выделяются сплетенные узлы черных ветвей, скамейка и фигуры Мориса и Генриетты… Нужно заметить, что пьеса вообще была трактована в мистическом плане…»
Здесь выставляется положение о способности «отдельных цветов определенно действовать» на зрителя, связь желтого цвета с грехом, воздействие желтого цвета на психику. И говорится о мистике…
Напомним вскользь, что такими же ассоциациями, если и не обязательно «греховными», то все же роковыми и мертвящими, напоен желтый цвет, например, и у Анны Ахматовой45: «… Желтой люстры безжизненный зной…» — пишет она в «Белой стае» (1914). В таком же аспекте желтый цвет проходит и через стихотворения разных периодов, вошедшие в ее сборник 1940 года:
… Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем…
(стр. 288)
218 … Круг от лампы
желтый…
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю…
(стр. 286)
… Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть…
(стр. 249)
… От любви твоей загадочной,
Как от боли, я кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу…
(стр. 105)
Но для того чтобы сделать желтый цвет уж вовсе «страшным», приведем еще один пример.
Мало кто из писателей так остро чувствует колорит, как Гоголь.
И мало кто из писателей более поздней эпохи так остро чувствовал Гоголя, как Андрей Белый46.
И вот в своем кропотливейшем исследовании о Гоголе «Мастерство Гоголя» (1934) Белый подвергает подробному анализу и видоизменения в цветовой палитре Гоголя на протяжении всей его творческой биографии. И что же оказывается? Линия нарастания процентного содержания именно желтого цвета от жизнерадостных «Вечеров на хуторе» и «Тараса Бульбы» к зловещей катастрофе второго тома «Мертвых душ» дает самый крупный количественный скачок.
Для первой группы (названные произведения) средний процент желтого цвета всего лишь 3,5.
Во второй группе (повести и комедии) его уже 8,5 %. Третья группа (первый том «Мертвых душ») дает 10,3 %. И, наконец, второй том «Мертвых душ» дает целых 12,8 %. Близкий к желтому зеленый цвет дает соответственно: 8,6 – 7,7 – 9,6 – 21,6 %. И к концу они вместе взятые дают таким образом вообще более трети всей палитры!
С другой же стороны, сюда же можно было бы, как ни странно, причислить еще 12,8 %, выпадающих на… «золото». Ибо, как правильно пишет Белый, — «… золото второго тома — не золото сосудов, шлемов, одежд, а золото церковных крестов, подымающих тенденцию православия; “золотой” звон противостоит здесь “красному звону” казацкой славы; падением красного, ростом желтого и зеленого второй том (“Мертвых душ”) оттолкнут от спектра “Вечеров…”» (стр. 158).
Еще страшнее покажется нам «роковой» оттенок желтого цвета, если мы вспомним, что точь-в-точь та же цветовая гамма доминирует 219 и в другом трагически закатном произведении — в автопортрете Рембрандта47 шестидесяти пяти лет.
Чтобы избежать всякого обвинения в пристрастности изложения, я приведу здесь не собственное описание колорита картины, но дам его в описании Аллена из статьи его о соотношении эстетики и психологии:
«… Краски здесь темные и тупые, наиболее светлые в центре. Там сочетание грязно-зеленого с желто-серым, смешанное с бледно-коричневым; кругом все почти черное…»
Эта гамма желтого, расходящегося в грязно-зеленое и блекло-коричневое, еще оттеняется контрастом низа картины:
«… только снизу виднеются красноватые тона; тоже приглушенные и перекрытые, однако они тем не менее, благодаря плотности слоя и относительно большей цветовой интенсивности, создают отчетливо выраженный контраст ко всему остальному…»
Кстати же невозможно не вспомнить, до какой степени бездарно сделан облик старого Рембрандта в фильме Лаутона и Корда «Рембрандт»48. Верно одетому и правильно загримированному Лаутону не найдено даже отдаленного намека соответствия света к той трагической гамме, которая характерна для цветоразрешения этого портрета!
Здесь, пожалуй, еще очевиднее, что желтый цвет и, вероятно, многое из того, что ему приписывают, обязан своей характеристикой частично чертам своего непосредственного спектрального соседа — зеленого цвета. Зеленый же цвет одинаково тесно связывается как с чертами жизни — зеленые побеги листвы, листва и сама «зелень», так и с чертами смерти и увядания — плесень, тина, оттенки лица покойника.
Примеров можно было бы громоздить сколько угодно, но и этих уже достаточно для того, чтобы опасливо спросить — а нет ли и самой природе желтого цвета действительно чего-то рокового и зловещего? Не глубже ли это условной символики и подобных привычных или случайных ассоциаций?
За ответом на такой вопрос лучше всего обратиться к истории возникновения символических значений того или иного цвета и прислушаться к тому, что там будет сказано по этому поводу. Об этом можно прочесть в очень обстоятельной книжке Фредерика Порталя, написанной еще в 1837 году и переизданной в 1938 году (Frédéric Portal, «Des Couleurs symboliques dans l’Antiquité, le Moyen-age et les temps modernes», Paris, 1938).
Вот что говорит этот большой знаток данного вопроса о «символическом значении» интересующего нас желтого цвета, а главное, о происхождении той идеи вероломства, предательства и греха, которые с ним связываются.
220 «… Религиозная символика христианства обозначала золотом и желтым цветом слияние души с богом и одновременно же противоположное ему — духовную измену.
Распространенные из области религии на бытовой обиход золото и желтый цвет стали соответственно обозначать супружескую любовь и одновременно противоположное ей — адюльтер, разрывающий узы брака.
Золотое яблоко для Греции было эмблемой любви и согласия и одновременно же противоположного ему — несогласия и всех тех бед, которые оно влечет за собой.
Суд Париса49 — наглядная этому иллюстрация. Совершенно так же Атланта50, подбирающая золотое яблоко, сорванное в саду Гесперид51, побеждена на состязании по бегу и становится наградой победителя…» (Crcuzer «Réligions de l’Antiquité», т. II, p. 660)52.
Здесь интересна одна черта, свидетельствующая о действительно глубокой древности происхождения этих цветовых поверий: это амбивалентность53 придаваемых им значений. Состоит это явление в том, что на ранних стадиях развития одно и то же представление, обозначение или слово означает одновременно обе взаимно исключающие противоположности.
В нашем случае это одновременно и «союз да любовь» и «адюльтер».
На одной из лекций покойного академика Марра, которую мне довелось слушать, он приводил этому пример на корне «кон», который одновременно связан с представлением конца (кон-ец) и… начала (ис-кон-и).
То же самое в древнееврейском языке, где «Кадыш» означает одновременно и «святой», и «нечистый» и т. д. и т. д. Пример этому можно найти даже в приведенном выше отрывке из Гогена, где, как он пишет, «Манао тупапау» имеет одновременно оба значения: «она думает о привидении» и «привидение думает о ней».
Оставаясь же в кругу интересующих нас желтых и золотых представлений, можем еще отметить, что согласно тому же закону амбивалентности золото как символ высшей ценности одновременно же служит любимой метафорой для обозначения нечистот. Не только в народном обиходе Западной Европы, но и у нас: хотя бы в термине «золотарь» для людей совершенно определенной профессии.
Таким образом, мы видим, что первая, «положительная» часть чтения своим золотым или желтым блеском еще как-то непосредственно чувственно обоснована и что в нее совершенно естественно вплетаются достаточно броские ассоциации (солнце, золото, звезды).
Так, в таких именно ассоциациях пишет о желтом цвете, например, даже Пикассо54:
221 «… Есть художники, которые превращают солнце в желтое пятно, но есть и другие, которые благодаря своему искусству и мудрости превращают желтое пятно в солнце…»
И как бы от имени таких именно художников пишет в «Письмах» Ван-Гог55:
«… Вместо того чтобы точно передавать то, что я вижу перед собою, я обращаюсь с цветом произвольно. Это потому, что я прежде всего хочу добиться сильнейшей выразительности… Представь себе, что я пишу портрет знакомого художника. Допустим, что он белокурый… Сперва я его напишу таким, какой он есть, самым правдоподобным образом; но это только начало. Этим картина никак не закончена. Тут-то я только и начинаю произвольную расцветку: я преувеличиваю белокурость волос, я беру цвета — оранжевый, хром, матовый лимонно-желтый. Позади его головы вместо банальной комнатной стенки я пишу бесконечность; я делаю простой фон из самого богатого голубого тона, какой способна дать палитра. И таким образом через это простое сопоставление белокурая освещенная голова, размещенная на голубом фоне, начинает таинственно сиять подобно звезде в темной глубине эфира…»
В первом случае мажорное положительное начало желтого цвета связывает его с золотом (Пикассо), во втором случае — со звездой (Ван-Гог).
Но возьмем еще один пример желтого золота, и тоже в образе белокурых волос — на этот раз белокурых волос самого поэта.
Есенин56 пишет:
Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова…
(стр. 37)
… Вдруг толчок… и из саней прямо на сугроб я.
Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки…
Забинтованный лежу на больничной койке.
И заместо лошадей, по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.
На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.
Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой…»
(стр. 64)
… Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет…
(стр. 66)
222 Любопытно, что, несмотря на очевидный мажор золота вообще, здесь оно трижды связано с минорной темой: с тяжестью, с болезнью, с увяданием.
Впрочем, здесь это не удивительно и на этом частном случае ни с какой амбивалентностью не связано.
Для «деревенского» Есенина золото связано с ощущением увядания через непосредственный образ осени.
Любовь
хулигана
Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы…
(стр. 51)
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым…
(стр. 5)
Отсюда же, обобщаясь, желтый цвет становится цветом трупа, скелета, тлена:
Песнь
о хлебе
… Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.
(стр. 13)
Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый скелет.
(стр. 55)
… Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.
(стр. 53)
И, наконец, желтый цвет становится уже обобщенно цветом грусти вообще:
… Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть…
(стр. 37)
Никаких обобщений на все творчество Есенина в целом я никак не собираюсь из этого делать — все девять примеров взяты из одного только сборника: Есенин, «Стихи» (1920 – 1924), изд. «Круг».
223 Однако проследим далее перипетии значений желтого цвета.
И тут приходится сказать, что, несмотря на частые случаи, вроде Есенина, «отрицательное» чтение желтого цвета в основном не имеет даже таких «непосредственно чувственных» предпосылок, какими располагает «мажорное» чтение, и вырастает главным образом все же как противоположность первому.
«… Средние века, — пишет далее Порталь, — автоматически сохранили эти традиции в отношении желтого цвета…»
Но здесь интересно то, что один тон, который в древности выражал одновременно обе противоположности, здесь уже «рационализован» и переходит в различие двух оттенков, из которых каждый обозначает только одну определенную противоположность:
«… Мавры различали противоположные символы по двум различным нюансам желтого цвета. Золотисто-желтый означал “мудрый” и “доброго совета”, а блекло-желтый — предательство и обман…»
Еще интереснее толковали дело ученые раввины испанского средневековья:
«… Раввины полагали, что запрещенным плодом с древа познания добра и зла был… лимон, противопоставляющий свой бледный оттенок и едкий вкус золотому цвету и сладости апельсина — этого “золотого яблока”, согласно латинскому обозначению…»
Так или иначе, это подразделение сохраняется и дальше:
«В геральдике золото обозначает любовь, постоянство и мудрость, а желтый цвет — противоположные ему качества: непостоянство, зависть и адюльтер…»
Отсюда шел обычай во Франции марать двери предателей в желтый цвет (при Франциске I этому подвергли Карла Бурбонского57 за его предательство). Официальный костюм палача в Испании должен был состоять из двух цветов: желтого и красного, где желтый цвет обозначал предательство виновного, а красный — возмездие. И т. д. и т. д.
Вот те «мистические» основы, из которых символисты желали извлечь «извечные» значения цветов и непреложность их воздействий на психику воспринимающего человека.
И вместе с тем какая цепкость сохранения традиций в этом деле!
Именно в этом смысле его сохраняет, например, и парижское «арго» — этот бесконечно живой, остроумный, образный народный язык парижан.
Раскроем на слове «jaune» (желтый) страницу 210 одного из многочисленных словарей арго («Parisismen». Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenartigen Ausdrücke des Pariser Argot von prof. D-r Césaire Villatte, 1912).
224 «… Желтый цвет — цвет обманутых мужей. Например, выражение “жена окрашивала его с ног до головы в желтый цвет” (“Sa fémme le passait en jaune de la tête aux pieds”) означает, что жена ему изменяла. “Желтый бал” (Un bal jaune) — бал рогоносцев…».
Но мало этого. Это же обозначение предательства берется шире: «… с) Желтый — член антисоциалистического профсоюза» (там же).
Последнее встречается даже и в нашем обиходе. Мы говорим о «желтых профсоюзах» и о Втором — «желтом» — интернационале. Мы сохраняем как бы по традиции этот цвет предательства для обозначения предателей рабочего класса!
Двоюродные братья парижского «арго» — «сленг» и «кант» Англии и Америки обходятся с желтым цветом совершенно в том же смысле.
Согласно словарю 1725 г[ода] (Anew Canting Dictionary, 1725) в Англии: желтый — ревнивый (yellow — jealous).
В XVII и XVIII веках там же, в Англии, выражение: «он носит желтые штаны» или «желтые чулки» означает, что он ревнует (См. E. Partridge, «A Dictionary of Slang and Unconventional English». Lnd., 1937).
В американском сленге желтый цвет обозначает еще и трусость (yellow — coward); бояться (become yellow — be afraid); трусливо (yellow — livered — cowardly); ненадежность (yellow — streak — undependableness) и т. д.
Так излагает дело словарь «A Dictionary of American slang» by Maurice H. Weseen, 1936.
Такое же применение желтого цвета можно найти и в тексте американских сценариев.
Например, в «Трансатлантической карусели»58 («Transatlantic Merry-go-Round») Джозефа Марч и Герри Конн (фильм выпущен «Юнайтед-Артисте») разговор сыщика Мак Киннэя с Нэдом, подозреваемым в убийстве:
«… Нэд (взволнованно): Я рад, что он убит, — да — я сам думал убить его, но не убил.
Мак Кинной: Почему?
Нэд: Потому, вероятно, что я стал желтым… (Because, I was yellow, I guess)».
Наконец, и тут и там желтое обозначает фальшивое: yellow stuff — фальшивое золото (см. «Londinismen — Slang und Cant» von H. Baumann).
Там же желтым обозначается и продажность, например, в ставшем ходким повсюду обозначении «желтая пресса».
Однако, пожалуй, самое интересное в этом «символическом осмыслении» желтого цвета — это то, что, по существу, не сам даже желтый цвет, как цвет, их определял.
225 В древности, как мы только что показали, это чтение возникало как автоматический антипод солнечно мотивированному положительному «звучанию» желтого цвета.
В средние же века его отрицательная «репутация» слагалась в первую очередь из суммы «привходящих» и уже не узко цветовых признаков. «Блеклость» вместо «блеска» у арабов. «Бледность» вместо «яркости» у раввинов. И у них же в первую очередь… вкусовые ассоциации: «предательский» кислый вкус лимона в отличие от сладости апельсина!
Интересно, что в арго сохранилась и эта подробность: есть такое популярное французское выражение… «желтый смех» («Rire jaune»). Бальзак в маленькой книжечке 1846 года «Paris marié, philosophie de la vie conjugale» («Философия супружеской жизни») так называет третью главу: «Des risettes jaunes»32*. Пьер Мак Орлан59 так называет целый роман («Le Rire jaune»). Это же выражение приводит и упомянутая выше книжечка «Parisismen». Что же оно означает?
Точным соответствием ему в русском языке будет выражение: «кислая улыбка». (В немецком языке то же самое: «ein saueres Lächeln». Sauer — кислое). Интересно, что там, где француз ставит цветовое обозначение, русский и немец пользуют соответствующее ему по традиции обозначение вкусовое. Лимон испанских раввинов как бы расшифровывает эту неожиданность!
Самую же традицию разделения желтого цвета на два значения, согласно привходящим элементам, продолжает и Гете. Предметно он их связывает с разным характером фактур; психологически же — с новой парой понятий: «благородства» (edel) и «неблагородства» (unedel), в которых звучит элемент уже не только физических предпосылок, но отголоски социальных и классовых мотивов!
В «Учении о цветах» в разделе «Чувственно-нравственное действие цвета» читаем:
«… Желтый.
765. Это цвет, ближайший к свету…
766. В своей высшей чистоте он обладает всегда светлой природой и отличается ясностью, веселостью, нежной прелестью.
767. В этой степени он приятен в качестве обстановки — будет ли это платье, занавес, обои. Золото в совершенно не смешанном состоянии дает нам, особенно когда присоединяется еще и блеск, новое и высокое понятие об этом цвете; точно так же насыщенный желтый цвет, выступая на блестящем шелке, например на атласе, производит впечатление роскоши и благородства…
770. Если в своем чистом и светлом состоянии этот цвет приятен и радует нас и в своей полной силе отличается ясностью и благородством, 226 то зато он крайне чувствителен и производит весьма неприятное действие, загрязняясь или до известной степени переходя на отрицательную сторону. Так, цвет серы, впадающий в зеленый, заключает в себе что-то неприятное.
771. Так неприятное действие получается, когда желтую окраску придают нечистым и неблагородным поверхностям, как обыкновенному сукну, войлоку и т. п., где этот цвет не может появиться с полной энергией. Незначительное и незаметное движение превращает прекрасное впечатление огня и золота в ощущение гадливости, и цвет почета и радости переходит в цвет позора, отвращения и неудовольствия. Так могли возникнуть желтые шляпы несостоятельных должников, и даже так называемый цвет рогоносцев является, собственно, только грязным желтым цветом…»
Однако остановимся здесь на мгновение и вкратце добавим сюда же данные о зеленом цвете — этом ближайшем соседе желтого цвета. Здесь та же картина. И если в своем положительном чтении он вполне совпадает с тем исходным образом, который мы и предполагали выше, то в своем «зловещем» чтении он опять-таки обосновывается не непосредственными ассоциациями, а все той же амбивалентностью.
В первом чтении он символ жизни, возрождения, весны, надежды. На этом сходятся и христианские, и китайские, и мусульманские верования. Магомету, например, согласно их повериям, сопутствовали в самых серьезных моментах его жизни «ангелы в зеленых тюрбанах», и зеленое знамя становится знаменем пророка.
Соответственно этому выстраивался и ряд противоположных чтений. Цвет надежды — он одновременно отвечает и безнадежности и отчаянию; в сценических представлениях Греции темно-зеленый (морской) цвет при известных обстоятельствах имел зловещее значение.
Такой зеленый цвет соприкасается с синим. И интересно, что для японского театра, где цветовое значение «наглухо» закреплено за определенными образами, на долю зловещих фигур выпадает именно синий цвет.
В своем письме от 31 октября 1931 года Масару Кобайоши60, автор обстоятельного исследования о японских «Кумадори» — живописной росписи лиц в театре Кабуки, — мне пишет:
«… Кумадори пользует в основном красный и синий цвет. Красный — теплый и привлекательный. Синий — наоборот. Синий цвет злодеев, а у сверхъестественных существ — цвет призраков и дьяволиц…»
Но вернемся к тому, что пишет Порталь о зеленом цвете:
«… Цвет возрождения души и мудрости, он одновременно означал моральное падение и безумие.
227 Шведский теософ Сведенборг61 описывает глаза безумцев, томящихся в аду, зелеными. Один из витражей Шартрского собора62 представляет искушение Христа; на нем сатана имеет зеленую кожу и громадные зеленые глаза… Глаз в символике означает интеллект. Человек может направить его на добро или на зло. И сатана, и Минерва63 — и безумие и мудрость — оба изображались с зелеными глазами…» (стр. 132).
Таковы данные. Абстрагируя же зеленый цвет от зелени предметов или желтый от желтых, возводя зеленый цвет в «извечно зеленое» или желтый цвет в «символически желтое», символист такого рода подобен тому безумцу, о котором писал Дидро в письме к м[ада]м Воллар64:
«… Одно какое-либо физическое качество может привести ум, который им занимается, к бесчисленному количеству разнообразнейших вещей. Возьмем хотя бы цвет, для примера, желтый: золото желтого цвета, шелк желтого цвета, забота желтого цвета, желчь желтого цвета, солома желтого цвета. С каким количеством других нитей сплетена эта нить? Сумасшедший не замечает этих сплетений. Он держит в руках соломинку и кричит, что он схватил луч солнца…»
Безумец же этот — ультраформалист: он видит лишь форму полоски и желтизну цвета, он видит лишь линию и цвет. И цвету и линии как таковым, вне зависимости от конкретного содержания предмета, он придает решающее значение.
И в этом сам он подобен собственному предку древнейших времен и периода магических верований, здесь также придавалось решающее значение желтому цвету «в себе».
Исходя из этого, так, например, лечили древние индусы… желтуху:
«… основа магической операции состояла в том, чтобы прогнать желтый цвет с больного на желтые существа и предметы, к которым желтый цвет пристал, как, например, солнцу. С другой же стороны, снабдить больного красной краской, перенесенной с полнокровного здорового источника, например, красного быка…»
Соответственным образом строились и заклинания, отсылавшие «желтуху на солнце», и т. д. Такая же лечебная сила приписывалась и одной желтой разновидности галок и особенно ее громадным золотистым глазам. Считалось, что если пристально вглядеться в ее глаза и птица ответит таким же взглядом, то человек будет излечен — болезнь перейдет на птицу, «словно поток, устремившийся вместе со взглядом» (Плутарх)65. Плиний66 упоминает эту же птицу и приписывает такое же свойство еще и некоему желтому камню, схожему по цвету с цветом лица больного. А в Греции эта болезнь и посейчас называется «золотой болезнью», и ее излечению якобы помогает золотой амулет или кольцо и т. д. и т. д. (подробности об этом см. Frazer67 «The golden 228 Bough», англ[ийское] изд[ание] том I, стр. 79 – 80, в главе об имитативной магии).
Не следует впадать в ошибки ни безумца, ни индусского мага, видящих зловещую силу болезни или великую силу солнца в одном лишь золотистом цвете.
Приписывая цвету такое самостоятельное и самодовлеющее значение,
отрывая цвет от конкретного явления, которое именно и снабдило его сопутствующим комплексом представлений и ассоциаций,
ища абсолюта в соответствиях цвета и звука, цвета и эмоции,
абстрагируя конкретность цвета в систему якобы безотносительно «в себе» действующих красок, —
мы ни к чему не придем или, что еще хуже, придем к тому же, к чему пришли французские символисты второй половины XIX века, о которых писал еще Горький («Поль Верлен68 и декаденты», «Самарская газета» 1896 года, №№ 81 и 85):
«… Нужно, — сказали они, — связать с каждой буквой известное, определенное ощущение, с А — холод, с О — тоску, с У — страх и т. д.; затем окрасить эти буквы в цвета, как это уже сделал Рембо, затем придать им звуки и вообще оживить их, сделать из каждой буквы маленький живой организм. Сделав так, начать их комбинировать в слова…» и т. д.
Вред от такого метода игры на абсолютных соответствиях очевиден. (Художественно Горький пригвоздил его в другом месте, дав Климу Самгину лепетать о «лиловых словах».)
Но если пристальнее всмотреться в приведенные в предыдущей статье отрывки подобных таблиц «абсолютных» соответствий, то мы увидим, что почти неизменно сами же авторы толкуют, по существу, совсем не об декларируемых ими «абсолютных» соответствиях, а об образах, с которыми у них лично связано то или иное цветопредставление. И от этой разнородности образных представлений и проистекает то разнообразие «значений», которые одному и тому же цвету придают разные авторы.
Рембо очень решительно начинает с номенклатурной таблицы абсолютных соответствий: «А — черный, белый — Е» и т. д.
Но во второй строке сам же говорит, «… тайну их скажу я в свой черед…» И дальше действительно раскрывает «тайну», не только тайну образования собственных личных звукоцветосоответствий, но и самого принципа установления подобных соответствий у любого автора.
Каждая гласная в результате его личной жизненной и эмоциональной практики у Рембо принадлежит к определенному ряду образных комплексов, в которых присутствует и цветовое начало.
И — не просто красный цвет. Но:
«… И — пурпурная кровь, сочащаяся рана иль алые уста средь гнева и похвал…»
229 У — не просто зеленый. Но:
«… У — трепетная рябь зеленых волн широких, спокойные луга, покой морщин глубоких на трудовом челе алхимиков седых…» (Вспомним, что у Лафкадио Херна — см. выше — на долю схожей фигуры «престарелого грека в морщинах» приходится… заглавное «Икс») и т. д. и т. д.
Здесь цвет не более как раздражитель в порядке условного рефлекса, приводящий в ощущение и на память весь комплекс, в котором он когда-то соучаствовал.
Вообще же существует мнение, что «Гласные» Рембо написаны под влиянием воспоминаний о детском букваре. Такие буквари, как известно, состоят из крупных букв, рядом с которыми помещаются предметы и животные на ту же букву. Название буквы запоминается через животное или предмет. «Гласные» Рембо, вероятнее всего, созданы по этому «образу и подобию». К каждой букве Рембо подставляет такие же «картинки», с которыми для него связана та или иная буква. Картинки эти разного цвета, и определенные цвета таким образом связываются с определенными гласными.
Совершенно то же самое имеет место и у остальных авторов.
Вообще же «психологическая» интерпретация красок «как таковая» — дело весьма скользкое. Совсем же нелепой она может оказаться, если эта интерпретация еще будет претендовать на социальные «ассоциации».
Как подкупающе, например, видеть в блеклых тонах костюма французской аристократии конца XVIII века и пудреных париков «как бы» отражение «оттока живительных сил от высших слоев общества, на историческую смену которому движутся средние слои и третье сословие». Как выразительно вторит этому блекнущая гамма нежных (читай: изнеженных!) оттенков костюма аристократов! Между тем дело гораздо проще: первый толчок к этой блеклой гамме давала… пудра, осыпавшаяся с белых пудреных париков на яркие краски костюмов. Так впервые приходит на ум эта «гамма блеклых тонов». Но она тут же становится и «утилитарной» — ее тона становятся как бы защитным цветом — своеобразным «хаки», на котором осыпавшаяся пудра уже не «диссонанс», а просто… незаметна.
Красный и белый цвет достаточно давно связали свою окраску традицией антиподов (войны Алой и Белой розы)69. В дальнейшем же и с определенным направлением своих социальных устремлений (как и представление «правых» и «левых» в обстановке парламентаризма). Белыми были эмигранты и легитимисты еще с периода Французской революции. Красный цвет (любимый цвет Маркса и Золя) связан с революцией. Но даже и здесь есть моменты «временных нарушений». Так на исходе Великой французской революции 230 «выжившие» представители французской аристократии, то есть самые ярые представители реакции, заводят моду носить… красные платки и фуляры. Это тот период, когда они же носят характерную прическу, отдаленно напоминающую стрижку волос императора Тита70 и названную поэтому «à la Titus». С Титом она «генетически» ничего общего не имеет, кроме случайного внешнего сходства. А по существу является символом непримиримой контрреволюционной вендетты, ибо воспроизводит ту стрижку, открывавшую затылок, которой подвергали осужденных на гильотину аристократов. Отсюда же и красные платки, как память о тех фулярах, которые смачивали кровью «жертв гильотины», создавая своеобразные реликвии, вопившие о мести в отношении революции.
Так почти и весь остальной «спектр» красок, проходящий по моде, почти всегда связан с анекдотом, то есть с конкретным эпизодом, связывающим цвет с определенной ассоциацией идей.
Стоит вспомнить из той же предреволюционной эпохи коричневатый оттенок, входящий в моду вместе с рождением одного из последних Людовиков; оттенок, само название которого не оставляет никаких сомнений в своем происхождении: «caca Dauphin» («кака дофина»). Но известны и «Caca d’oie» («кака гуся»). Так же за себя говорит цвет «рисе» (блоха). А промчавшаяся при Марии Антуанетте мода высшей аристократии на желто-красные сочетания имеет очень мало общего с этой же гаммой у… испанского палача (как обрисовано выше). Это сочетание называлось «Cardinal sur la paille» («Кардинал на соломе») и несло смысл протеста французской аристократии по поводу заключения в Бастилию кардинала де Роган в связи с знаменитым делом об «ожерелье королевы»71.
Здесь, в подобных примерах, которые можно было бы громоздить до бесконечности, лежит в основе совершенно такая же «анекдотичность», как и в том, что заставляет большинство из приведенных выше авторов давать «особые» истолкования значениям цветов. Здесь они только более наглядны и более известны по тем анекдотам, что их породили!
Можно ли на основании всего сказанного вовсе отрицать наличие каких бы то ни было соответствий между эмоциями, тембрами, звуками и цветами? Соответствий общих, если не всему человечеству, то хотя бы отдельным группам?
Конечно, нет. Даже чисто статистически. Не говоря уже о специальной статистической литературе по этому вопросу, можно здесь сослаться на того же Горького; в уже цитированной статье, приведя сонет Рембо, он пишет:
«… Странно и непонятно, но если вспомнить, что в 1885 году по исследованию одного знаменитого окулиста 526 человек из студентов Оксфордского университета, оказалось, окрашивали 231 звуки в цвета и, наоборот, придавали цветам звуки, причем единодушно утверждали, что коричневый цвет звучит как тромбон, а зеленый — как охотничий рожок, может быть, этот сонет Рембо имеет под собой некоторую психиатрическую почву…»
Совершенно очевидно, что в чисто «психиатрическом» состоянии эти явления, конечно, будут еще более повышенны и наглядны.
В подобных же пределах то же можно сказать и о связи цветов с «определенными» эмоциями.
Еще опыты Бине72 (Alfred Binet, «Recherches sur les altérations de la conscience chez les hystériques». «Revue philosophique», 1889) установили, что впечатления, доставляемые мозгу чувственными нервами, оказывают значительное влияние на характер и силу возбуждений, передаваемых мозгом в двигательные нервы. Некоторые чувственные впечатления действуют ослабляющим или задерживающим образом на движения («угнетающе», «запрещающе»), другие, напротив, сообщают им силу, быстроту и живость — это «динамические», или «двигательные». Так как с движением или возбуждением силы всегда связано чувство удовольствия, то всякое живое существо стремится к динамическим чувственным впечатлениям и, напротив, старается обойти задерживающие и ослабляющие впечатления. Красный цвет оказывается чрезвычайно возбудительным. «Когда мы, — говорит Бине в описании опыта с истеричкой, страдающей отсутствием чувствительности половины тела, — клали в бесчувственную правую руку Эмилии К. динамометр, то рука выдавливала 12 килограммов. Стоило ей в этот момент показать красный круг, тотчас количество килограммов под бессознательным давлением удваивалось…»
«… Насколько красный цвет возбуждает к деятельности, настолько фиолетовый, наоборот, задерживает ее и ослабляет» (Ch. Féré «Sensation et mouvement». «Revue philosophique», 1886).
Это вовсе не случайность, что у некоторых народов фиолетовый цвет избран исключительно траурным… «Вид этого цвета действует угнетающе, и чувство печали, вызываемое им, согласуется с печалью подавленного духа…» и т. д. и т. д. (Цитирую по М. Нордау73, «Вырождение». Книга первая («Fin de siècle»).
Подобные же качества красному цвету приписывает и Гете. Подобные же соображения заставляют его подразделять цвета на активные и пассивные («плюс и минус»). С этим же связаны и популярные подразделения на тона «теплые» и «холодные».
Так, еще Вильям Блейк74 (1757 – 1827) в своем памфлетном обращении к римским папам послерафаэлевских эпох восклицает:
«… Нанимайте идиотов писать холодным светом и теплыми тенями…»
232 Если все эти данные, может быть, еще и далеки от того, чтобы образовать убедительный «научный свод», то чисто эмпирически искусство этим пользуется давно и достаточно безошибочно.
Даже несмотря на то, что нормальный человек реагирует на все это, конечно, менее интенсивно, чем м[ада]м Эмилия К. при виде красного цвета, — художник хорошо знает эффекты своей палитры. И не случайно, что для двигательного урагана своих «Баб» Малявин75 заливает холст разгулом ярко-красного цвета!
Очень близкое к этому пишет опять-таки Гете76. Красный цвет он делит на три разновидности: красный, красно-желтый и желто-красный. Из них желто-красному, то есть тому, что мы назвали бы… цветом «танго», он приписывает именно такие же «способности» психически воздействовать:
«… 775. Активная сторона достигает здесь высшей энергии, и не мудрено, что энергичные, здоровые, малокультурные люди находят особенное удовольствие в этом цвете. Склонность к нему обнаружена повсюду у диких народов. И когда дети, предоставленные сами себе, занимаются раскрашиванием, они не жалеют киновари и сурика.
776. Когда смотришь в упор на желто-красную поверхность, кажется, будто цвет действительно внедряется в наш орган…
Желто-красная материя вызывает у животных беспокойство и ярость. Я знал также образованных людей, которые не могли выносить, когда в пасмурный день им встречался кто-нибудь в багряном пальто…»
Что же касается непосредственно нас интересующей области соответствий звуков и чувств не только эмоциям, но и друг к другу, то мне пришлось натолкнуться на ряд любопытных данных и помимо научных или полунаучных книг.
Источник этот, может быть, и не совсем «канонический», но зато весьма непосредственный и достаточно логически убедительный. Речь идет об одном моем знакомом, тов. Ш., с которым меня в свое время познакомили покойный проф[ессор] Выготский77 и проф[ессор] Лурья78. Тов. Ш., не находя другого применения своим исключительным качествам, несколько лет работал на эстраде, поражая публику турдефорсами в области памяти. Исключительные же качества тов. Ш. состояли в том, что он, будучи абсолютно нормально развитым человеком, вместе с тем сохранил до зрелого возраста все те черты первичного чувственного мышления, которые у человечества по мере развития утрачиваются и переходят в нормально логическое мышление. Здесь на первом месте безграничная способность запоминать в силу конкретно предметного видения вокруг себя всего того, о чем говорят (в связи с развитием способности обобщать эта ранняя форма мышления при помощи накопляемых единичных фактов, хранимых в памяти, отмирает).
233 Так, он с одного раза мог запомнить какое угодно количество цифр или бессмысленно перечисленных слов. При этом он тут же мог по памяти «зачитывать» их с начала к концу; с конца к началу; через одно, два, три; по очереди снизу и сверху и т. д. При этом, встречая вас через год-полтора, он проделывал это с подобным столбцом совершенно так же безошибочно. И во всех подробностях воспроизводил не только любой имевший прежде место разговор, но и все эксперименты на память, которым его когда-либо кто подвергал (а «столбцы» иногда содержали по несколько сотен слов!). Здесь и «эйдетика», то есть способность неосмысленно, но зато автоматически точно воспроизводить рисунок любой сложности (эта способность начинает пропадать по мере того, как вырабатывается способность осмыслять соотношения в рисунке или картине и сознательно относиться к изображенным на них вещам) и т. д. и т. д. Повторяю, что в данном случае все эти черты и способности сохранились одновременно с вполне нормальными чертами вполне развитой деятельности сознания и мышления.
Тов. Ш., конечно, как никто, обладал и синэстетикой, частично образцы которой мы приводили выше и которая состоит в способности видеть звуки — цветом и слышать цвета — звуками. На эту тему мне с ним приходилось беседовать. И самое интересное, за достоверность чего, пожалуй, можно поручиться, это тот факт, что шкалу гласных он видит вовсе не цветовой, а лишь как шкалу оттенков света. Цвет же вступает только с согласными. Для меня такая картина звучит гораздо убедительнее всех тех выкладок, что мы приводили выше.
Можно сказать, что чисто физические соответствия в колебаниях звуковых и цветовых безусловно существуют.
Но столь же категорически приходится сказать и то, что с искусством все это в таком виде будет иметь весьма мало общего. Если и существует это абсолютное соответствие между цветом и тоном, а это, вероятно, именно так, то даже и тогда орудование этим «абсолютом» соотношений приводило бы наш кинематограф в лучшем случае к такому же курьезу, к какому пришел тот золотых дел мастер, которого описал Жан д’Удин:
«… Один мой знакомый золотых дел мастер, очень умный, очень образованный, но, очевидно, мало артистичный, задался целью делать во что бы то ни стало оригинально вещи: лишенный сам, вероятно, творческой изобретательности, он решил, что все природные формы красивы (что, кстати, совершенно неверно), и вот в своем творчестве он довольствуется точным воспроизведением изгибов и линий, возникающих из разных явлений природы при анализе их физическими аппаратами. Так, он берет за образец световые изгибы, получаемые на экране при помощи диапазонов, снабженных на концах зеркалами и вибрирующих в перпендикулярных друг к другу плоскостях (прибор, употребляемый в физике 234 для изучения относительной сложности музыкальных интервалов). Он копирует, например, на поясной пряжке завиток, образуемый двумя диапазонами, построенными в октаву, и, конечно, никто не убедит его в том, что хотя консонанс октавы в музыке и составляет совершенно простой аккорд, однако пряжка, им изобретенная, не вызовет в нас через посредство глаза то же впечатление, какое вызывает октава. Или сделает брошку: возьмет и вырежет в золоте тот характерный изгиб, который производят два диапазона, построенные в нону79, и совершенно уверен, что он создает в пластике нечто равнозначащее тому, что Дебюсси80 ввел в музыку…» (стр. 60 русского перевода книги Жана д’Удина «Искусство и жест» [Paris, 1910]).
В искусстве решают не абсолютные соответствия, а произвольно образные, которые диктуются образной системой того или иного произведения.
Здесь дело никогда не решается и никогда не решится непреложным каталогом цветосимволов, но эмоциональная осмысленность и действенность цвета будет возникать всегда в порядке живого становления цветообразной стороны произведения, в самом процессе формирования этого образа, в живом движении произведения в целом.
Даже в однотонном фильме один и тот же цвет — не только совершенно определенный образный «валёр»81 внутри того или иного фильма, но вместе с тем и совершенно различный в зависимости от того образного осмысления, который ему предписывала общая образная система разных фильмов.
Достаточно сличить тему белого и черного цвета в фильмах «Старое и новое» и «Александр Невский». В первом случае с черным цветом связывалось реакционное, преступное и отсталое, а с белым — радость, жизнь, новые формы хозяйствования.
Во втором случае на долю белого цвета с рыцарскими облачениями выпадали темы жестокости, злодейства, смерти (это очень удивило за границей и было отмечено иностранной прессой); черный цвет вместе с русскими войсками нес положительную тему — геройства и патриотизма.
Пример образной относительности цвета я приводил еще очень давно, разбирая вопрос относительности монтажного образа вообще:
«… Если мы имеем даже ряд монтажных кусков:
1) седой старик,
2) седая старуха,
3) белая лошадь,
4) занесенная снегом крыша,
то далеко еще не известно, работает ли этот ряд на “старость” или на “белизну”.
235 И этот ряд может продолжаться очень долю, пока наконец не попадется кусок — указатель, который сразу “окрестит” весь ряд в тот или иной “признак”.
Вот почему и рекомендуется подобный индикатор ставить как можно ближе к началу (в “правомерном” построении). Иногда это даже вынужденно приходится делать… титром…» (статья «Четвертое измерение в кино», газета «Кино», август 1929 г.).
Это значит, что не мы подчиняемся каким-то «имманентным законам» абсолютных «значений» и соотношений цветов и звуков и абсолютных соответствий между ними и определенными эмоциями, но это означает, что мы сами предписываем цветам и звукам служить тем назначениям и эмоциям, которым мы находим нужным.
Конечно, «общепринятое» чтение может послужить толчком, и даже очень эффективным, при построении цветообразной стороны драмы.
Но законом здесь будет не абсолютное соответствие «вообще», а выдержанность вещи в определенном тонально-цветовом ключе, который на протяжении вещи в целом предпишет ей образный строй всего произведения в строгом соответствии с его темой и идеей.
III
В первой статье о вертикальном монтаже мы писали о том, что звукозрительные сочетания выдвигают в вопросах монтажа необходимость разрешения совершенно новой проблемы в области композиции. Проблема эта состоит в том, чтобы найти ключ к соизмеримости между куском музыки и куском изображения; такой соизмеримости, которая позволит нам сочетать «по вертикали», то есть в одновременности, каждую фразу пробегающей музыки с каждой фазой параллельно пробегающих пластических кусков изображения — кадров; и при этом в условиях совершенно такой же строгости письма, с какой мы умеем сочетать «по горизонтали», то есть в последовательности, кусок с куском изображения в немом монтаже или фазу с фазой развертывания темы в музыке. Мы разобрались в этом вопросе с точки зрения общих положений о соответствии зрительных и слуховых явлений между собой. Мы разобрались в вопросах соответствия зрительных и слуховых явлений определенным эмоциям.
Для этого мы занялись вопросом соответствия музыки и цвета. И в этом вопросе мы пришли к тому заключению, что наличие «абсолютных» эквивалентов звука и цвета — если оно в природе существует — для произведения искусства никакой решающей роли не играет, хотя иногда и «вспомогательно» полезно.
Решающую роль здесь играет образный строй произведения, который не столько пользует существующие или несуществующие взаимные соответствия, сколько сам образно устанавливает для 236 данного произведения те соответствия, которые предписывают образному строю идея и тема данного произведения.
Сейчас мы от общих положений обратимся к конкретной методике того, каким образом выстраиваются соответствия изображения и музыки. Методика эта будет одной и той же для всех случаев: все равно, сочиняет ли композитор музыку к «вообще» заснятым кускам или к кускам, уже собранным в некий черновой или окончательный монтаж, или же, когда дело строится наоборот и режиссер выстраивает монтажный ход изображений к определенной музыке, уже написанной и записанной на фонограмме.
Нужно сказать, что в фильме «Александр Невский» присутствуют буквально все возможности в этом направлении. Есть сцены, где изображение смонтировано по заранее записанной музыкальной фонограмме. Есть сцены, где музыка написана целиком по совершенно законченному зрительному монтажу. Есть сцены любых промежуточных случаев. Есть, наконец, и почти анекдотические случаи, как, например, сцена со «свиристелками» — дудками и бубнами русских войск: я никак не мог детально объяснить С. С. Прокофьеву, чего именно в звуках я желал бы «видеть» в этой области. Тогда, озлясь, я заказал соответствующий бутафорский (беззвучный) набор инструментов, заставил актеров зрительно «разыграть» на них то, что мне хотелось; заснял это, показал Прокофьеву и… почти мгновенно получил от него точный «музыкальный эквивалент» тому зрительному образу дудочников, которых я ему показал.
Так было и со звуками рыцарских рогов. Совершенно так же в ряде случаев готовые куски музыки иногда толкали на пластически образные разрешения, ни им, ни мною заранее не предусмотренные. Многие из них настолько совпали по объединяющему их «внутреннему звучанию», что кажутся сейчас наиболее «заранее предусмотренными» (например, сцена прощания и объятий Васьки и Гаврилы Олексича, совершенно неожиданно положенная на музыку сложной темы скачущих рыцарей и т. д.).
Все это приводится здесь для того, чтобы подтвердить тот факт, что излагаемая «методика» проверена на фильме «вдоль и поперек», то есть через все возможности и оттенки.
Какова же методика установления звукозрительных сочетаний?
Наивная точка зрения в этом вопросе состоит в том, чтобы искать адекватность изобразительных элементов музыки и изображения.
Путь этот наивен, бессмысленен и неизбежно ведет к конфузам вроде тех, что описаны Петром Павленко82 в «На Востоке».
«… — Что это? — спросила она.
— Впечатление о музыке. Когда-то я пробовал свести в систему все, что слышал, понять логику музыки раньше, чем самое музыку. Мне понравился один старик, тапер в кино, бывший полковник 237 гвардии. “О чем звенят инструменты? — Это отвага”, — говорил старик. — “Почему отвага?” — спрашивал я. Он пожимал плечами. “До-мажор, ля-бемоль мажор, фа-бемоль мажор — тона твердые, решительные, благородные”, — объяснил он мне. Я стал приходить к старику до сеансов, угощал его пайковыми папиросами — я не курю лично — и спрашивал, как ее понимать, музыку.
… На бумажках от конфет он писал мне названия исполненных им произведений и их эмоциональную характеристику. Раскройте тетрадь, посмеемся вместе с вами…
… Она прочла:
“"Ходим мы к Арагве светлой", песня девушек из "Демона" Рубинштейна — грусть.
Шуман. Opus 12, № 2 — воодушевление.
Оффенбах. Баркарола из "Сказок Гофмана"83 — любовь.
Чайковский. Увертюра к "Пиковой даме" — болезнь”.
Она закрыла тетрадку.
— Я больше не могу, — сказала она. — Мне стыдно за вас.
Он покраснел, но не сдался.
— И, понимаете, я писал, писал, слушал и записывал, сравнивал, сличал. Однажды старик играл что-то великое, воодушевленное, радостное, бодрящее — и я сразу вдруг догадался, что это означает: восторг. Он кончил и бросил мне записку. Оказывается, это был “Дане макабр” Сен-Санса84 — тема страха и ужаса. И я понял три вещи: во-первых, что мой полковник ни черта не понимает в музыке, во-вторых, что он вообще глуп, как пробка…».
Определения вроде тех, что приведены в этом отрывке, не только сами по себе нелепы, но в такой направленности, то есть при узко «изобразительном» понимании музыки, неизбежно будут толкать и к наипошлейшему зрительному воплощению, если таковое понадобится:
«любовь» — обнимается пара,
«болезнь» — старушка с грелкой на животе.
Ну а если под баркаролу должна пойти серия венецианских пейзажей, а под увертюру к «Пиковой даме» — панорамы Петербурга, то как тут быть? В этом случае ни «картинка» влюбленных, ни «картинка» старушки ничего не дадут.
Но зато и сбегания и удаления, в которых могли бы здесь решаться воды венецианских пейзажей, и игра разбегающихся и сбегающихся отсветов фонарей по каналам, и все прочее, что могло бы здесь оказаться уместным, — все это оказалось бы совсем не сколками с того, что «изображено» в этой музыке, но возникало бы в ответ на ощущение внутреннего движения баркаролы.
Подобных «частных» изображений в ответ на ощущение общего внутреннего хода баркаролы может быть неисчислимое количество.
И все они будут вторить ей, и у всех в основе будет лежать одно и то же ощущение. Вплоть до гениального воплощения этой 238 же самой баркаролы у Диснея85, где оно решено… павлином с переливающимся «в музыку» контуром хвоста, павлином, глядящимся в зеркало пруда и видящим в нем точно такого же павлина с точно так же извивающимся хвостом… в перевернутом виде.
Те сбегания и удаления, волны, отблески и переливы, через которые могли решаться под эту музыку венецианские пейзажи, — сохранены и здесь в таком же соответствии с движением музыки: хвост и его отражение «сбегаются и разбегаются» в зависимости от приближения или удаления хвоста и поверхности пруда, сам хвост «вьется и переливается» и т. д.
Самое же главное здесь, конечно, в том, что все это, вместе взятое, отнюдь не противоречит… любовной «тематике» баркаролы. Но только дело лишь в том, что здесь вместо «изображения» влюбленных взята такая характерная черта поведения влюбленных, как переливающаяся смена приближений и удалений их друг к другу. При этом взята она не изобразительно, а как основа композиции, проходящая как по рисунку Диснея, так и сквозь движение музыки (о самом этом принципе композиции я писал в статье «О строении вещей»).
Кстати, совершенно так же строит свою музыку, например, Бах86, стараясь передать через доступные ей средства движения то основное движение, что характерно для темы. Бесчисленные нотные примеры этому приводит А. Швейцер в книге «И. С. Бах» (XIII глава, «Музыкальный язык Баха»), вплоть до такого курьезного случая, какой имеет место в кантате «Christus wir sollen loben schon» («Восхвалим же ныне») (№ 121): либреттист сделал в тексте намек на слова «Младенец взыграл во чреве матери своей», и вся музыка в этом месте представляет… беспрерывное конвульсивное движение!
Через узко «изобразительные» элементы музыка и изображение действительно несоизмеримы. И если можно говорить о подлинном и глубинном соответствии и соизмеримости обоих, то дело может лишь касаться соответствия основных элементов движения музыки и изображения, то есть элементов композиционных и структурных, ибо соответствия «картинок» того и другого, да и самые «картинки» музыкального «изображения» как таковые в большинстве случаев настолько индивидуальны по восприятию и настолько мало конкретны, что ни в какое методологическое строгое «упорядочение» не укладываются. Приведенный выше отрывок красноречиво об этом повествует.
И речь здесь может идти лишь о том, что действительно «соизмеримо», то есть о движении, которое лежит в основе как закона строения данного музыкального куска, так и закона строения данного изображения.
Здесь понятие о законе строения, о процессе и о ритме становления и развертывания обоих действительно дает единственно 239 твердое основание к установлению единства между тем и другим.
И это не только потому, что так понятая закономерность движения способна в равной степени «материализоваться» через специфические особенности любого искусства, но и главным образом потому, что подобный закон строения вещи есть вообще прежде всего первый шаг к воплощению темы через образ и форму произведения независимо от того, в каком бы материале эта тема ни воплощалась.
Так совершенно очевидно обстоит дело в теории. Но каков же путь к этому на практике?
На практике путь этот еще более прост и ясен.
И строится практика здесь вот на чем.
Все мы говорим, что известная музыка «прозрачна», а другая «скачущая», что третья «строгого рисунка», что четвертая «расплывчатых очертаний».
Это происходит оттого, что большинство из нас, слушая музыку, «видит» при этом перед собой некие пластические образы, смутные или явственные, предметные или абстрактные, но так или иначе какими-то своими чертами отвечающие, чем-то соответствующие по ощущению этой музыке.
Для последнего, более редкого случая, когда возникает не предметное или двигательное, но «абстрактное» представление, характерно чье-то воспоминание о Гуно87: однажды в концерте он слушал Баха и вдруг задумчиво произнес: «Я нахожу, что в этой музыке есть что-то октагональное (восьмиугольное)…»
Это утверждение прозвучит менее неожиданно, если мы вспомним, что Гуно — сын видного художника-живописца и талантливой музыкантши. Оба потока впечатлений детства были в нем так сильны, что — как он пишет в собственных мемуарах — у него были почти одинаковые шансы стать мастером пластических искусств или искусств музыкальных.
Впрочем, подобный «геометризм» и сам по себе, в конечном счете, вероятно, уж не такая исключительная редкость.
Заставляет же Толстой воображение Наташи Ростовой рисовать себе геометрической фигурой комплекс значительно более сложный — целый образ человека: Пьер Безухов рисуется Наташе «синим квадратом».
Другой же великий реалист — Диккенс — сам подчас видит облики своих героев таким же «геометрическим образом», и иногда именно через геометризм подобной фигуры раскрывает всю глубину характеристики действующего лица.
Вспомним м[исте]ра Грэдграйнда в «Тяжелых временах» — этого человека параграфов, цифр и фактов, фактов, фактов: «… Местом действия была классная комната с простым голым однообразным сводом, и квадратный палец оратора придавал вес его словам, 240 подчеркивая каждую сентенцию отметкой на рукаве школьного учителя. Упрямая поза оратора, его прямоугольное платье, прямоугольные ноги, прямоугольные плечи — все, вплоть до галстуха, обхватывающего его горло туго завязанным узлом, словно упрямый факт, который он в действительности представлял собой, все содействовало этому весу: “В этой жизни нам нужны только факты, сэр, ничего, кроме фактов…”»
Это особенно наглядно проступает в том обстоятельстве, что каждый из нас — более или менее точно и, конечно, с любыми индивидуальными оттенками — способен движением руки «изобразить» то движение, ощущение которого в нем вызывает тот или иной оттенок музыки.
Совершенно то же имеет место и в поэзии, где ритмы и размер рисуются поэту прежде всего как образы движения33*.
Лучше всего это сказано с точки зрения самочувствия самого поэта, конечно, Пушкиным в знаменитой иронической шестой строфе «Домика в Коломне»:
… Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе.
Иначе стих то в яме, то на кочке,
И хоть лежу теперь на канапе,
Все кажется мне, будто в тряском беге
По мерзлой пашне мчусь я на телеге.
И самые лучшие образцы переложения движения явления в стихи мы опять-таки найдем, конечно, у него же.
Удар волны. Русский язык не имеет слова, передающего весь рисунок кривой подъема и удара разбивающейся волны. Немецкий язык счастливее — он знает составное слово Wellenschlag — абсолютно точно передающее эту динамическую картину. Так, где-то, чуть ли не в «Трех мушкетерах», горюет Дюма-отец о том, что французский язык вынужден писать «звук воды, ударяющейся о поверхность», и не имеет для этой цели краткого и выразительного «splash» (всплеск) английского языка.
Зато вряд ли иная литература имеет образцы такого блестящего переложения динамики удара волны в движение стиха, как это сделано в трех строчках «Медного всадника».
Следуя за знаменитым:
… И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен…
оно гласит:
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
241 Лотки под
мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли…
и т. д. и т. д.
Плывут по улицам!
Народ…34*
и т. д. и т. д.
Из всего сказанного выше вытекает и простейший практический вывод для методики звукозрительных сочетаний:
нужно уметь ухватить движение данного куска музыки и нужно взять след этого движения, то есть линию или форму его, за основу той пластической композиции, которая должна соответствовать данной музыке.
Это для тех случаев, когда пластическая композиция выстраивается согласно определенной музыке (наиболее наглядно это в движениях и росчерке мизансцен балетной композиции).
Для случая же, когда перед нами ряд заснятых кадров, одинаково «равноправных»35* по месту, которое они могут занимать, но разных по композиции, то приходится из них подбирать к музыке именно те, которые окажутся соответствующими музыке по выше раскрытому признаку.
То же самое приходится делать композитору, перед которым оказывается смонтированный отрывок или смонтированная сцена: он должен ухватить монтажное движение как через систему монтажных кусков, так и во внутрикадровом движении. И… взять их за основу своих музыкально-образных построений.
Ибо движение, «жест», который лежит в основе того или другого, не есть что-то отвлеченное и не имеющее к теме никакого отношения, но есть самое обобщенное пластическое воплощение черт того образа, через который звучит тема.
«Стремящееся вверх», «распластанное», «разодранное», «стройное», «спотыкающееся», «плавно разворачивающееся», «спружиненное», «зигзагообразное» — так называется оно в самых простых абстрактных и обобщенных случаях. Но, как увидим на нашем примере, подобный росчерк может вобрать в себя не только динамическую характеристику, но и комплекс основных черт и значений, характерных для содержания образа, ищущего воплощения. 242 Иногда первичным воплощением для будущего образа окажется интонация. Но это дела не меняет, ибо интонация — это движение голоса, идущее от того же движения эмоции, которая служит важнейшим фактором обрисовки образа.
Именно поэтому так легко бывает жестом изобразить интонацию, как и самое движение музыки, в основе которой в равной мере лежат голосовая интонация, жест и движение создающего ее человека. Подробнее по этому вопросу — в другом месте88.
Здесь же остается оговорить разве только тот еще факт, что чистая линейность, то есть узко «графический» росчерк композиции, есть лишь одно из многих средств закрепления характера движения.
«Линия» эта, то есть путь движения, в разных условиях, в разных произведениях пластических искусств может выстраиваться и не только чисто линейным путем.
Движение это может выстраиваться с таким же успехом, например, путем переходов сквозь оттенки светообразного или цветообразного строя картины или раскрываться последовательностью игры объемов и пространств.
Для Рембрандта такой «линией движения» было бы движение сменяющейся плотности мерцающей светотени.
Делакруа89 ощущал бы ее в скольжении глаза по нагромождающимся объемам формы. Ведь именно в его «Дневниках» мы находим заметки о набросках Леонардо да Винчи, которыми он восторгается, находя в них возрождение того, что он называет «le système antique du dessin par boules» — «рисунок посредством “шаров” (объемов) — у древних».
Это же заставляет близкого к теориям Делакруа Бальзака утверждать устами живописцев его романов (например, Френхофера), что человеческое тело отнюдь «не замыкается линиями» и что, строго говоря, «нет линий в природе, где все наполнено» («Il n’y a pas de lignes dans la nature où tout est plein»).
Здесь можно было бы им противопоставить яростные филиппики90 энтузиаста «контура» Вильяма Блейка (William Blake, 1757 – 1827) с его патетическим возгласом: «О Линия Абриса! — Мудрая мать!» («O dear Mother Outline! О wisdom most sage!») и ожесточенной полемикой против сэра Джошуа Рейнольдса91, недостаточно уважавшего требования строгости очертаний.
При всем этом совершенно очевидно, что спор здесь идет вовсе не о самом факте движения внутри самого произведения, а лишь о тех средствах воплощения этого движения, которые характерны для разных художников.
У Дюрера подобное движение могло бы идти через чередование математически точных формул пропорций его фигур.
Совершенно так же как, скажем, у Микеланджело92 ритм его произведений набегал бы в динамической лепке извивающихся и 243 нарастающих нагромождений мускулатур, вторящих не только движениям и положениям изображенных фигур, но прежде всего бегу пламенной эмоции художника36* 93.
У Пиранези94 не менее темпераментный бег прочерчивался бы линией устремлений и смены… «контробъемов» — проломов арок и сводов его «Темниц», сплетающих свою линию бега с линией бега бесконечных лестниц, рассекающих линейной фугой это нагромождение фуги пространственной.
Ван-Гог воплощает то же самое в бешеном линейном изгибе… бегущего мазка, как бы сплавляя этим в единстве бег линии с красочным взрывом цвета. Здесь он делал по-своему то же самое, что в ином индивидуальном аспекте выражения имел в виду Сезанн95, когда писал: «Le dessin et la couleur ne sont pas distincts» («Рисунок и цвет неотделимы друг от друга») и т. д. и т. д.
Мало того, и любой «передвижник» знает подобную «линию». У него эта линия выстраивается не пластическими элементами, а… чисто «игровыми» и сюжетными. Так сделан, например, какой-нибудь «Крах банка». Так же сделан и «Никита Пустосвят»96.
При этом следует иметь в виду, что для кино подыскивание «соответствий» между изображением и музыкой отнюдь не останавливается на любой из этих «линий» или на сочетании нескольких из них. Помимо этих общих элементов формы тот же закон управляет и подбором самих людей, обликов, предметов, поступков, действий и целых эпизодов из всех одинаково возможных в условиях данной ситуации.
Так, в немом еще кинематографе мы говорили об «оркестровке» типажных лиц (например, нарастание «линии» скорби, данное через крупные планы в «трауре по Вакулинчуку», и т. д.)
Так, в звуковом возникает, например, упомянутое выше «игровое действие» — прощальное объятие Васьки и Гаврилы Олексича именно в этом месте музыки; а, скажем, крупные планы рыцарских шлемов не позволяют себе показаться раньше того места атаки, куда они врезаны, ибо только к этому месту начинает звучать в музыке то, что общими и средними планами атаки уже невыразимо и что требует ритмических ударов, скачущих крупных планов и т. д.
Вместе со всем этим нельзя отрицать и того, что наиболее броским и непосредственным, раньше всего бросающимся в глаза, конечно, будет случай совпадения движения музыки именно с движением графическим, контурным, с графической композицией 244 кадра, ибо контур — абрис — линия есть как бы наиболее отчетливый выразитель самой идеи движении.
Но обратимся к самому предмету нашего анализа и на одном фрагменте из фильма «Александр Невский» попытаемся показать, каким образом и почему определенный ряд кадров в определенной последовательности и в определенных длительностях именно так, а не иначе был связан с определенным куском музыки.
И раскроем на этом случае «секрет» тех последовательных вертикальных соответствий, которые шаг за шагом связывают музыку с кадром через посредство одинакового жеста, который лежит в основе движения как музыки, так и изображения.
Случай этот любопытен тем, что здесь музыка была написана к совершенно законченному пластическому монтажу. Пластическое движение темы здесь до конца уловлено композитором в такой же степени, как музыкальное движение было уловлено режиссером в следующей сцене атаки, где куски изображения «нанизаны» на заранее написанную музыку.
Метод установления органической связи через движение остается одним и тем же в обоих случаях, а потому методологически совершенно безразлично, с какого бы конца ни начинался самый процесс установления звукозрительных сочетаний.
* * *
Наиболее цельного слияния звукозрительная сторона «Александра Невского» достигает в сценах «Ледового побоища», а именно — в «атаке рыцарей» и в «рыцарском каре». Это во многом определяет и то, что из всех сцен «Александра Невского» атака оказалась одной из наиболее впечатляющих и запоминающихся. Метод звукозрительного сочетания один и тот же сквозь любые сцены фильма. Поэтому для разбора мы поищем такую сцену, которую легче всего запечатлеть на печатной странице, то есть такую, где целый комплекс разрешен неподвижными кадрами, то есть такими, которые наиболее удобно поддаются репродукции. Такой кусок легко найти. К тому же по закономерности письма он оказывается одним из наиболее строгих.
Это двенадцать кадров того «рассвета, полного тревожного ожидания», который предшествует началу атаки и боя после ночи, полной тревог, накануне «Ледового побоища». Сюжетная нагрузка этих двенадцати кусков одна: Александр на Вороньем камне и русское воинство у подножия его, на берегу замерзшего Чудского озера, вглядываются в даль и ждут наступления врага.
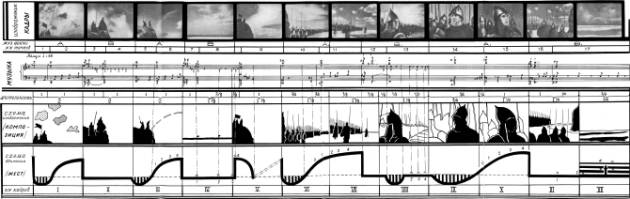
Столбики, изображенные на схеме (см. вкладку), дают последовательность кадров и музыку, через которую выражена данная ситуация. Кадров — 12; тактов музыки — 17. (Расположение изображений и тактов в таком именно соразмещении станет ясным 245 в процессе разбора: он связан с главными внутренними членениями музыки и изображений.)
Представим себе, что перед нами проходят эти 12 кадров и 17 тактов музыки, и постараемся в порядке живого впечатления вспомнить из пробегающих перед нами звукозрительных сочетаний те из них, которые наиболее сильно приковали наше внимание.
Первым и наиболее впечатляющим куском оказывается кусок III в сочетании с куском IV. Здесь надо иметь в виду не впечатление от фотографий как таковых, а то звукозрительное впечатление, которое получается в сочетании этих двух кусков с соответствующей музыкой при движении ленты по экрану. В музыке этим двум кадрам — III и IV — соответствуют такты 5, 6 и 7, 8.
Что именно это первая, наиболее впечатляющая звукозрительная группа, легко проверить, сыграв «под эти два кадра» соответствующие четыре такт музыки. Это же подтверждается при разборе данного отрывка на аудитории, например на студенческой аудитории Государственного института кинематографии, где я разбирал данную сцену.
Возьмем эти четыре такта и попробуем прочертить рукой в воздухе ту линию движения, которая нам диктует движение музыки.
Первый аккорд воспринимается как некоторая «отправная площадка».
Следующие же за ним пять четвертей, идущие гаммой вверх, естественно, прочертятся уступами напряженно подымающейся линии. Поэтому изобразим ее не просто стремящейся вверх линией, но линией чуть-чуть дугообразной.
Зарисуем это на рис. 1 (ав).
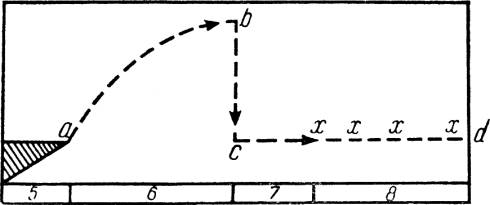
Рис. 1
Следующий аккорд (начало такта 5) с предшествующей, резко акцентируемой шестнадцатой в данных условиях произведет на всякого впечатление резкого падения bc37*. Следующий ряд одной ноты, четыре раза повторяемой через паузы осьмушками, естественно, прочертится некоторой горизонтальной линией, на которой сами осьмушки обрисуются акцентированными точками c — d.
Зарисуем и это (см. рис. 1; bc и cd) и расположим эту схему движения музыки abcd над соответствующей строчкой клавира.
246 Теперь изобразим схему движения глаза по главным линиям тех двух кадров III и IV, которые «отвечают» этой музыке.
Повторим ее движением руки. Это даст нам следующий рисунок, который явится жестом, выразившим то движение, которое закрепилось в этих двух кадрах через линейную композицию. Вот эта схема:
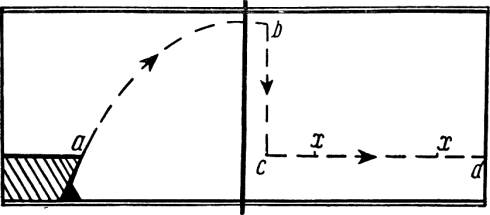
Рис. 2
От A к b идет нарастание «сводом» вверх: этот свод прочерчивается очертанием темных облаков, нависших над более светлой нижней частью неба.
От b к c — резкое падение глаза вниз: от верхнего края кадра III почти до нижнего края IV — максимум возможного падения глаза по вертикали.
От c к d — ровное горизонтальное — не повышающееся и не понижающееся движение, дважды прерываемое точками флагов, выдающихся над горизонтальным контуром войск.
Теперь сличим обе схемы между собой. И что же оказывается? Обе схемы движения абсолютно совпадают, то есть имеет место тот факт, что совпадают движение музыки и движение глаза по линиям пластической композиции.
Другими словами, один и тот же, общий для обоих жест лежит в основе как музыкального построения, так и пластического.
Думаю, что жест этот, кроме того, правильно найден и в соответствии с движением эмоциональным. Восходящий тремолирующий ход виолончелей гаммой C-moll здесь отчетливо вторит как нарастанию напряжения волнения, так и нарастанию всматривания. Аккорд как бы дает оторваться от этого. Ряд осьмушек чертит как бы неподвижную горизонталь войск: чувство войска, разлившегося по всему фронту; чувство, которое через один такт V снова начинает нарастать в такое же напряжение VI и т. д.
Интересно, что IV, отвечающий тактам 7 и 8, имеет два флажка, а музыка — четыре осьмушки. Глаз как бы дважды проходит по двум флажкам, и фронт кажется вдвое шире того, что видно в кадре. Идя слева направо, глаз «отстукивает» осьмушки флажками, и две из них уводят ощущение за кадр вправо, где воображению рисуется продолжение линии фронта войск.
Теперь совершенно ясно, почему именно эти два куска приковывают внимание в первую очередь. Пластические элементы движения и движение музыки здесь совпадают целиком, и при этом с предельной степенью наглядности.
247 Пойдем, однако, дальше и постараемся уловить, что приковывает внимание — «во вторую очередь». Вторичный «прогон» кусков перед нами задержит наше внимание на кусках I, VI – VII, IX – X.
Если мы всмотримся в музыку этих кусков, то увидим, что по структуре она одинакова с музыкой кадра III. (Вообще же вся музыка данной сцены состоит из двух чередующихся двухтактных фраз A и B, определенным образом сменяющих друг друга. Отличие будет состоять здесь лишь в том, что, принадлежа структурно к одной и той же фразе А, они различны тонально: I и III одной тональности (c-moll), а VI – VII и IX – X другой тональности (cis-moll). Сюжетный смысл этого сдвига в тональности будет указан ниже в разборе куска V.)
Таким образом, и для кадров I, VI – VII и IX – X музыка будет иметь ту же схему движения, что и для кадра III (см. рис. 1).
Но взглянем на самые кадры. Находим ли мы в них снова ту же самую схему линейной композиции, которая «спаяла» через одно и то же движение кадры III и IV с их музыкой (такты 5, 6, 7, 8)?
Нет.
А вместе с тем ощущение звукозрительного единства здесь совершенно так же сильно.
В чем же дело?
А дело в том, что приведенная схема движения может быть выражена не только через линию abc, но и через любые иные средства пластического выражения. Мы об этом говорили в вводной части, и именно с таким-то случаем мы здесь и имеем дело.
Проследим это через все три новых случая I, VI – VII, IX – X.
I. Полного ощущения куска I фотография передать не может, ибо этот кадр возникает из затемнения: сперва проступает слева темная группа со знаменем, затем постепенно проясняется небо, на котором видны темные пятна отдельных облачных клочьев.
Как видим, движение внутри куска совершенно идентично тому же движению, что мы прочертили для куска III. Разница здесь лишь в том, что это движение не линейное, а движение постепенного просветления куска, то есть движение нарастающей степени освещенности.
Согласно этому та «отправная площадка» а, отвечавшая там начальному аккорду, здесь оказывается темнейшим пятном, по временам проступающим в первую очередь, и той «подошвой» темноты, «ватерлинией» темноты, от которой начинается «отсчет» постепенного просветления кадров. «Сводчатость» здесь сложится как цепочка последовательности кадриков, из которых каждый следующий будет светлее предыдущего. Сводчатость отразится в кривой постепенного просветления куска. Отдельные же уступы — фазы просветления — отметятся здесь последовательным появлением облачных пятен. По мере выхода из затемнения всего кадра 248 из них проступит в первую очередь наиболее темное пятно (центральное). Затем — более светлое (верхнее). Затем переходные к общему светлому тону неба — темные «барашки» справа и слева вверху.
Мы видим, что и здесь даже в деталях соблюдена та же самая кривая движения, но не по контуру пластической композиции, а по «линии…» тонально-световой.
Таким образом, мы можем сказать, что кусок I вторит тому же основному жесту, но в данном случае — тоном, тонально.
II. Рассмотрим следующую пару кусков VI – VII. Мы берем их парой, ибо если фраза A в куске I целиком (обоими своими тактами) ложится на одно изображение, то здесь на фразу A1 (равную A в новой тональности) приходится почти полных два изображения VI и VII. (См. общую таблицу соответствия изображений и тактов.)
Проверим их по ощущению музыки.
В кадре VI слева стоят четыре воина с поднятыми копьями и щитами. За ними слева виднеется край контура скалы. Дальше вдаль, вправо уходят ряды войск.
Не знаю, как у других, но субъективно на меня первый аккорд такта 10 здесь всегда производит впечатление грузной массы звука, как бы сползшей по линиям копий сверху вниз (см. схему на рис. 3).
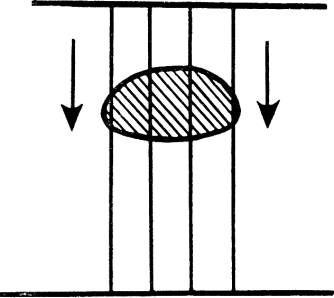
Рис. 3
(Из-за этого именно ощущения я именно этот кусок именно в этом месте в монтаже и ставлю.)
За этой группой четырех копьеносцев расположилась линия войск, уступами уходящих вправо, вглубь. Самым крупным «уступом» будет переход от всего кадра VI в целом к… кадру VII, который продолжает линию войск в том же направлении дальше вглубь. Воины
даны немного крупнее, но общее движение уступами вглубь продолжает это же движение из кадра VI. Мало того, здесь имеется еще один очень резкий уступ: кусок белой полосы вовсе пустого горизонта в правой части кадра VII. Этот кусок обрывает цепь войск и продолжает движение уже в новую область — на линию горизонта, по которой небеса соприкасаются с поверхностью Чудского озера.
Изобразим схематически это основное движение уступами через оба кадра.
249 Здесь войска расположатся как бы кулисами 1, 2, 3, 4 вглубь, начиная с четырех фигур, работающих как отправная плоскость, совпадающая с плоскостью экрана, откуда начинается движение вглубь. Если мы теперь себе вообразим линию, объединяющую эти кулисы, то мы получим некоторую кривую а, 1, 2, 3, 4. Что же это за кривая? Всмотревшись в нее, мы увидим, что она окажется все той же самой кривой нашего «свода», но на этот раз расположенной не по вертикальной плоскости кадра, как в случае III, но разместившейся горизонтально перспективно в глубь кадра.
Эта кривая имеет совершенно такую же (здесь тоже кулисную) отправную плоскость а из четырех рядом стоящих фигур. Кроме того, отсечка фаз, помимо менее четко заметных границ кулис, прочерчивается четырьмя вертикалями: тремя фигурами воинов в кадре VII (x, y, z) и… линией, отделяющей кадр VI от кадра VII.
Что же в музыке приходится на отрезок горизонта?
И тут надо обратить внимание на то обстоятельство, что музыки фразы А1 на всю длину кусков VI и VII не хватает и что в куске VII уже вступает начало музыкальной фразы В1 — точно: три четверти такта 12.
Что же это за три четверти такта?
А это как раз тот же аккорд с предшествующей резко акцентируемой шестнадцатой, который для случая кадра III соответствовал ощущению резкого падения по вертикали вниз при переходе из кадра III в кадр IV.
Там все движение размещалось по вертикальной плоскости, и резкий разрыв в музыке читался там как падение (от верхней правой точки кадра III к нижней левой точке кадра IV). Здесь все движение размещается по горизонтали — в глубь кадра. И в качестве пластического эквивалента этому же резкому разрыву в музыке в здешних условиях следует предположить аналогичный резкий толчок, но не сверху вниз, а… перспективно — вглубь. Именно таким, толчком и является «скачок» в кадре VII от линии войск до… линии, горизонта. Таким образом, это опять-таки «максимум разрыва», ибо для пейзажа горизонт и есть предел глубины!
Таким образом, мы вполне обоснованно можем считать, что зрительным эквивалентом музыкальному «скачку» между тактом 11 и тремя первыми четвертями такта 12 и будет этот отрезок горизонта в правой части кадра VII.
Можно добавить, что чисто психологически звукозрительное сочетание вполне передает именно такое ощущение людей, чье внимание переброшено далеко за горизонт, откуда они ждут наступления врага.
Таким образом, мы видим, что структурно одинаковые куски музыки — эффект «скачка» в начале такта 7 и такта 12 — пластически 250 в обоих случаях разрешаются совершенно аналогично через пластический разрыв.
Но в одном случае — это разрыв по вертикали и на переходе из кадра в кадр III – IV. А во втором случае — по горизонтали и внутри кадра VII в точке М (см. рис. 4).
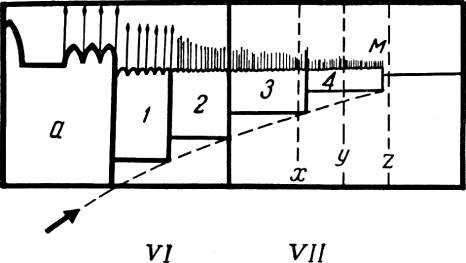
Рис. 4
Но этого мало. В случае III у нас наша линия «свода» размещалась на плоскости. В случае же VI и VII она размещалась перспективно вглубь, то есть пространственно. Ведь по этой линии разместилась система кулис, развертывающая вглубь само пространство, которое, нарастая от плоскости экрана (кулиса а) в глубь экранного пространства, вторит нарастающей вверх гамме звуков.
Таким образом, в случае VI – VII мы можем отметить еще один вид соответствия музыки и изображения, решаемых все через ту же схему, через тот же жест. На этот раз — соответствие пространственное.
Зачертим, однако, в общей схеме этот новый вариант соответствия движений музыки и изображения. Для полноты картины докончим в музыке фразу В (прибавив остальные один с четвертью такта). Это даст нам в музыке полный повтор группы III – IV. Но по линии изображения это вынудит нас добавить кадр VIII, конец которого совпадает с концом такта 13, то есть с концом фразы В1.
Заодно вглядимся в этот кадр VIII.
Пластически он рассечен как бы на три части. На первый план внимания внушительно выдвигается впервые за все восемь кусков появляющийся крупный план (Василиса в шлеме). Он занимает лишь часть кадра, оставляя другую его часть фронту войск, размещенных в таком же характере, как и в предыдущих кусках. Этот кадр VIII служит как бы переходным. С одной стороны, он пластически завершает мотив VI – VII. (Не забудем, что вместе с удалением 251 вглубь кусок VII по размеру является укрупнением в отношении предыдущего куска VI, дающим возможность в куске VIII перейти на крупный план.) Органическую связность этих трех кусков VI, VII и VIII между собой как единого целого доказывает и то, что они музыкально окованы фразой A1 — B1. Это видно из того, что крайние границы этих четырех тактов 10, 11, 12, 13 совпадают с концами кусков VI и VIII, тогда как внутри их ни граница между тактами 10 и 11 не совпадает с пластическим членением, ни граница между кусками изображения VII и VIII не совпадает с членением на такты 11 и 12. (См. схему трех кадров и соответствующей музыки.)
В куске VIII заканчивается фраза средних планов войска, идущая через куски VI, VII, VIII, и начинается фраза крупных планов VIII – IX – X.
Совершенно так же через три куска I – II – III шла фраза князя на скале, после чего начиналась фраза общих планов войск у подножья скалы. В фразу о войсках она переходила не через скрещивание в одном кадре, а приемом скрещивания через монтаж.
После куска III вступал кусок следующей фразы «войско», данное общим планом IV, после чего снова появлялся «князь на скале», тоже данный общим планом V.
Этот существенный переход от «князя» к «войскам» отмечен и существенным сдвигом в музыке — переходом из тональности в тональность (C-moll в Cis-moll).
Менее кардинальный переход не от темы (князь) к теме (войско), а внутри одной и той же темы — от средних планов войска к крупным — решается не монтажным переплетом III – IV – V – VI, а внутри куска VIII (оборотная сторона вкладки).
вкладка

Здесь он разрешается средствами двупланной композиции, новая тема (крупные планы) выходит на передний план, а угасающая тема (общая линия фронта) отодвигается на задний. Можно, кроме того, отметить, что «угасание» предыдущей темы здесь выражено еще и бесфокусной съемкой фронта, работающего как фон крупного плана Василисы.
Сам же крупный план Василисы вводит крупные планы — планы Игната и Савки — IX, X, которые вместе с последними двумя кусками XI, XII дадут очередное новое пластическое чтение все той же нашей схеме жеста.
Но об этом дальше.
Сейчас разберем кусок VIII с тем, чтобы можно было зачертить нужную нам схему трех кусков VI – VII – VIII.
Кадр VIII явственно состоит из трех частей.
На первом плане — крупное лицо Василисы. Справа в кадре длинный ряд бесфокусного войска с поблескивающими из бесфокусности шлемами. Слева коротенький отрезок фронта со знаменем, отделяющий голову Василисы от левого края кадра.
252 Взглянем теперь на то, что мы соответственно имеем в музыке На это изображение приходится один такт с четвертью — последняя четверть такта 12 и весь такт 13. В этом отрезке музыки совершенно отчетливо имеются три элемента, из которых на первый план проступает средняя часть — аккорд в начале такта 13. Этот аккорд отчетливо сливается с «ударом» впечатления, который производит здесь первое появление крупного плана.
С середины же такта идут четыре осьмушки, прерываемые паузами. И как когда-то этому не повышающемуся горизонтальному ходу вторили в куске IV флажки, так здесь звездочками вторят… блики, играющие на шлемах войска.
Без «соответствий» как будто остается левый край. Но… мы забыли о восьмушке, оставшейся от предыдущего такта 12, которая «слева» предшествует начальному аккорду такта 13: именно она и «отвечает» этому кусочку пространства слева от головы Василисы.
На основании всего сказанного кусок VIII и соответствующий ему ход музыки мы можем изобразить следующим образом (рис. 5).
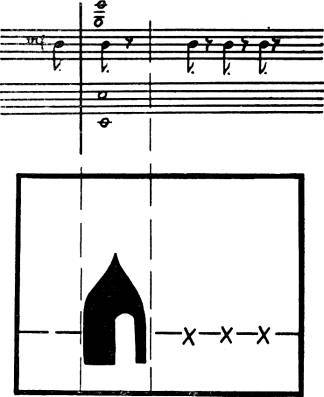
Рис. 5
В этом месте совершенно естественно встает вопрос: Позвольте! Как вы можете уравнивать строчку музыки с картинкой изображения? Ведь левая сторона одной и левая сторона другой — означают совершенно разные вещи.
Неподвижная картинка существует пространственно, то есть в единовремении, и левая или правая ее сторона или центр не имеют характера последовательности события во времени. Между тем на нотной линейке мы имеем именно ход времени. Там левая сторона означает «раньше», а правая сторона — «позже».
Все наши рассуждения имели бы силу, если бы в кадре отдельные элементы появлялись бы последовательно, то есть по схеме на рис. 6.
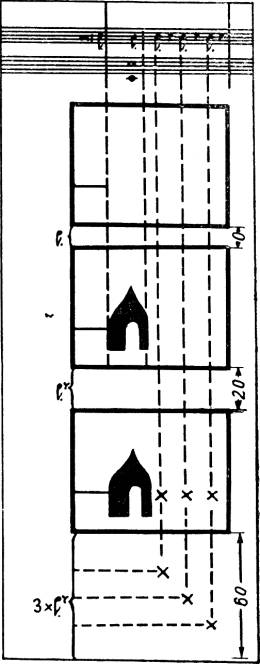
Рис. 6
На первый взгляд это возражение звучит вполне резонно и обоснованно.
Но здесь упущено одно чрезвычайно важное обстоятельство, а именно то, что неподвижное целое картины отнюдь не сразу и не 253 всеми своими частями одновременно входит в восприятие зрителя (за исключением тех случаев, когда композиция рассчитана именно на такой эффект).
Искусство пластической композиции в том и состоит, чтобы вести внимание зрителя тем именно путем, с той именно последовательностью, которые автор предпишет глазу зрителя двигаться по полотну картины (или по плоскости экрана, если мы имеем дело с изображением кадра).
Интересно отметить, что на более ранней стадии живописи, когда понятие «пути глаза» еще трудно отделимо от физического образа… дороги, в картины так и вводится… предметное изображение дороги, по которой распределяются события согласно желаемой последовательности восприятия. Там это прежде всего касается последовательности разных сцен, как известно, в те периоды изображавшихся на одной картине, несмотря на то, что они происходят в разное время. Сцены, которые зритель должен видеть в желаемой последовательности, располагаются в определенных точках подобной дороги. Так, например, у Дирка Боутса97 в картине «Сон Ильи в пустыне» на первом плане спит Илья, а в глубине вьется дорога, на которой изображен тот же Илья, продолжающий по ней свой путь. В «Поклонении пастухов» Доменико Гирландайо98 на первом плане сама сцена вокруг младенца, из глубины же вьется к первому плану дорога, по которой движутся волхвы: таким образом, дорога связывает события, разделенные по сюжету на целых тринадцать дней (24 декабря – 6 января)!
Совершенно так же Мемлинг99 свои
семь дней страстной седьмицы размещает по улицам города. В дальнейшем, когда подобные скачки во времени уходят с плоскости одной картины, исчезает и физически изображаемая дорога как одно из средств предначертания пути последовательного разглядывания картины.
Дорога переходит в путь глаза, переходя из области изобразительной в область композиции.
254 Классическим примером в этом отношении остается «Явление-Христа народу» А. Иванова, где композиция идет по сворачивающейся кривой, имеющей своей точкой схода самую маленькую по размеру и самую важную по теме фигуру — фигуру приближающегося Христа. Эта кривая нужным для художника образом ведет внимание зрителя по поверхности картины именно к этой фигурке в глубине.
Средства здесь бывают самые разнообразные, хотя для всех характерно одно: в картине есть обычно нечто, что в первую очередь приковывает внимание, которое затем отсюда движется по тому пути, который желателен художнику. Этот путь может быть прочерчен либо линией движения графической композиции, либо как путь градации тонов, либо даже группировкой и «игрою» персонажей картины (например, классический случай расшифровки игры фигур в этом именно плане сделан Роденом для «Отправки на остров Цитеры» Ватто, — см. книгу Поля Гзелля о Родене)100.
Имеем ли мы право говорить о наших кадрах, что в них тоже есть такое же, определенным образом установленное движение глаза?

Рис. 7 Рис. 8
Мы не только можем на это ответить утвердительно, но еще и добавить, что движение это именно идет слева направо, при этом совершенно одинаково для всех двенадцати кадров, и по характеру своему в полном соответствии с характером движения в музыке.
Действительно, в музыке мы имеем на протяжении всего отрезка чередование двух типов фраз: А и Б.
А построено по типу рис. 7.
Б построено по типу рис. 8.
Сперва аккорд, и затем на фоне его звучания либо «сводом» идущий подъем гаммы38*, либо горизонтально движущаяся повторяемость одной и той же ноты.
255 Совершенно так же пластически строятся все кадры (кроме IV и XII, которые работают не как самостоятельные кадры, а как продолжение движений предыдущих).
Действительно, у них у всех в левой части кадра — наиболее темное, плотное, тяжелое, сразу же приковывающее внимание подобие тяжелого пластического «аккорда».
В кадрах I – II – III это черные фигуры, расположенные на тяжелых массивах скалы. Они приковывают внимание не только тем, что черные, но и тем, что это единственные живые люди в кадрах.
В кадре V — это те же фигуры, но еще и черный массив камня.
В кадре VI — четыре копьеносца первого плана.
В кадре VII — массив войска и т. д.
И во всех этих кадрах вправо располагается то, на что обращаешь внимание во вторую очередь: нечто легкое, воздушное, поступательно «идущее», заставляющее глаз следовать за собой.
В кадре III — линией «свода» вверх.
В кадрах VI – VII «кулисами» войск — в глубину.
В кадре V — в «размыв» полос неба.
Таким образом, и для системы пластических кадров: левое — это «прежде», а правое — «потом», ибо глаз совершенно определенным образом через каждый в себе неподвижный кадр действительно движется слева направо.
Это дает нам право, дробя композицию кадров по вертикали, устанавливать в них доли тактов, которые приходятся на отдельные пластические элементы и на «вступление» новых.
Именно на ощущение этого обстоятельства собирались кадры и уточнялись звукозрительные соответствия и соединения. Такой кропотливый анализ и раскрытие соответствий, какой мы делаем сейчас, возможен, конечно, только post factum, но он свидетельствует лишь о том, до какой степени конструктивно ответственна та композиционная «интуиция», которая «чутьем» и «ощущением» осуществляет звукозрительную сборку.
Итак, кадр за кадром глаз приучивается к тому, чтобы читать изображение слева направо.
Но мало этого: это горизонтальное чтение каждого отдельного кадра все в том же направлении — слева направо, настолько приучает глаз к горизонтальному чтению вообще, что кадры психологически пристраиваются друг к другу тоже как бы рядом по горизонтали, все в том же направлении слева направо.
А это дает нам право не только отдельный кадр членить «во времени» по вертикали, но и пристраивать кадр к кадру по горизонтали и прочерчивать по ним хода музыки именно таким образом.
Воспользуемся этим обстоятельством и зачертим одной общей схемой наши три последовательных кадра VI – VII – VIII 256 (см. общую [таблицу]), движение сливающейся с ними музыки и ход того общего пластического жеста, который лежит в основе движения обоих. Жест этот тот же самый, что проходит через сочетание кусков III – IV. Интересно, что здесь он решен не через два куска, а через три и что эффект «падения» здесь помещен внутри кадра VII, а не на переходе из кадра в кадр, как это сделано в кусках III – IV39*.
По этой схеме, добавив к ней еще ряд изображений, мы дальше выстраиваем и общую схему-график для всех двенадцати кусков. Сличив же схему VI – VII – VIII со схемой III – IV, мы увидим, насколько в данном случае сложнее звукозрительная разработка «вариаций» на базе одного и того же исходного движения — жеста.
Немного выше мы обратили внимание на тот факт, что повторяющееся в каждом кадре движение слева направо дает психологическую предпосылку к тому, что и самые кадры как бы пристраиваешь друг к другу по горизонтали в одном и том же движении слева направо. Это, в частности, и разрешило нам на схеме именно так, по горизонтали, располагать последовательность наших кадров.
Однако в связи с этим здесь имеет место еще одно гораздо более важное обстоятельство другого порядка, ибо психологический эффект от этих кадров, неизменно бьющих (кроме IV и XII, о которых речь будет впереди) слева направо, слагается уже в обобщающий образ общего внимания, направленного откуда-то слева куда-то вправо.
Это же подчеркивает еще и игровой «индикатор» — направленность взглядов участников все в ту же сторону I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI.
Крупный план IX глядит влево, но этим он только усиливает общую направленность внимания вправо.
Он подчеркивает это внутри игры «трезвучия» тех трех крупных планов VIII, IX, X, где он занимает среднее положение наиболее короткое время (три четверти такта музыки при одном с осьмой и одном с четвертью тактах, выпадающих на долю кусков VIII и X).
Его поворот влево дает вместо монотонного ряда (рис. 9) нервный ряд (рис. 10), при котором третий крупный план X приобретает еще резкую подчеркнутость своего направления от переброски его на целых 180° вместо общей маловыразительной направленности, которую дала бы схема первая.
![]()
Рис. 9 Рис. 10
Так же строит в некоторых случаях и Пушкин. Он дает три детали убиваемых в бою с печенегами («Руслан и Людмила»): 257 один поражен стрелой, другой — булавой, а третий раздавлен конем.
Последовательность — стрела, булава, конь — соответствовала бы прямому нарастанию.
Пушкин поступает иначе. Он располагает «массивность» удара не по простой восходящей линии, но с «отходом» в среднем звене:
не: стрела — булава — конь,
а: булава — стрела — конь.
… Тот опрокинут булавою;
Тот легкой поражен стрелою;
Другой, придавленный щитом,
Растоптан бешеным конем…
(«Руслан и Людмила»)40*.
Итак, отдельные движения глаза слева направо через всю систему кадров складываются в один обобщающий образ чего-то расположенного слева, но устремленного «нутром» куда-то вправо.
Но… ведь именно этого-то ощущения и добивается весь этот комплекс из 12 кусков: и князь на скале, и войско у подножья скалы, и общее ожидание — все направлено туда, вправо, вдаль, куда-то за озеро, откуда появится пока еще незримый враг.
На этом этапе сцены враг дан пока что только через ожидание его русским воинством.
Затем будут три пустых кадра пустынной снежной поверхности озера.
И в середине третьего куска появится враг «в новом качестве» — прогремит его рог. Конец звучания рога ляжет на кусок, изображающий группу Александра. Это даст ощущение того, что звук «шел издалека» (серия пустых пейзажей) и «дошел» до Александра («лег на изображение русских»).
Звук вступает с середины куска пустого пейзажа, и этим звук воспринимается как бы из середины изображения — фасом. Отсюда — фасом (лицом к врагу) его слышит кадр с группой русских.
258 В дальнейшем фасом же движется атака рыцарской конницы, вырастающей из линии горизонта, с которой она кажется слившейся вначале. (Эту тему наступления фасом задолго до этого, загодя подготавливают куски IV и XII — оба фасные; и вот в чем их основное композиционное обоснование помимо совершенно точного пластического эквивалента, который они дают в своем месте музыке.)
Ко всему сказанному выше следует сделать одну существеннейшую оговорку.
Совершенно очевидно, что горизонтальное прочтение кадров и «пристройка» их в восприятии друг к другу по горизонтали отнюдь не всегда имеет место. Оно, как мы показали, целиком вытекает из образного ощущения, которое надобно вызвать сценой; ощущения, связанного с вниманием, направленным слева направо. Эта черта образа достигнута одинаково полно как изображением, так и музыкой, и подлинной внутренней синхронностью обоих. (Ведь и музыка рисуется расходящейся и двигающейся вправо от тяжелых аккордов, занимающих «левую» сторону. Для наглядности стóит себе на мгновение представить эти фразы, имеющие аккорды «справа», то есть оканчивающимися аккордами: в таком случае никакого ощущения «полета» за дали Чудского озера в них бы уже не было!)
В других случаях, работая на другой образ, композиция кадров станет «воспитывать» глаз на совершенно иное пластическое чтение. Она приучит глаз не пристраивать кадр к кадру сбоку, а заставит его, например, наслаивать кадр на кадр.
Это даст ощущение втягивания внимания в глубину или наезда изображения на зрителя.
Представим себе, например, последовательность четырех возрастающих крупных планов различных людей, расположенных строго по центру. Естественно, что восприятие прочтет их не по схеме первой, а по схеме второй (рис. 11).
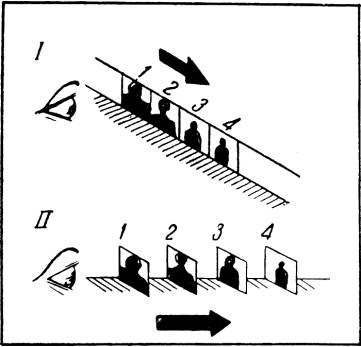
Рис. 11
То есть не как движение мимо глаза — слева направо, а как движение от глаза при последовательности 1, 2, 3, 4 или на глаз при последовательности 4, 3, 2, 1.
259 Разновидность второго типа мы только что отметили, разбирая звучание рога и перестройку на фасную глубину для сцены, которая идет в фильме вслед за разобранной.
Ведь кадр типа XII, на который попадает первое звучание рога, мог бы тоже читаться «по инерции» слева направо, а не вглубь (рис. 12).
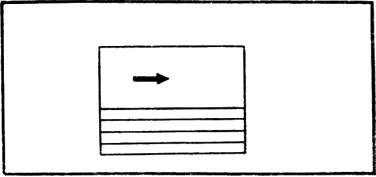
Рис. 12
Однако перемене движения внимания именно вглубь способствуют две вещи.
Во-первых, звук, вырывающийся из середины куска по времени: восприятие невольно поместит его по аналогии и пространственно в середину куска.
Во-вторых, ступенчатый ход серо-белых полос снега в нижней части кадра, идущий вверх (рис. 13).

Рис. 13
Эта как бы «лестница» ведет глаз вверх, но это движение вверх по плоскости есть вместе с тем приближение к линии горизонта, таким образом психологически читается как пространственное движение к горизонту, то есть вглубь, таким образом как раз так, как нам нужно. Это еще усиливается тем, что следующий за ним кусок дан почти таким же, но с пониженной линией горизонта: увеличивающееся пространство неба гонит глаз на восприятие еще большей дали. В дальнейшем этот условный ход глаза сперва звуково (приближающимся звуком), а затем предметно (скачущей конницей) окончательно материализуется к моменту атаки.
Так же легко приучить глаз системой расположения пятен, линий или движений к вертикальному чтению и т. д. и т. д.
Остается еще вовсе кратко сказать о кусках IX – X и XI – XII. Как уже было указано выше, куски IX – X ложатся на фразу А1 (равную А в новой тональности). К этому можно добавить, что куски XI – XII совершенно так же ложатся на фразу В1.
Как видим, здесь, в отличие от кусков III и IV, в которых на два такта фразы А1 — В1 приходится по одному изображению, на каждые два такта фразы А1 — В1 приходится по два изображения.
260 Посмотрим, повторят ли куски IX – X – XI – XII ту же схему движения жеста, что мы имели в кусках III – IV, и если да, то в каком новом аспекте это произойдет. Первые три четверти первого такта падают на крупный план IX. Эти три четверти такта падают на вступительный аккорд — «площадку», как мы его называли. И изображение, которое ему вторит, кажется увеличением с первых трех четвертей куска VI: крупный план бородача (Игната) на густом фоне копий — здесь, как четыре копьеносца — там, оставшиеся пять четвертой фразы падают на кадр X. И фон этого куска сравнительно с предыдущим рисуется почти свободным от копий (их в восемь раз меньше, чем в кадре IX): налицо такое же «облегчение», как было в «кулисах» правой части кадра VI сравнительно с его левой стороной. Любопытно, однако, что толчки, которыми возрастал «свод», тоже присутствуют и здесь — и при этом вовсе неожиданным образом, а именно: в виде… толчков пара, последовательно вылетающих из прерывисто дышащей глотки. Однако же основное, чем проигрывается здесь наш «свод», — это, конечно, нарастающее напряжение, которое дано здесь в игре — в нарастающей игре волнения.
Таким образом, здесь появляется еще новый фактор воплощения нашего «жеста» — психологически-игровой, идущий через нарастание чувств.
Но это воплощение можно рассматривать и как объемное. Ибо здесь в переходе с кадра X к кадру XI, аналогичному «падению» III – IV, мы имеем не менее резкий скачок от крупного и объемного плана молодого лица, повернутого в сторону аппарата (Савки), снова к общему плану мелких фигур, повернутых спиной к аппарату и смотрящих вдаль. Скачок здесь дан не только через «падение» масштаба, но еще и через оборот фигур.
Эти два кадра X и XI аналогичны правой и левой сторонам одного кадра VII. Каждая из половинок кадра VII там представлена здесь целым кадром аналогичного звучания. Естественно, что они представлены здесь обогащенно и отяжеленно (сравним VII и XI или отрезок горизонта в VII с целым куском пустого поля кадра XII).
В остальном же они ведут игру совершенно одинаковую. Любопытно, что в куске XII также фигурирует отстук флажков куска IV или бликов куска VIII: здесь они даны по вертикали через полоски, отделяющие белые полосы от серых на поверхности снега.
Итак, мы видим, что одна и та же схема жеста, устанавливающая синхронность внутреннего движения музыки и изображения, пластически предстала перед нами во всех вариациях:
тонально (кадр I),
линейно (кадр III),
пространственно (кулисами кадров VI – VII),
261 игрово и объемно (поведением внутри кусков IX – X и пластически в переходе X – XI).
Так же различного рода вариациями игралось и само тревожное ожидание врага: смутно, «общо» и невысказанно, через свет I и линию III, мизансценой, группировкой VI – VII и, наконец, вплотную открытой нарастающей игрой VIII – IX – X.
Осталось оговорить лишь еще один нетронутый кусок V. По ходу разбора он уже был назван «переходным». Тематически он именно таков: это переход от князя на скале к войскам у подножия.
Музыкально он тоже переходит из одной тональности в другую, что тематически вполне обосновано. Наконец, и чисто пластически он таков же. Здесь в единственном куске на протяжении всего эпизода мы имеем обратную фигуру того, что мы назвали «сводом»: она в левой стороне кадра, а не в правой; служит контуром не для легкой части кадра, а для тяжелой; и движется не вверх, а вниз, в полном соответствии с музыкой, где это же выражено движением вниз кларнет-баса на продолжающемся фоне тремолирующих скрипок.
Однако вместе со всем этим кадр не может целиком вырываться из общей картины; не может целиком противопоставляться, ибо тематическое содержание его (князь на скале) связано в единстве с тематическим содержанием прочих кадров (русские войска у подножия скалы).
Иначе обстояло бы дело, если бы в этом куске фигурировал бы элемент антагонистической темы, например, врагов-рыцарей. Тогда резкая врезка, умышленное разрывание общей ткани было бы не только «желательно», но и закономерно необходимо. Именно так, резким звуком врывается дальше тема противника (см. описание выше). А дальше «стычка» тем обоих противников скрещивается поединком из сталкивающихся кусков. Сперва она идет как столкновение монтажных кусков, резко противоположных по композиции и по строю: белые рыцари — черные русские войска; неподвижные русские войска — скачущие рыцари; открытые живые, переживающие лица русских — закованные, железные маски вместо лиц у рыцарей и т. д.
Эта мысль о столкновении врагов сперва дана как столкновение контрастно скомпонованных монтажных кусков: так решается эта первая вводная фаза боя — боя, решенного пока без физически игрового соприкосновения войск, но вместе с тем боя, уже звучащего через столкновение пластических элементов оформления обоих антагонистов.
Конечно, ничего подобного между куском V и всеми остальными быть не может. И кстати же сказать, несмотря на то, что все признаки куска V противоположны всем признакам других кусков, он все-таки не выскакивает и не вырывается из их единства.
262 Чем же это достигнуто?
Очевидно, не чертами самого куска, который, как мы видели, всеми своими чертами отрывается от других.
Что же тем не менее «впаивает» его в их среду?
Искать этого надо, видимо, за пределами самого куска.
И если мы взглянем на весь развернутый фронт изображений, то мы быстро обнаружим, что есть еще два куска, которые в более слабой степени прочерчивают ту же самую перевернутую кривую свода, характерную для спадающей линии черной скалы куска V.
Расположены эти куски по разные стороны от куска V, то есть один из них по времени предшествует ему, другой — следует за ним.
Другими словами, один кусок пластически подготовляет появление куска V. Другой — снова сводит его «на нет».
Оба куска как бы «амортизируют» его появление и исчезновение, которые без них были бы чрезмерно резкими.
При этом оба куска еще и равно удалены от куска V (по количеству промежуточных между ними изображений).
Эти куски: кусок II и кусок VIII.
Действительно, если мы прочертим по ним основную направляющую линию их главных массивов, то увидим, что линии эти совпадут с линией контура скалы из куска V (рис. 14).

Рис. 14
В отличие от того, что происходит в куске V, в кусках II и VIII эта линия физически не прочерчена, но она служит конструктивной линией, по которой возведены основные массивы обоих кусков II и VIII.
Кроме этих основных средств спайки куска V с остальными есть еще любопытные «скрепы» этого куска с кусками, рядом стоящими. 263 С кадром IV он связан… флажком на скале, который как бы проделывает игру флажков по фронту куска IV; и последний музыкальный акцент флажков, собственно говоря, уже совпадает с появлением флажка в кадре V.
С куском же VI кусок V связан тем, что в самой левой части кадра виден черный контур низа скалы.
Этот низ скалы здесь важен не только по пластически композиционным соображениям, но и по чисто топографически информационным: он дает представление о том, что войска расположены действительно у подножия Вороньего Камня. Несоблюдение таких, казалось бы, «информационных мелочей», к сожалению, встречается в наших фильмах чересчур часто и, суммируясь, ведет к тому, что часто вместо отчетливой дислокации целого боя со своей определенной топографической и планировочной логикой мы имеем дело с истерическим хаосом схваток, сквозь которые никак не уловить общей картины разворачивания и поступи всего события в целом.
При всем этом, однако, надо иметь в виду, что композиционное единство здесь достигается, как ни странно, еще и тем самым обстоятельством, что кусок V дает противоположность зеркального порядка. И поэтому здесь ощущается такое же единство, какое ощущается количественно в одной и той же величине, представленной со знаком плюс или минус.
Совсем иначе воспринималось бы дело, если бы в куске V, например, была бы не только та же самая, хоть и перевернутая кривая свода, а ломаная линия или прямая. Тогда бы она приравнялась бы к перечисленным противоположностям дальнейшего порядка (черное — белое, неподвижное — подвижное и т. д.), где мы имеем дело с качествами полярно-различными, а не с одинаковыми количествами, снабженными лишь разными знаками.
Но эти соображения общего порядка могли бы нас завести слишком далеко.
Воспользуемся здесь лучше тем обстоятельством, что мы теперь можем со спокойной совестью вычертить общую схему звукозрительных соответствий и кривую их движения на протяжении всего эпизода. (При повторном прочтении самого разбора рекомендуется следить за рассуждением, имея перед глазами эту схему.)
В подробности гармонической игры повторов и вариаций мы здесь не входим. В этом отношении схема говорит сама за себя как строчкой разбивок, так и строчкой движения типовой фигуры.
Остается, однако, коснуться еще одного вопроса.
Дело в том, что мы в самом начале статьи высказали общий принцип, согласно которому достигается звукозрительное единство и соответствие: мы определили его как единство обоих «в образе», то есть через единый образ.
264 Сейчас же мы обнаружили, что пластически-музыкальным «объединителем» оказался росчерк того движения, который несколько раз проходит, повторяясь, через все построения в целом. Нет ли здесь противоречия и можем ли мы, с другой стороны, утверждать, что в нашей типовой для данного отрезка линейной фигуре есть известная «образность», к тому же образность, еще и связанная с «темой» куска?
Всмотримся в нее на общей схеме жеста (см. рис. 1).
Если мы постараемся прочесть ее эмоционально, применительно к сюжетной теме отрывка, то на поверку окажется, что мы здесь имеем дело со своеобразной обобщенной «сейсмографической» кривой некоторого процесса и ритма тревожного ожидания.
Действительно, начиная от состояния относительного покоя идет напряженно (см. выше) нарастающее движение — легко читаемое как напряженное вглядывание — ожидание.
К моменту, когда напряжение достигает предела, происходит внезапная разрядка, полное падение напряжения, как вырвавшийся вздох.
Сравнение здесь вовсе не случайно, ибо это даже не сравнение, а… прообраз самой схемы, которая, как всякая живая композиционная схема, всегда есть сколок с известного эмоционально окрашенного действия человека; с закономерностей этого действия; с его ритмов.
И фрагмент а — в — с совершенно отчетливо воспроизводит «затаенность дыхания» — задержанного выдоха, в то время как грудная клетка готова разорваться от нарастающего волнения, неразрывного с усиленным втягиванием воздуха в себя — «Вот-вот проступит на горизонте враг». «Нет. Еще не видно». И облегченный вздох: грудная клетка, дыбившаяся вверх, вместе с глубоким выдохом спадает вниз… Даже здесь, в строчке описания, невольно ставишь после этого… многоточие, многоточие, как пульсирующий отыгрыш реакции на только что нараставшее напряжение.
Но вот вновь что-то задело внимание… Снова неподвижная остановка с новым начальным аккордом новой музыкальной фразы перед тем, чтобы снова через нарастающее напряжение подняться до соответствующей точки, снова падение и т. д. И так идет весь процесс, равномерно, неизменно повторяясь с той монотонной повторностью, которая делает подобное ожидание нестерпимым для ожидающих…
Расшифрованная таким образом наша кривая подъемов, падений и горизонтальных отзвуков вполне обоснованно может считаться предельным графическим обобщением того, во что может воплотиться обобщенный образ процесса некоего взволнованного ожидания.
Свое реальное наполнение точным содержанием, свой полный образ «ожидания» это построение получает лишь через всю полноту 265 кадра, то есть тогда, когда эти кадры наполнены реальным пластическим изображением, однако таким, которое окажется оформленным композиционно согласно той схеме, что в самом обобщенном виде прочерчивает эту же тему (то есть согласно нашей схеме).
При этой не меняющейся обобщенной схеме эмоционального содержания сцены, музыкально повторяющейся несколько раз подряд, на долю пластической стороны, на долю сменяющихся изображений кадров выпадает роль нарастания напряжений.
И в нашем эпизоде мы видим, что нарастающая интенсивность вариаций в изображениях проходит последовательно по ряду измерений:
1. Тонально I.
2. Линейно III – IV.
3. Пространственно VI – VII – VIII.
4. Объемно (массивами крупных планов) и одновременно же игрово (игрою этих крупных планов) с IX – X – XI – XII.
При этом самый порядок отыгрыша их именно в такой последовательности тоже вовсе не случаен. Он тоже составляет отчетливо нарастающую линию от «смутной», неконкретной, тревожной «игры света» (выход из затемнения) вплоть до явной конкретной игры человека — реального персонажа, реально ожидающего реального противника.
Остается ответить лишь еще на один вопрос, который с неизбежностью ставится всяким слушателем или читателем, когда перед ним развертываешь картину закономерностей композиционных построений: «А вы заранее это знали? А вы заранее это имели в виду? А вы заранее все это так рассчитали?»
Подобный вопрос обычно раскрывает полную неосведомленность вопрошающего в том, каким порядком в действительности идет творческий процесс.
Ошибочно думать, что предвзятым составлением режиссерского сценария, каким бы «железным» он ни именовался, заканчивается творческий процесс и процесс начертания таких нерушимых композиционных формул, которые априори определяют все тонкости конструкции.
Это совершенно не так или в лучшем случае лишь в известной мере так.
Особенно же в тех сценах и эпизодах «симфонического» порядка, где куски связаны динамическим ходом развития какой-либо широкой эмоциональной темы, а не ленточкой сюжетных фаз, которые могут развертываться только в определенном порядке и в определенной последовательности, предписываемых им житейской логикой.
С этим же вопросом тесно связано и другое обстоятельство, а именно то, что в самый период работы не формулируешь те «как» и 266 «почему», которые диктуют тот или иной ход, то или иное выбираемое «соответствие». Там обоснованный отбор переходит не в логическую оценку, как в обстановке постанализа того типа, который мы сейчас развернули, но в непосредственное действие.
Выстраиваешь мысль не умозаключениями, а выкладываешь ее кадрами и композиционными ходами.
Невольно вспоминаешь Оскара Уайльда101, говорившего, что у художника идеи вовсе не родятся «голенькими», а затем одеваются в мрамор, краски или звуки.
Художник мыслит непосредственно игрой своих средств и материалов. Мысль у него переходит в непосредственное действие, формулируемое не формулой, но формой. (Пусть мне простят эту аллитерацию, но уж больно хорошо она раскрывает взаимосвязь всех троих.)
Конечно, и в этой «непосредственности» необходимые закономерности, обоснования и мотивировки такого именно, а не иного размещения проносятся в сознании (иногда даже срываются с губ), но сознание не задерживается на «досказывании» этих мотивов, — оно торопится к тому, чтобы завершить само построение. Работа же по расшифровке этих «обоснований» остается на долю удовольствий постанализов, которые осуществляются иногда через много лет спустя после самой «лихорадки» творческого «акта», того творческого «акта», про который писал Вагнер в разгаре творческого подъема 1853 года102, отказываясь от участия в теоретическом журнале, задуманном его друзьями. «Когда действуешь — не объясняешься».
Однако от этого сами плоды творческого «акта» нисколько не менее строги или закономерны, как мы попытались показать это на разобранном материале.
1940
267 СТАТЬИ
269 МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ
К
постановке «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в
Московском Пролеткульте*
I. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПРОЛЕТКУЛЬТА
В двух словах. Театральная программа Пролеткульта не в «использовании ценностей прошлого» или «изобретении новых форм театра», а в упразднении самого института театра как такового с заменой его показательной станцией достижений в плане поднятия квалификации бытовой оборудованности масс. Организация мастерских и разработка научной системы для поднятия этой квалификации — прямая задача научного отдела Пролеткульта в области театра.
Остальное делаемое — под знаком «пока»; во удовлетворение привходящих, не основных задач Пролеткульта. Это «пока» — по двум линиям под общим знаком революционного содержания1.
1. Изобразительно-повествовательный театр (статический, бытовой — правое крыло: «Зори Пролеткульта»2, «Лена»3 и ряд недоработанных постановок того же типа, линия бывш[его] Рабочего театра при ЦК Пролеткульта).
2. Агит[ационно]-аттракционный (динамический и эксцентрический — левое крыло) — линия, принципиально выдвинутая для работы Передвижной труппы московского Пролеткульта мною совместно с Б. Арватовым4.
В зачатке, но с достаточной определенностью путь этот намечался уже в «Мексиканце»5 — постановке автора настоящей статьи совместно с В. С. Смышляевым6 (Первая студия МХТ). Затем полное принципиальное расхождение на следующей же совместной работе («Над обрывом»7 В. Плетнева), приведшее к расколу и к дальнейшей сепаратной работе, обозначившейся «Мудрецом»8 и… «Укрощением строптивой», не говоря уже о «теории 270 построения сценического зрелища» Смышляева, проглядевшего все ценное в достижениях «Мексиканца».
Считаю это отступление необходимым, поскольку любая рецензия на «Мудреца», пытаясь установить общность с какими угодно постановками, абсолютно забывает упомянуть о «Мексиканце» (январь – март 1921 года), между тем как «Мудрец» и вся теория аттракциона являются дальнейшей разработкой и логическим развитием того, что было мною внесено в ту постановку.
3. «Мудрец», начатый в Перетру9 (и завершенный по объединении обеих трупп), как первая работа в плане агита на основе нового метода построения спектакля.
II. МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ
Употребляется впервые. Нуждается в пояснении.
Основным материалом театра выдвигается зритель; оформление зрителя в желаемой направленности (настроенности) — задача всякого утилитарного театра (агит, реклам, санпросвет и т. д.). Орудие обработки — все составные части театрального аппарата («говорок» Остужева10 не более цвета трико примадонны, удар в литавры столько же, сколько и монолог Ромео, сверчок на печи11 не менее залпа под местами для зрителей), во всей своей разнородности приведенные к одной единице — их наличие узаконивающей — к их аттракционности.
Аттракцион (в разрезе театра) — всякий агрессивный момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего, в свою очередь в совокупности единственно обусловливающие возможность восприятия идейной стороны демонстрируемого — конечного идеологического вывода. (Путь познавания — «через живую игру страстей» — специфический для театра.)
Чувственный и психологический, конечно, в том понимании непосредственной действительности, как ими орудует, напр[имер], театр Гиньоль12: выкалывание глаз или отрезывание рук и ног на сцене, или соучастие действующего на сцене по телефону в кошмарном происшествии за десятки верст, или положение пьяного, чувствующего приближение гибели, и просьбы о защите которого принимаются за бред, а не в плане развертывания психологических проблем, где аттракционом является уже самая тема как таковая, существующая и действующая и вне данного действия при условии достаточной злободневности. (Ошибка, в которую впадает большинство агиттеатров, довольствуясь аттракционностью только такого порядка в своих постановках.)
271 Аттракцион в формальном плане я устанавливаю как самостоятельный и первичный элемент конструкции спектакля — молекулярную (то есть составную) единицу действенности театра и театра вообще. В полной аналогии — «изобразительная заготовка» Гросса13 или элементы фотоиллюстраций Родченко14.
«Составную» — поскольку трудно разграничить, где кончается пленительность благородства героя (момент психологический) и вступает момент его личного обаяния (то есть эротическое воздействие его); лирический эффект ряда сцен Чаплина неотделим от аттракционности специфической механики его движений; так же трудно разграничить, где религиозная патетика уступает место садическому удовлетворению в сценах мученичества мистериального театра, и т. д.
Аттракцион ничего общего с трюком не имеет. Трюк, а вернее, трик (пора этот слишком во зло употребляемый термин вернуть на должное место) — законченное достижение в плане определенного мастерства (по преимуществу акробатики), лишь один из видов аттракционов в соответствующей подаче (или по-цирковому — «продаже» его) в терминологическом значении является, поскольку обозначает абсолютное и в себе законченное, прямой противоположностью аттракциона, базируемого исключительно на относительном — на реакции зрителя.
Настоящий подход коренным образом меняет возможности в принципах конструкции «воздействующего построения» (спектакль в целом): вместо статического «отражения» данного, по теме потребного события и возможности его разрешения единственно через воздействия, логически с таким событием сопряженные, выдвигается новый прием — свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект — монтаж аттракционов.
Путь, совершенно высвобождающий театр из-под гнета до сих пор решающей, неизбежной и единственно возможной «иллюзорной изобразительности» и «представляемости», через переход на монтаж «реальных деланностей», в то же время допуская вплетание в монтаж целых «изобразительных кусков» и связно сюжетную интригу, но уже не как самодовлеющее и всеопределяющее, а как сознательно выбранный для данной целевой установки сильнодействующий аттракцион, поскольку не «раскрытие замысла драматурга», «правильное истолкование автора», «верное отображение эпохи» и т. п., а только аттракционы и система их являются единственной основой действенности спектакля. Всяким набившим руку режиссером по чутью, интуитивно аттракцион так или иначе использовывался, но, конечно, не в плане монтажа или конструкции, но «в гармонической композиции», во всяком случае (отсюда 272 даже свой жаргон — «эффектный под занавес», «богатый выход», «хороший фортель» и т. п.), но существенно то, что делалось это лишь в рамках логического сюжетного правдоподобия (по пьесе «оправдано»), а главное, бессознательно и в преследовании совершенно иного (чего-либо из перечисленного «вначале»). Остается лишь в плане разработки системы построения спектакля перенести центр внимания на должное, рассматриваемое ранее как привходящее, уснащающее, а фактически являющееся основным проводником постановочных ненормальных намерений, и, не связывая себя логически бытовым и литературно-традиционным пиететом, установить данный подход как постановочный метод (работа с осени 1922 г[ода в] мастерских Пролеткульта).
Школой монтажера является кино и главным образом мюзик-холл и цирк, так как, в сущности говоря, сделать хороший (с формальной точки зрения) спектакль — это построить крепкую мюзик-холльную — цирковую программу, исходя от положений взятой в основу пьесы.
Как пример — перечень части номеров эпилога «Мудреца»15.
1. Экспозитивный монолог героя. 2. Кусок детективной фильмы: (пояснение п[ункта] 1 — похищение дневника). 3. Музыкально-эксцентрическое антре: невеста и три отвергнутых жениха (по пьесе одно лицо) в роли шаферов; сцена грусти в виде куплета «Ваши пальцы пахнут ладаном» и «Пускай могила». (В замысле — ксилофон у невесты и игра на шести лентах бубенцов — пуговиц офицеров). 4, 5, 6. Три параллельных двухфразных клоунских антре (мотив платежа за организацию свадьбы). 7. Антре этуали (тетки) и трех офицеров (мотив задержки отвергнутых женихов), каламбурный, [с переходом] через упоминание лошади к номеру тройного вольтажа на неоседланной лошади (за невозможностью ввести ее в зал — традиционно — «лошадь втроем»). 8. Хоровые агит-куплеты: «У попа была собака»; под них «каучук» попа — в виде собаки (мотив начала венчания). 9. Разрыв действия (голос газетчика для ухода героя). 10. Явление злодея в маске, кусок комической кинофильмы (резюме пяти актов пьесы, в превращениях [Глумова] мотив опубликования дневника). 11. Продолжение действия (прерванного) в другой группировке (венчание одновременно с тремя отвергнутыми). 12. Антирелигиозные куплеты «Алла-верды» (каламбурный мотив — необходимость привлечения муллы ввиду большого количества женихов и при одной невесте), хор и новое, только в этом номере занятое лицо — солист в костюме муллы. 13. Общий пляс. Игра с плакатом «религия — опиум для народа». 14. Фарсовая сцена: укладывание в ящик жены и трех мужей, битье горшков об крышку. 15. Бытово-пародийное трио — свадебная: «а кто у нас молод». 16. Обрыв [действия], возвращение героя. 17. Полет героя на лонже под купол (мотив самоубийства от отчаяния). 18. Разрыв [действия] — возвращение злодея, приостановка 273 самоубийства. 19. Бой на эспадронах (мотив вражды). 20. Агит-антре героя и злодея на тему НЭП. 21. Акт на наклонной проволоке: проход [злодея] с манежа на балкон над головами зрителей (мотив «отъезда в Россию»). 22. Клоунское пародирование [этого] номера героем и каскад с проволоки. 23. Съезд на зубах по той же проволоке с балкона рыжего. 24. Финальное антре двух рыжих с обливанием друг друга водой (традиционно), кончая объявлением «конец». 25. Залп под местами для зрителей как финальный аккорд.
Связующие моменты номеров, если нет прямого перехода, используются как легативные41* элементы — трактуются различной установкой аппаратов, музыкальным перерывом, танцем, пантомимой, выходами у ковра и т. д.
1923
274 БЕЛА ЗАБЫВАЕТ НОЖНИЦЫ*
Некоторых удивит статья Балаша. Без последней оговорки: «Альфа и омега фильма — оператор».
У нас такой пиетет перед заграницей, что могут это счесть за «благовещение». Нашлись же чудаки (в «Вечерке»), признавшие привезенные Эренбургом из Франции экзерсисы молодых французов — «откровением». Сплошные enfantillages — «детские игрушки» на съемочных возможностях съемочной аппаратуры. Даже без предельного заострения; когда такие «детские игрушки» сегодня — назавтра становятся обновителями формальных приемов в целой отрасли искусства (напр[имер], «абсолютный» — беспредметный фильм Пикабия, Леже, Шометта1).
В нашей уверенности, что свет может быть только с Запада, мы доходим до смешного.
Профессор Меллер ездил в Лондон — на яичную биржу. Разыскать стандартные яйца.
Нашел необычайные.
Начались поиски.
С каких ферм, с каких ранчо, с каких плантаций? Откуда эта необычайная порода кур? И через цепь голландских оптовиков, агентов, контрагентов и посредников яйца, гремевшие на весь Лондон, были прослежены до… Ново-Хоперского уезда. Этот «Сирин», «Алконост»2, «Жар-птица» — оказалась крестьянской курой.
Крестьянская курица Ново-Хоперского уезда. И лондонская биржа…
Но курица — не птица, а Балаш большой авторитет. Такой большой, что его книгу зараз переводят, издают и оплачивают 275 два издательства. Почему бы и нет, если принято ставить по два фильма на один материал? Морской, горно-пейзажный и т. д.
Для того чтобы понять позицию Бела Балаша, надо иметь в виду две вещи: во-первых и во-вторых. Во-первых, базис (не экономический), где и для кого возник его доклад. Германский клуб операторов «Filmtechnik» — орган их союза. Вернуть оператору его достоинство. Вернее, дать ему подобающее его заслугам достаточно почтенное место — его боевой лозунг42*.
И здесь дело уже неотъемлемо от базиса экономического.
Оператор добивается. Вынужден добиваться «самоопределения». Для нас такая программа звучит по меньшей мере дикой.
Как? На культурном Западе?
Да. На культурном. Стальные челюсти конкуренции на западном метрополисе не привыкли считаться «с обслуживающим персоналом» как с личностью. Режиссер еще туда-сюда. Но фактический герой, конечно, — коммерческий директор. А оператор? Где-то, где кончается ручка аппарата, там, по-видимому, начинается этот… механик.
В рекламу «Потемкина» даже героический «Прометеус»4 никак сперва не хотел включать Эдуарда Тиссэ. Так сильна традиция. Не удивительно поэтому, что в «УФА-хаусе» — многоэтажном управлении Универсум-фильм Акциенгезельшафт5 — даже в лицо не знают таких, как Карл Фрейнд и Риттау6. А это именно так. Сами рассказывали. А их знаем даже мы. Тоже ново-хоперские яйца, только… с Кётенерштрассе, где громадное здание «УФА» делит с крупнейшим берлинским кафе «Фатерланд». И не зря. Недаром на этом углу кишит «хаккенкрейцеровскими»7 (немецкие фашисты) газетами и листками — «УФА» последовательна.
«Тэглихе рундшау»8 (12 мая 1926 г.) пишет: «Пощечиной цензурному комитету должно было бы прозвучать заявление правления ведущей германской киноорганизации “УФА”, так воистину национально и здравомысляще настроенной: “Ввиду характера политического уклона фильма “Броненосец "Потемкин"” включение его в прокатный план театров “УФА” — отклонить”». «Понятен гнев дельца, — пишет на это “Фильм-курьер”9, — проморгавшего самое блестящее коммерческое дело в сезоне». Но и в других вопросах «УФА» верна себе. И не только «УФА». «Фебус»10 и пр[очие], как их там зовут.
А операторы создают союз защиты своей действенной личности.
276 Это во-первых. И отсюда подчеркнутость положений Балаша.
А во-вторых, — и на том же экономическом [базисе]. Коллективизм не только в фильме, но и в производстве его, в работе, Балашу неизвестен. Да и увидеть — негде. Он собирается в июле в СССР. Тогда поймет. А в Германии человек человеку — волк, и связь режиссера с оператором — кредитка. Отъединенность нематериальным интересом там не встречается.
«Старизм»11 же Балаша — индивидуализм буржуазных стран вообще. Вне этого на Западе не мыслят. Ведь кто-то должен быть «старом». Кто-то один. Вчера актер. На этот раз пусть оператор. Завтра будет осветитель.
И к чертям летит понятие фильма как результата коллективных волеустремлений.
Заслуга издыхающего от палящей жары, обливающегося потом, никому не известного Кивилевича, склоняющегося под тяжестью подсветительного зеркала и не смеющего дрогнуть, чтобы не забегал «зайчик» по растаптываемому на Одесской лестнице маленькому Абраму?
А героизм пятерки полосатых ассистентов?! «Железной пятерки»12, сносящей ругань, мат на всех диалектах трехтысячной толпы, не желающей «еще раз» промчаться по солнцепеку. И увлекающей за собой этот человеческий поток. Наперекор его настроению. Своим примером. А сама одесская толпа?!
Кульганэк, Степанчикова, Катюша, Женя, не смыкающие трое суток подряд глаз, чтобы смонтировать негатив к образцовому экземпляру на 28-е декабря в Большом [театре]. А вы знаете, что это — монтировать негатив из пятнадцати тысяч метров в тысячу шестьсот?!
Кто их вспомянет?.. Даже у нас. Грошовые сверхурочные, с опаской в сторону инспекции труда. И коллективное воодушевление в «административном плане»… заприходовано.
Понятие же оператора как свободного члена союза одинаково творческих индивидуальностей, оператора — не «стара», оператора — кооператора, Балаш установить еще не может. Там съемочная группа — мимолетный пакт рвачей, у нас — «творческий коллектив».
Та же ошибка в подходе у Балаша не только в организационно-творческой части, но и в теоретически принципиальной.
Спасибо на том, что он отмежевывается от станковизма внешности кадра, от «живых картин», но, базируясь на образности, кадра как решающем, он впадает в станковизм в определении приемов воздействия.
Решающим это быть не может. Даже хотя это отвечает такому неоспоримому признаку — как специфический результат специфических (то есть только ему присущих) особенностей орудий производства, то есть соответствует возможностям, исключительно 277 кино присущим. Но индивидуализм Б[алаша] толкает его остановиться на этом.
«Старизация» кадра в себе.
Оговорка о стаккато13 между «красивыми кадрами» вполне растяжима и на случай «символических кадров», ведь в фильме в целом для Балаша была бы сохранена композиционная гармония — об условиях «генетического» объединения кадров (конструктивного) он не говорит.
Для злополучного «Кино-Сегодня»14 Беленсона мы давно, до выхода «Стачки», противопоставляясь индивидуализму Запада, писали: «… а) долой индивидуальные фигуры (героев, выделенных из массы), б) долой индивидуальную цепь событий (интригу-фабулу), пусть даже не персональную, все же “персонально” выделенную из массы событий…» Остается прибавить еще одно «долой» — персонификации кино в индивидуализированном кадре. Сущность кино надо искать не в кадрах, а во взаимоотношениях кадров, как в истории — не в личностях, а во взаимоотношениях личностей, классов и т. д.
Балаш кроме объектива забывает еще одно определяющее «орудие производства» — ножницы.
Выразительный эффект в кино — результат сопоставлений.
И это специфично для кино. Кадр только трактует предмет в установке на использование его в сопоставлении с другими кусками. Характерно. Балаш всегда говорит: «картина», «кадр» и ни разу — «кусок»! Кадр — это только продление отбора. Отбора именно этого предмета, а не другого — предмета именно с этой точки, в этом «обрезе» (Ausschnitt — как говорят немцы), а не в другом. И кинематографические условия создают «образ» из сопоставления этих «обрезов».
Потому что символика (в приличном смысле этого слова!) кино должна строиться не на заснятой символике жестикуляции заснятого человека, пусть даже во множественном числе (родство с театром), и не на самостоятельной картинной символятине так возникающего кадра-картины (родство с живописью).
Символику кино — собственную его символику — надо, как ни странно, искать не в ряде искусств изобразительных и пространственных (живопись и театр).
Понимание кино сейчас вступает во «второй литературный период»43*. В фазу приближения к символике языка. Речи. Речи, придающей символический смысл (то есть не буквальный), «образность» — совершенно конкретному материальному обозначению — через несвойственное буквальному — контекстное сопоставление, то есть тоже монтажом. В одних случаях — при сопоставлении 278 неожиданном или необычайном — оно действует как «поэтический образ». — «Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения» (Бабель).
В других случаях от традиционного сопоставления обозначение получает свой самостоятельный смысл, отрешенный от буквальности, но формулирующий уже не как элемент образности (чем не литдарвинизм!). «Сволочь» существует самостоятельным гражданством, и никто не думает об образной прелести этой производной от «сволакивания». Чего? Ясно — мало потребного. Но образное выражение, вообще говоря, есть вечно только в контексте возникающая «мутация». Когда говорят: «Я раздавлен», еще неизвестно — «горем» или «трамваем». Это видно из контекста.
А Балаш кроет яликами самого себя и своими же, даже не нашими определениями — эффект опускания парусов (одновременного) как раз создан символикой коллективного жеста (Gebärde), а не объективом15. Обрез кадра, конечно, здесь так же решающ, не менее, но и не более, в конечном счете, чем Севастопольский союз рыбаков in corpore44*, согласившийся и сумевший «символизировать» эту сцену!
И все же надо приветствовать Балаша и за благие намерения строить эстетику кино на основе единственно присущих кино возможностей, то есть на чистом материале.
Правда, в этом он порядком поотстал от СССР.
Но нельзя требовать от человека рассуждения о «монтажном кадре», когда это понятие в Германии вообще отсутствует.
Есть кадры — «литературные» и есть кадры «живописные», то есть рассказывающие, что происходит (игральный кусок), то есть разыгранная надпись (доля сценариста) и ряд станковых картин (доля оператора).
Режиссерского кадра — не самостоятельно существующего, а кадрослагающего, кадра через слагание созидающего единственно киномыслимое специфическое воздействие — Германия не знает.
Говорят еще — «американский монтаж». Боюсь, пришло время присоединить этот «американизм» к прочим, так беспощадно развенчанным тов. Осинским16.
Америка монтаж как новую стихию, новую возможность — не поняла.
Америка честно повествовательна, и она не «выстраивает» свою монтажную «образность», а честно показывает, что происходит.
Ошеломляющий нас монтаж погонь — не конструкция, а вынужденный показ, по возможности чаще, удирающего и преследователя. Разбивка диалога на крупные планы — необходимость 279 показать по очереди выражения лиц «любимцев публики». Без учета перспектив монтажных возможностей.
Я видел в Берлине Гриффита четырнадцатого года — «Рождение нации»17 — последние две части — погоня (как и всегда) и ничем формально не отличная от новейших аналогичных сцен. А за двенадцать лет можно было «заметить», что кроме рассказывающих возможностей такой «с позволения сказать, монтаж» может иметь в перспективе еще и воздействующие. В «Десяти заповедях»18, где не было специальной необходимости показывать в отдельности евреев, «исход из Египта»19 и «золотой телец»20 монтажно никак не даны, технически — одними общими планами. И нюансировка состояний массы, то есть воздействие от массы, — летит к чертям.
В заключение — о стиле Бела Балаша. Неприятная терминология. Не нашинская. «Искусство», «творчество», «бессмертие», «величие» и т. д.
Но некоторые видные марксисты на таком же диалекте пишут, и это считается за диалектику.
Стало быть, стиль, по-видимому, допустимый.
1926
280 ДВА ЧЕРЕПА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО*
В каждой порядочной кунсткамере1 неизменно имеются два черепа Александра Македонского: один — когда ему было пятнадцать лет и другой — когда сорок пять.
Кино противопоставляют театру как совершенно разные стихии. Правильно. Как разные категории мышления. Тоже правильно. Как орудующие совершенно разными средствами воздействия. Опять правильно. И такие сопоставления даже небесполезны. Мы так еще мало практически знакомы с приемами впечатлевания, что это совсем не лишнее.
Но вдруг приходят к вам и спрашивают: «Вот вы теперь католик, штундист2, анабаптист3 или там что (кинематографщик). А вас, наверно, тянет сходить в мечеть или пагоду (сделать постановку в театре). Перекинуться снова в другую стихию».
Товарищи, можно говорить, различать, сравнивать паровоз Бестера Китона4 с каким-либо Д-экспрессом. Но, во всяком случае, в условиях вне времени и пространства. Это даже очень поучительно. Но когда надо куда-нибудь ехать, то садятся все же в экспресс, а не в «Наше гостеприимство».
Когда сходишь с точки зрения подобного абстрактного формализма и начинаешь смотреть на театр и кино в общих перспективах, в динамике развития революционного зрелища как единого поступательного процесса, становишься перед явной нелепостью этого вопроса. В лицо друг другу ржут, оскалясь, два разновозрастных черепа одного Македонского.
В общем ходе событий кино — [это], конечно, выросший за сорок пять лет пятнадцатилетний череп театра.
281 Иными словами, кино — это сегодняшний этап театра. Очередная последовательная фаза.
Фактический театр как самостоятельная единица в деле революционного строительства, революционный театр как проблема — выпал. Не удивительно повсеместное братание. Не о чем воевать.
Четыре постановки домчали театр до его границ, за которыми театр переставал быть театром и должен был стать реальным социально полезным аппаратом.
Четыре постановки, последние в театре.
«Рогоносец»5 ставил вопрос организации двигательного проявления. На частном случае актера. Вел к организации движения человека в быту, в педагогические институты бытовой оборудованности.
«Мудрец»6 обнажил в «монтаже аттракционов» механизм и сущность театрального воздействия. Следующий этап: на смену интуитивно художественной композиции воздействий — научная организация социально полезных раздражителей. Психотерапия зрелищными приемами.
«Земля дыбом» — опыт в сторону организации массовых проявлений. Театральный коллектив как частный случай массы. Впереди «постановка» праздников, судов, заседаний и т. д.
«Противогазы» — последнее допустимое театру преодоление иллюзорного в общей установке и тяге к материальному. Монтаж воздействий от реально материально существующих величин и предметов: завод как элемент спектакля, а не как «вместилище», производственные процессы и положения как части действия и т. д. — то есть фактически уже почти кино, строящее свое воздействие именно на подобном театральном «материале» через монтажное сопоставление.
Три первые своего следующего этапа так и не увидели. По этим пунктам театр сдал. И только мои «Противогазы» совершенно логично перешли в «Стачку» как [в] следующий этап, целиком построенный на том, что в них входило «трюком». Ибо настоящий трюк, новаторский — это кусочек завтрашнего этапа, зайцем втащенный в сегодняшнюю постановку.
Вся «острота» вещи — в этой диалектически возникающей частности, берущей под сомнение или отрицающей весь строй вещи. Строй, который следующим этапом этой частностью опрокидывается.
И театр в остальных случаях, не выйдя за свои пределы, вместе с тем зачеркнул себя и как формально развивающий[ся] организм. Нечем, товарищи, дальше «трюковать» в «большом стиле». Двигать-то его ведь больше некуда!
С театром дело как с подзорными трубами. Максимальное приближение. Но с увеличением приближения падает светосила. И существует формула, кажется, Николаи7, определяющая предел 282 возможного приближения навсегда. На основе этих двух моментов. Такая же формула стоит и над театром. Пределы его поступательного движения и развития известны. Их стараются не перейти, а избежать. И предпочитают ожесточенный бег по кругу, по вращающейся сцене «Мандата»8!
Не вперед, так назад. И биомеханика становится «биомеханическим балетом», ничем не отличным от прочей голейзовщины в «Д. Е.»9. Поиски прозодежды становятся зелеными и золотыми париками «Леса»10 и т. д.
Впереди в лучшем случае — бури в стакане воды. Эпатаж45* в масштабе «капустника». И театр снова переходит на доброе старое положение. Он вновь становится церковью, школой, библиотекой. Чем угодно. Но уже не аппаратом самостоятельных агрессивных возможностей, ударом по быту и т. д.
Рупор — посредник. И ладно. В конце концов, важна социально организующая его роль вообще. И не важно, что это отныне происходит хотя и в театре, но помимо театра.
«Рычи, Китай»11, «Шторм»12, «Воздушный пирог»…13 При чем тут театр? Это блестящая публицистика. Ответ на жгучие запросы.
И совсем на сегодня не важно, что «Рычи, Китай» — превосходная пьеса, «Воздушный пирог» весьма неважная, а «Шторм» и совсем никакая не пьеса, не постановка, не игра, а комок подлинной гражданской войны. И, может быть, как раз поэтому чуть ли не самое замечательное, что мы видели на подмостках за эти годы.
В каком угодно формальном виде актуальная вещь берет сейчас сама. Форма в театре перестала ночевать. И не случайно.
Нелепо совершенствовать соху. Выписывают трактор. И устремить все внимание на успешность тракторизации, то есть на кино, и бытостроительство через клуб — задача всякого серьезного работника театра.
1926
283 ЗА КАДРОМ*
Чудно и неожиданно писать брошюру о том, чего фактически нет.
Нет же, например, кино без кинематографии.
Между тем автору настоящей книги удалось написать книгу про кино страны, не имеющей кинематографии,
о кино страны, имеющей в своей культуре бесконечное множество кинематографических черт, но разбросанных повсюду, за исключением только… кино.
Кинематографическим чертам японской культуры, лежащим вне японского кино, и посвящена эта статья, лежащая так же вне книги, как эти черты вне японского кино.
* * *
Кино — это: столько-то фирм, такие-то оборотные капиталы, такие-то «звезды», такие-то драмы.
Кинематография — это прежде всего монтаж.
Японское кино хорошо обставлено фирмами, актерами, сюжетами.
И японское кино совершенно не знает монтажа.
Между тем принцип монтажа можно было бы считать стихией японской изобразительной культуры.
Письменность,
ибо письменность в первую очередь изобразительна.
Иероглиф.
Натуралистическое изображение предмета в искусных руках Цанки за 2650 лет до нашей эры слегка схематизируется и с 539-ю собратьями образует первый «контингент» иероглифики.
284 Выцарапанный шилом на бамбуковой пластинке портрет предмета во всем еще похож на оригинал.
Но вот в конце III века изобретается кисть,
в I веке после этого «радостного события» (н. э.) — бумага,
наконец, в 220 году — тушь.
Полный переворот. Революция в начертаниях. И, претерпев на протяжении истории до четырнадцати различных манер письма, иероглиф застывает в своем современном начертании.
Орудия производства (кисть и тушь) определяют форму.
Четырнадцать реформ сделали свое.
В итоге: в пламенно развивающемся иероглифе «ма» (лошадь) уже немыслимо распознать облик трогательно осевшей на задние ноги лошадки письменного стиля Цзан Се, лошадки, так хорошо знакомой по древнекитайской скульптуре (рис. 1).
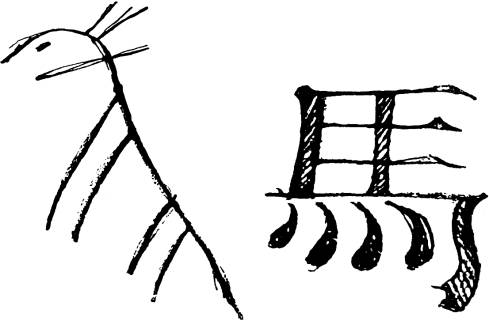
Рис. 1
Но бог с ней, с лошадкой, как и с 607-ю остальными знаками «сянь-хинь» — первой изобразительной категорией иероглифов.
Самый интерес начинается со второй категории иероглифов — «хой-и», то есть «совокупной».
Дело в том, что совокупность… скажем лучше, сочетание двух иероглифов простейшего ряда рассматривается не как сумма их, а как произведение, то есть как величина другого измерения, другой степени; если каждый в отдельности соответствует предмету, факту, то сопоставление их оказывается соответствующим понятию. Сочетанием двух «изобразимых» достигается начертание графически неизобразимого.
285 Например: изображение воды и глаза означает — «плакать»,
изображение уха около рисунка дверей — «слушать»,
собака и рот — «лаять»,
рот и дитя — «кричать»,
рот и птица — «петь»,
нож и сердце — «печаль» и т. д.
Да ведь это же — монтаж!!
Да. Точно то, что мы делаем в кино, сопоставляя по возможности однозначные, нейтральные в смысловом отношении, изобразительные кадрики в осмысленные контексты и ряды.
Неизбежный способ и прием в любом кинематографическом изложении. И в конденсированном и очищенном виде — отправная точка для «интеллектуального кино»,
кино, ищущего наибольшей лаконики зрительного изложения отвлеченных понятий.
Пионером на этих путях приветствуем метод покойного (давно покойного) Цзан Се.
* * *
Раз уж о лаконике. Лаконика дает нам переход к другому. Япония обладает самым лаконичным видом поэзии: «хай-кай» (возникшее в начале XII века) и «танка»1.
Они — почти перенесенная в фразеологию иероглифика. И даже половина их достоинства расценивается каллиграфичностью их начертания. Метод же их решения вполне аналогичен.
Этот метод, который в иероглифике является средством лаконического запечатлевания отвлеченного понятия, перенесенный в словесное изложение, родит такую же лаконику заостренной образности.
Метод, свернутый в суровое сочетание знаков, высекает в их столкновении сухую определенность понятия.
Тот же метод, развернутый в богатство уже словесных сочетаний, разворачивается в пышность образного эффекта.
Формула — понятие, упышняясь, разворачиваясь на материале, превращается в образ — форму.
Совершенно так же, как примитивная форма мышления — образное мышление, сворачиваясь с определенной стадии, переходит в мышление понятиями.
Но переходим к примерам:
«Хай-кай» — это насыщенное импрессионистическое кроки:
«В печи две блестящие точки: кошка сидит». (Ге-Дай).
Или «Старинный монастырь. Холодная луна. Волк лает». (Хикко).
Или: «В поле тихо. Бабочка летает. Бабочка уснула» (Го-Син).
286 «Танка» несколько длиннее (на две строчки):
Тихо идущий
Горный фазан; хвост его
Тянется сзади.
Ах, ночь бесконечную
Один проведу ли я.
(Хитомаро. Перевод О. Плетнера)
По нашему — это монтажные фразы, монтажные листы.
Простое сопоставление двух-трех деталей материального ряда дает совершенно законченное представление другого порядка — психологического.
И если здесь расплываются остро отточенные края интеллектуальной формулировки понятия сопоставления иероглифов, то оно несоизмеримо расцветет в своей эмоциональности.
Японское письмо — не знаешь,
то ли оно буквенное начертание, то ли оно самостоятельное произведение графики…
Рожденный на двуедином скрещении изобразительного по приему и обозначительного по назначению, метод иероглифа продолжил свою традицию не только в литературу, как мы указали, и в «танке» (не исторически последовательно, а принципиально-последовательно для создавших этот метод мозгов).
Абсолютно тот же метод работает и в наиболее совершенных образцах японского изобразительного искусства.
Сяраку2. Он автор лучших эстампов XVIII в[ека], особенно бессмертной галереи актерских портретов. Японский Домье. Тот Домье, которого Бальзак — сам Бонапарт литературы — в свою очередь называл «Микеланджело карикатуры».
И при всем этом Сяраку у нас почти не знают.
Характерные признаки его произведений отмечает Юлиус Курт3. Излагая вопрос влияния скульптуры на Сяраку, он проводит параллель между портретом актера Накаяма Томисабуро4 и древней маской полурелигиозного театра Но5 — маской Розо (старого бонзы, рис. 2):
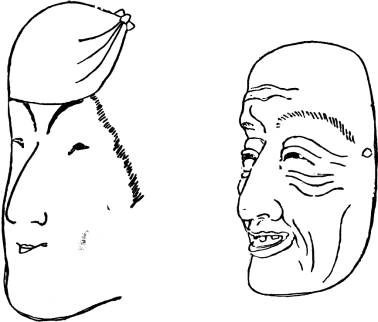
Рис. 2
«… то же выражение в маске, тоже созданной во дни Сяраку, как и в портрете Томисабуро. Членение лица и распределение масс очень схожи между собой, хотя маска изображает старца, а гравюра — молодую женщину (Томисабуро в роли женщины). Бросающееся в глаза сходство, а между тем между обоими нет ничего общего. Но как раз здесь мы обнаруживаем характернейшую для Сяраку черту: в то время как маска высечена из дерева в почти правильных анатомических пропорциях, — пропорции в лице на эстампе — просто невозможны. Расстояние между глазами столь огромно, что похоже на издевательство над всяким здравым смыслом. Нос, по сравнению с глазами по крайней мере, вдвое длиннее, 287 чем это может себе позволить нормальный нос, подбородок по отношению ко рту вообще вне всяких пропорций; брови, рот, вообще каждая деталь по отношению к другим совершенно немыслима. То же мы можем проследить на лицах всех крупных голов Сяраку. Совершенно исключена возможность, чтобы великий мастер не знал ошибочности соотношения их размеров. Он совершенно сознательно отказался от естественности, и в то время как каждая отдельно взятая деталь построена на принципах концентрированнейшего натурализма, общее композиционное их сопоставление подчинено только чисто смысловому заданию. Он брал за норму пропорций квинтэссенцию психологической выразительности…» (Юлиус Курт, Сяраку, стр. 79, 80, 81, München).
Не то же ли это, что делает иероглиф, сопоставляя самостоятельный «рот» и безотносительного «ребенка» для смыслового выражения «крика»?
И не то же ли мы делаем во времени, как он в единовремени, вызывая чудовищную диспропорцию частей нормально протекающего события, когда мы его внезапно членим на «крупно схватывающие руки», «средние планы борьбы» и «совсем крупные вытаращенные глаза», делая монтажную разбивку события на планы?! Глаз вдвое больше человека в полный рост?! И из сопоставления этих чудовищных несуразностей мы снова собираем воедино разложенное событие, но в нашем аспекте; в нашей установке по отношению к явлению.
288 * * *
Диспропорциональное изображение явления органически изначала свойственно нам. А. С. Лурья показывал мне детский рисунок на тему «топить печку».
Все изображено в сносных взаимоотношениях и с большой добросовестностью. Дрова. Печка. Труба. Но посреди площади комнаты громадный испещренный зигзагами прямоугольник. Что это? Оказывается — «спички». Учитывая осевое значение для изображаемого процесса именно спичек, ребенок по заслугам отводит им и масштаб.
Представление предмета в действительно (безотносительно) ему свойственных пропорциях есть, конечно, лишь дань ортодоксальной формальной логике,
подчиненности нерушимому порядку вещей.
И в живопись и скульптуру периодически оно и неизменно возвращается в периоды установления абсолютизма,
сменяя экспрессивность архаической диспропорции в регулярную «табель о рангах» казенно устанавливаемой гармонии.
Позитивистский реализм отнюдь не правильная форма перцепции6. Просто — функция определенной формы социального уклада,
после государственного единовластия насаждающего государственное единомыслие.
Идеологическое униформирование, вырастающее образно в шеренгах униформ гвардейских лейб-полков…
* * *
Итак, мы видели, как принцип иероглифа — «обозначение через изображение» — разошелся надвое.
По линии своего назначения (принцип «обозначение») в принципы создания литературной образности.
По линии приемов осуществления этого назначения (принцип «изображение») в изумительные приемы выразительности Сяраку.
И как о двух расходящихся крылах гиперболы принято говорить, что они встречаются в бесконечности (хотя никто и не бывал в местах столь отдаленных!), так и принцип иероглифики, бесконечно разойдясь надвое (согласно функциональности признаков), внезапно опять из двойственной разобщенности вновь соединяется уже в четвертой сфере — в театре.
Отчужденные столь надолго, они одно время — колыбельное время драмы — присутствуют параллельно любопытным дуализмом.
Обозначение сюжета — представление сюжета — делает немая марионетка на сцене, так называемая дзёрури.
289 Вместе со специфической манерой двигаться эта архаика переходит и в раннее Кабуки7. Сохраняется, как частичный прием, и посейчас в классическом репертуаре.
Ну и пусть его. Не в этом соль.
Но в самую технику иероглифический (монтажный) метод игры вклинился любопытнейшими приемами.
Но прежде чем перейти к ним, раз мы уже заговорили об изобразительной стороне, остановимся на полустанке вопроса о кадре, чтобы зараз с этим вопросом и покончить.
Кадр.
Маленький прямоугольник с как-то в нем организованным кусочком события.
Приклеиваясь друг к другу, кадры образуют монтаж. (Конечно, когда это в соответствующем ритме!)
Так примерно учит старая кинематографическая школа.
Так по винтику,
По кирпичику…8
Кулешов9, например, прямо так кирпичом и пишет: «… Если имеется мысль-фраза, частица сюжета, звено всей драматургической цепи, то эта мысль выражается, выкладывается кадрами — знаками, как кирпичами…» (Л. Кулешов. «Искусство кино». Изд. Теакинопечать, стр. 100.)
Так по винтику,
По кирпичику…
— как говорили.
Кадр — элемент монтажа.
Монтаж — сборка элементов.
Вреднейший способ анализа,
где осмысление какого-либо процесса целиком (связь кадр — монтаж) делается только через внешние признаки его протекания (кусок клеится к куску).
Так можно, например, дойти до пресловутого объяснения, что трамваи существуют для того, чтобы их клали поперек улицы. Вполне логичный вывод, если ограничиваться на тех функциях, которые они исполняли, например, в февральские дни семнадцатого года. Но МКХ10 глядит иначе.
Худшее же в этом деле то, что подобный подход ложится действительно неперелазным трамваем поперек возможностей формального развития.
Подобный подход обрекает не на диалектический рост, а лишь на эволюционное «совершенствование», поскольку нет вгрызания в диалектическую сущность явления.
290 В конце концов подобное эволюционирование приводит или через рафинированность к декадансу, или, наоборот, к простому захирению от застоя кровей.
Как ни странно, обоим случаям одновременно мелодичный свидетель — «Веселая канарейка»11.
* * *
Кадр вовсе не элемент монтажа.
Кадр — ячейка монтажа. По ту сторону диалектического скачка в едином ряде кадр — монтаж.
Чем же характеризуется монтаж, а следственно, и его эмбрион — кадр?
Столкновением. Конфликтом двух рядом стоящих кусков. Конфликтом. Столкновением.
Передо мной лежит мятый пожелтевший листок бумаги. На нем таинственная запись: «Сцепление — П» и «Столкновение — Э».
Это вещественный след горячей схватки на тему о монтаже между Э — мною и П — Пудовкиным12. (С полгода назад.)
Такой уж заведен порядок. С регулярными промежутками времени он заходит ко мне поздно вечером, и мы при закрытых дверях ругаемся на принципиальные темы.
Так и тут. Выходец кулешовской школы, он рьяно отстаивал понимание монтажа как сцепления кусков. В цепь. «Кирпичики». Кирпичики, рядами излагающие мысль.
Я ему противопоставил свою точку зрения монтажа как столкновения. Точка, где от столкновения двух данностей: возникает мысль.
Сцепление же лишь возможный — частный случай в моем толковании.
Помните, какое бесконечное количество комбинаций знает физика в вопросе удара (столкновения) шаров.
В зависимости от того, упругие они, неупругие или смешанные. Среди этих комбинаций есть и такая, когда столкновение деградирует до равномерного движения обоих в одном направлении.
Это соответствовало бы точке зрения Пудовкина. Недавно я беседовал с ним снова. Сейчас он стоит на моей тогдашней точке зрения.
Правда, за это время он имел случай ознакомиться с комплектом моих лекций, читанных за это время в ГТК…13 Итак, монтаж — это конфликт.
Как основа всякого искусства всегда конфликт. (Своеобразное «образное» претворение диалектики). Кадр же является ячейкой монтажа.
291 И, следственно, рассматривать его надлежит тоже с точки зрения конфликта.
Внутрикадровый конфликт —
потенциальный монтаж, в нарастании интенсивности разламывающий свою четырехугольную клетку и выбрасывающий свой конфликт в монтажные толчки между монтажными кусками;
как зигзаг мимики, теми же изломами выплескивается в зигзаг пространственной мизансцены,
как лозунг: «Тщетны россам все препоны», разражается многотомными перипетиями романа «Война и мир».
Если уж с чем-нибудь сравнивать монтаж, то фалангу монтажных кусков — «кадров» — следовало бы сравнить с серией взрывов двигателя внутреннего сгорания, перемножающихся в монтажную динамику «толчками» мчащегося автомобиля или трактора.
Внутрикадровый конфликт. Он может быть весьма разнообразен: он может быть даже… сюжетен. Тогда это «Золотая серия». Кусок на 120 метров. И ни разбору, ни вопросам киноформы не подлежит.
Но «кинематографичны»:
конфликт графических направлений (линий),
конфликт планов (между собой),
конфликт объемов,
конфликт масс (объемов, наполненных разной световой интенсивностью),
конфликт пространств и т. д.
Конфликты, ждущие лишь одного толчка интенсификации, чтобы разлететься в пары кусков антагонистов. Крупного и мелкого плана. Графически разнонаправленных кусков. Кусков, решенных объемно, с кусками, решенными плоско. Кусков темных и светлых… И т. д.
Наконец, имеются и такие конфликтные неожиданности, как:
конфликт предмета и его пространственности и конфликт события и его временности.
Как ни странно это звучит — это давно знакомые нам вещи.
Первое — оптическое искажение объективом, второе — мультипликации, или zeitlupe46*.
Сведение всех данных кинематографа к единой формуле конфликта и кинематографических признаков в диалектический ряд по одному признаку — не пустая риторическая забава.
Мы сейчас ищем единую систему приемов кинематографической выразительности по всем его элементам.
Приведение их [к] ряду общих признаков решит задачу в целом.
292 Опыт по отдельным элементам кино совершенно несоизмерим.
Если мы знаем очень много о монтаже, то по теории кадра мы барахтаемся между Третьяковкой, Щукинским музеем14 и набившими оскомину геометризациями.
Рассмотрение же кадра как частного молекулярного случая монтажа — расшибание дуализма «кадр — монтаж», дает возможность непосредственного приложения монтажного опыта к вопросу теории кадра.
То же по вопросу теории освещения. Ощущение его как столкновения тока света с преградой, подобно струе из брандспойта, ударяющейся по предмету, или ветру, сталкивающемуся с фигурой, должно дать совершенно по-иному осмысливаемое пользование им, нежели игра «дымками» и «пятнами».
Пока одним таким знаменателем является принцип конфликта:
принцип оптического контрапункта. (О нем в другой раз подробнее.)
* * *
Сейчас же не забыть, что ведь нам предстоит решить и не такой еще контрапункт, а именно конфликт акустики и оптики в звучащем кино.
Пока же вернемся к одному из любопытнейших оптических: к конфликту между рамкой кадра и предметом.
293 Точка съемки как материализация конфликта между организующей логикой режиссера и инертной логикой явления в столкновении, дающего диалектику киноракурса.
В этом пункте мы пока что импрессионистичны и беспринципны до тошноты.
А между тем резкая принципиальность имеется и в этой технике.
Сухой четырехугольник, всекающийся в случайность природной раскинутости…
И мы снова в Японии!15
Ибо так кинематографичен один из методов обучения рисованию в японской школе.
Наш метод обучения рисованию:
берется обыкновенный лист русской бумаги о четырех углах. И втискивается в него в большинстве случаев даже без учета краев (края салятся от долгого корпения!) скучная кариатида, тщеславная коринфская капитель или гипсовый Данте (не фокусник, а тот — Алигиери, комедийный автор).
Японцы поступают наоборот.
Вот ветка вишни или пейзаж с парусником.
И ученик из этой общности вырезывает то квадратом, то кругами, то прямоугольником композиционную единицу (рис. 3 и 4).
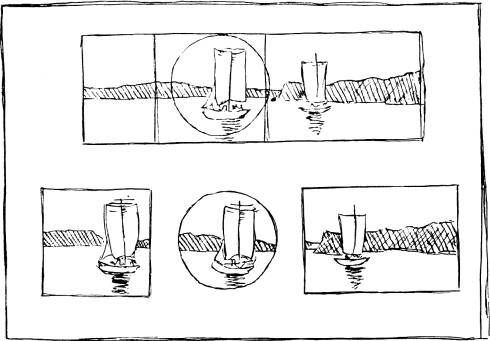
Рис. 3
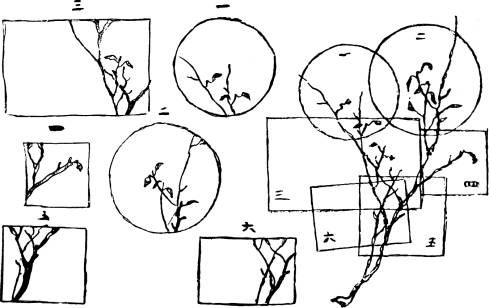
Рис. 4
Берет кадр!
294 И как эти две школы (ихняя и наша) характеризуют борющиеся в сегодняшнем кино две основные тенденции!
Наша школа — отмирающий метод пространственной организации явления перед объективом:
от «постановки» эпизода до возведения перед объективом буквальных столпотворений вавилонских.
И японцы — другой метод — «взятости» аппаратом, организации через него. Вырубание куска действительности средствами объектива.
Правда, сейчас, к моменту, когда центр внимания с материала кино как такового наконец начинает переноситься в интеллектуальном кино на «выводы и заключения», на «лозунги» по материалу, обе школы теряют значимость своей розни и могут спокойно синтетически объединяться.
Страниц восемь тому назад, мы, как калошу в трамвае, потеряли вопрос театра.
Вернемся назад — к вопросу приемов монтажа в японском театре,
в частности, в игре.
Первым и самым поразительным примером, конечно, является чисто кинематографический прием «беспереходной игры».
Наравне с предельным изыском мимических переходов японец пользуется и прямо противоположным.
В каком-то моменте игры он прерывает ее. «Черные» услужливо закрывают его от зрителя. И вот он возникает в новом гриме, в новом парике, характеризующих другую стадию (степень) его эмоционального состояния.
Так, например, в пьесе «Наруками»16 решается переход Садандзи17 от опьянения к безумию. Механической перерезкой. И изменением набора (арсенала) цветных полос на лице, выделяя те из них, на которые выпала доля выполнять задание более высокой интенсивности, чем первой росписи.
Этот прием является органичным для фильмы. Насильственное введение в фильму европейской игровой традиции кусков «эмоциональных переходов» опять-таки заставляет кино топтаться на месте. Между тем прием «резанной» игры дал возможность выстраивания совершенно новых приемов. Замена одного меняющегося лица гаммой разнонастроенных лиц — типажа, — всегда более заостренно выразительных, чем слишком податливая и лишенная органической сопротивляемости поверхность лица профактера.
Размыкание между собой полярных стадий выражения лиц в резком сопоставлении применено мною в нашей новой деревенской картине18. Этим достигается большая заостренность «игры сомнения» вокруг сепаратора. Сгустеет ли молоко или нет? Обманство? Деньги? Здесь психологический процесс игры мотивов — веры и сомнения — разложен на оба крайних положения 295 радости (уверенности) и мрака (разочарованности). Кроме того, проведена резкая подчеркнутость этого светом (никак бытово не обоснованным). Это приводит к значительному усилению напряжения.
Другой поразительной чертой Кабуки является принцип «разложенной игры». Так, премьер на женские роли Сиоцио, гастролировавшей в Москве труппы Кабуки, изображая умирающую девушку в «Ваятеле масок», проводил ее на совершенно разомкнутых друг с другом кусках игры.
Игра одной правой рукой. Игра одной ногой. Игра только шеей и головой. Весь процесс общей пред смертной агонии был разъят на сольные отыгрывания каждой «партии» врозь; партии ног, партии рук, партии головы. Разложенность на планы. С укорачиванием отдельных чередований с приближением к… неблагополучному концу — смерти.
Высвобождаясь из-под примитивного натурализма, актер этим приемом всецело забирает зрителя «на ритм», чем и делается не только приемлемой, но чрезвычайно привлекательной сцена, в общей своей композиции построенная на последовательнейшем и подробнейшем натурализме (кровь и т. д.).
Не делая более принципиального различия в вопросе внутрикадровом и монтаже, мы тут же можем привести третий прием.
Японец пользуется в работе медленным темпом такой степени медлительности, которой наш театр не знает. Знаменитая сцена харакири в «Сорока семи верных»19. Такой степени замедленности движения у нас на сцене нет. Если мы в предыдущем примере имели разложение связи движений, то здесь мы имеем разложение процесса движения. Zeitlupe. Я знаю только один случай последовательного применения этого же приема, технически получаемого в кино, в композиционно осмысляемом плане. Обычно это или изобразительность — «Подводное царство» («Багдадский вор»)20 или сон («Звенигора»)21. Еще чаще — просто формальные бирюльки и немотивированное озорничанье камерой («Человек с киноаппаратом»)22. Я [же] имею в виду «Гибель дома Уэшеров» Эпштейна23. Нормально сыгранные состояния, заснятые ускоренной съемкой, давали необычайное эмоциональное нагнетение своей замедленностью на экране (судя по прессе). Если принять во внимание, что аттракционность игры актера для аудитории держится на подражании ей со стороны зрителя, легко свести оба примера на один и тот же мотив. Интенсивность восприятия растет, ибо подражательный процесс по разложенному движению идет легче…
Даже обучение приемам винтовки вдалбливалось «по разложению» в самые тугие моторики «новобранцев»…
Самая же интересная связь японского театра, конечно, со звуковым кино, которое должно и может обучиться у японцев основному для него — приведению к одному физиологическому знаменателю 296 ощущений зрительных и звуковых. Но этому я посвятил целую статью24 в «Жизни искусства» (1928 г., № 34) и возвращаться к этой теме не буду.
Итак, бегло удалось установить пронизанность разнообразнейших отраслей японской культуры чисто кинематографической стихией и основным нервом ее — монтажом.
И только кино впадает в ту же ошибку, что и «левеющее» Кабуки.
Вместо того чтобы суметь выделить принципы и технику их исключительной игры из традиционности феодальных форм того, что они играют, передовые театральные деятели Японии бросаются на заимствование рыхлой бесформенности игры наших «нутрецов»25. Результат плачевен и грустен. В области кино Япония тоже гоняется в подражаниях отвратительнейшим образцам ходкой американской и европейской средней рыночной завали.
Понять и применить свою культурную особенность к своему кино, вот что на очереди для Японии!
Товарищи японцы! Неужели вы это предоставите сделать нам?
1929
297 О ФОРМЕ СЦЕНАРИЯ*
«Номерной сценарий вносит в кинематографию столько же оживления, как номера на пятках утопленников в обстановку морга».
Так я писал в разгар споров о том, каковы должны быть формы изложения сценария.
Этот вопрос не может быть спорным.
Ибо сценарий, по существу, есть не оформление материала, а стадия состояния материала
на путях между темпераментной концепцией выбранной темы и ее оптическим воплощением.
Сценарий не драма. Драма — самостоятельная ценность и вне ее действенного театрального оформления.
Сценарий же — это только стенограмма эмоционального порыва, стремящегося воплотиться в нагромождение зрительных образов.
Сценарий — это колодка, удерживающая форму ботинка на время, пока в него не вступит живая нога.
Сценарий — это бутылка, нужная только для того, чтобы взорваться пробке и пеной хлынуть темпераменту вина в жадные глотки воспринимающих.
Сценарий — это шифр. Шифр, передаваемый одним темпераментом — другому.
Соавтор своими средствами запечатлевает в сценарии ритм своей концепции.
Приходит режиссер и переводит ритм этой концепции на свой язык,
298 на киноязык;
находит кинематографический эквивалент литературному высказыванию.
В этом корень дела.
А вовсе не в переложении в цепь картин, анекдотической цепи событий сценария.
Так формулировали мы требования к сценарию.
И обычной форме «Дребух»1 с номерами этим нанесен серьезный удар.
Написанный в худшем случае простым ремесленником своего дела, он дает традиционное оптическое описание того, что предстоит увидеть.
Секрет не в этом. Центр тяжести в том, чтобы сценарием выразить цель того, что придется зрителю пережить.
А в поисках методики подобного изложения мы пришли к той форме киноновеллы, в какой форме мы и стараемся излагать на экране сотнями людей, стадами коров, закатами солнц, водопадами и безграничностью полей.
Киноновелла, как мы ее понимаем, это, по существу, предвосхищенный рассказ будущего зрителя о захватившей его картине.
Это представление материала в тех степенях и ритмах захваченности и взволнованности, как он должен «забирать» зрителя.
Никаких оков оптического изложения фактов мы не признаем.
Иногда нам чисто литературная расстановка слов в сценарии значит больше, чем дотошное протоколирование выражения лиц протоколистом.
«В воздухе повисла мертвая тишина».
Что в этом выражении общего с конкретной осязаемостью зрительного явления?
Где крюк в том воздухе, на который надлежит повесить тишину?
А между тем это — фраза, вернее, старания экранно воплотить эту фразу.
Эта фраза из воспоминаний одного из участников восстания на «Потемкине» определила всю концепцию гнетущей мертвой паузы, когда на колыхаемый дыханием брезент, покрывающий осужденных к расстрелу, наведены дрожащие винтовки тех, кому предстоит расстрелять своих братьев.
Сценарий ставит эмоциональные требования. Его зрительное разрешение дает режиссер.
И сценарист вправе ставить его своим языком.
Ибо, чем полнее будет выражено его намерение, тем более совершенным будет словесное обозначение.
И, стало быть, тем специфичнее литературно.
И это будет материал для подлинного режиссерского разрешения. «Захват» и для него. И стимул к творческому подъему на ту 299 же высоту экспрессии средствами своей области, сферы, специальности.
Ибо важно договориться о той степени гнета или порыва, которую должны охватить.
И в этом порыве все дело.
И пусть сценарист и режиссер на своих языках излагают его.
У сценариста: «Мертвая тишина».
У режиссера: Неподвижные крупные планы. Тихое мрачное качание носа броненосца. Вздрагивание Андреевского флага. Может быть, прыжок дельфина. И низкий полет чаек.
А у зрителя та же эмоциональная спазма в горле, то же волнение, подкатывающее к горлу, которые охватывали автора воспоминаний за письменным и автора фильма за монтажным столом или под палящим солнцем на съемке.
Вот почему мы против обычной формы номерного протокольного сценария («Дребуха»), и почему за форму киноновеллы.
Примером первой попытки в этом плане, относящейся еще к 1926 году, служит приводимый здесь сценарий «Генеральная линия».
1929
300 РОДИТСЯ ПАНТАГРЮЭЛЬ*
«Что на вывеске, то и в магазине» —
это говорят иногда про лавки.
Иногда про встречных людей.
Нам приходится это сказать про
статью т. Вейсмана.
Что на вывеске-заглавии?
«Гаргантюа растет».
Магазин статьи дает расшифровку.
Гаргантюа — наше кино, по-видимому, звуковое.
Образно? — Да.
Образно верно? — Нет.
Гаргантюа, как сообщает его биограф Рабле, родился из левого уха Гаргамаллы. Уха, да еще левого.
Наша тонфильма родилась… как раз наоборот, не из уха, а из глаза немого кино (если и не от «киноглаза»)1.
Вернее, из бревна в глазу немого кино, [из] мерзейших театральных пережитков внутри его.
Отвечает ли название вывески товарам внутри магазина статьи?
По линии ошибочных ассоциаций, сопутствующих осколкам из моей статьи «Одолжайтесь!», несомненно.
За выбор осколков, их монтаж и ряды индивидуальных ассоциаций к ним со стороны т. Вейсмана мы не отвечаем…
Тот факт, что «в литературе, в теории театра идеалисты всех оттенков отражали мышленный ход посредством внутреннего монолога» и что «идеалистический метод охотно оперирует и приемом внутреннего монолога», еще отнюдь сам по себе не может служить 301 доводом против внутреннего монолога и обязательного соприсутствия с ним идеалистической философии.
Идя такими путями, придется ходить пешком на том основании, что многие идеалисты ездили и ездят на трамваях.
А термин «диалектика природы» пришлось бы изгнать вовсе, ибо и идеалисты нередко пользуются термином… диалектика.
Есть диалектика идеалистическая, и есть диалектика материалистическая.
И почему бы идее внутреннего монолога не могло бы быть присуще подобное же двоякое и прямо противоположное понимание? Обратная сторона той философской «оборотной стороны»… которой т. Вейсман снабжает «внутренний монолог»?
Не спорю, в моей статье я изложил этот вопрос скомканно (и не он являлся основной проблемой статьи, а скорее ее иллюстрацией).
Но, обидевшись на скомканность, т. Вейсман несколько преждевременно и напрасно на меня обиженно дует свои… сологубки…2.
Боясь снова скомкать проблему, на мой взгляд, первостатейной важности, по линии подступов к подлинным формам драматургии тонфильм, я позволю себе отнести подробный разбор и изложение этого вопроса на большую жилплощадь печатных страниц «Пролетарского кино», где это своевременно имеет появиться и без специального вызова на то со стороны т. Вейсмана.
За недостатком времени и места я не могу здесь даже остановиться на явных извращениях, основанных, видимо, просто на невнимательном чтении.
«Мистерия индивидуального монолога» всецело на совести т. Вейсмана.
Внутренний монолог как средство насаждения доктрины стирания грани между субъективным и объективным — тоже.
Параллелизм методу Пруста3 «фиксирования изменения реальной действительности, отнюдь в нее не вмешиваясь», когда сам же т. Вейсман ссылается на мою работу «За кадром», где все вертится вокруг вопроса разъятия действительности и новой монтажной сборки ее в нашей классовой установке и т. д. и т. д.
С другой же стороны, не могу не отметить, что то, что т. Вейсман столь свысока называет «только полустанок, на котором мы чуточку задержались», идет как раз по линии чрезвычайно серьезной реконструкции именно той самой «архитектоники кинодействия», о которой пишет т. Вейсман как о чем-то, видимо, давно определенном, имманентном и ему хорошо известном.
Любопытная это архитектоника, включающая, например, такое неожиданное положение, «что диалог в тонфильме должен жить в усеченной форме, отнюдь не напоминая собой диалога театрального» (утверждения о «лаконичности» и «максимальном напряжении» — 302 «общие места», давно известные даже за пределами кинематографа).
Нам же хочется видеть элементы тонфильмы не «усеченными» скопцом примет47*, взятых напрокат из других разновидностей искусств.
К элементам даже внешней преемственности нам желательна найти подход, обновленный и изнутри специфики и новизны возможностей тонфильмы.
Ведь утверждение т. Вейсмана, что в тонфильме «нельзя забывать языка кинематографа — языка движения», — не более как «афоризм», и не из слишком свежих.
Этот «язык движения» не только нельзя забывать, но, к сожалению, его приходится целиком выстраивать.
И почти с голого места.
Драматургия тонфильмы, идет ли она от театра или от немого кино, имеет [возможность] в равной мере с переходом в это новое-качество сделать «скачок» диапазончика не меньшего, чем размах скачка человеческих средств социального общения от стадии диффузного сознания и нечленораздельных звуков к стадии членораздельно осмысленной речи и сознательного мышления.
Никакие традиции усекновенных глав Аристотеля4 здесь не помогут.
Признаки видоизменяются, а не «перешиваются» с переходом из одной стадии развития в другую.
Тришкины кафтаны не годятся там, где имеем дело с переходом в новое качество.
Что все явления, в конечном счете, сводимы к «движению», говаривал еще Плеханов.
Сказать о движении просто — это сказать все и это же не сказать ничего.
Язык кино — язык движения (плюс слово в тонфильме).
Но и язык театра — язык движения (плюс слово, если это не пантомима).
Движение и движение.
Но «движение»-то разное в обоих случаях.
И оно определяет специфику областей
при едином общем социальном базисном определителе, их надстроечно определяющем.
Базируясь на определенной области человеческого проявления («движения»), характерно для своей области, разновидность искусства приобретает соответственный закон строения, специфичный для него.
Так, нам кажется, что театр является в первую очередь реконструкцией действий и поступков социально проявляющегося человека.
303 И этот факт определяет и определил специфику театрально-драматургической концепции, членения, структуры и строения, развивающихся и видоизменяющихся неразрывно с ходом социального развития, сохраняя, однако, черты своей специфики как разновидности зрелища.
Кино же нам кажется по своей специфике воспроизводящим явления по всем признакам того метода, каковым происходит отражение действительности в движении психического процесса.
(Нет ни одной специфической черты кинематографического явления или приема, которое не отвечало бы специфической форме протекания психической деятельности человека.)
В осознании этого и конструктивном его приложении, на наш взгляд, — ключ подхода к специфической драматургии тонфильмы.
Она так же качественно и стадиально будет относиться к театральной драматургии, как ход мысли к обыкновенной прогулке.
По этой линии будут найдены и специфические приемы выразительности тонфильмы и законы построения любых ее элементов.
Среди их бесконечного разнообразия найдет свое место, несомненно, и пресловутый элемент диалога, отнюдь не напоминающий собой диалога театрального. Ибо он будет сконструирован на базе подлинной специфика своей области и, действительно, театра напоминать не будет.
Как ни парадоксально, но это будет структура диалога, перестроенная на основе специфики выразительных средств тонфильмы как структуры «внутреннего монолога».
Вот часть того, что мы понимаем под «монтажной формой как реконструкцией мышленного хода».
Опять скомкано?
Возможно.
Но даже в таком виде как это далеко от жалкого кастрата — усеченного диалога т. Вейсмана.
К сведению т. Вейсмана:
эксперимент «внутреннего монолога» как частного сюжетного решения — «полустанок», но полустанок в том смысле, как Гаргантюа-отец — «полустанок» между дедом Грангузье и Пантагрюэлем-внуком (насколько термин уместен, судите сами).
Со свистком пока погожу.
Свистну, проработав этот вопрос (следующего этапа за «внутренним монологом») также и практически.
Но зато уж:
«Еду, еду — не свищу,
а наеду — не спущу».
1933
304 ВОЛКИ И ОВЦЫ
Режиссер
и актер*
Я глубоко принципиально стою за коллективизм в работе. Подавление инициативы любого члена коллектива считаю весьма неправильным. Больше того, на Всесоюзном совещании по кино1 формулировал это совсем резко: «Только бездарный коллектив может существовать на затирании одной творческой индивидуальности другою».
Однако и в этом вопросе существует борьба на два фронта. И есть и бывают случаи, когда «железная пята»2 режиссера не только законна, но и необходима.
Всякий согласится, что объемлющим требованием актерски-режиссерского взаимного творчества будет единство стиля, единство стилистического предвидения и воплощения вещи. Для вещи большой стилистической (но стилизационной!) отчетливости это требование возрастает сугубо. Внутри этого единства возможна любая кооперативная творческая взаимосвязь. И вовсе не только актера и режиссера. В не меньшей мере режиссера и композитора. И, может быть, больше всего в паре оператор — режиссер. Мы имеем здесь в виду в первую очередь кино, где все эти проблемы выступают напряженнее, интенсивнее и сложнее. Так[ое] явление имеет место внутри единства стилистического восприятия у всего коллектива.
Когда же закономерно «столкновение»? Когда же закономерно проявление «злой воли» режиссера? Прежде всего в том случае, когда наличествует стилистическая недоосознанность со стороны кого-либо из равноправных членов коллектива. Ибо вне всяких разговоров о диктатуре и прочем за целостность, за единство, за стилистический комплекс вещи поставлен отвечать режиссер. Такая 305 уже это функция. Режиссер — объединитель в этом смысле. Вырабатываться это стилистическое единство может и желательно всем коллективом. Но здесь театр в лучшем положении. Репетиционный этап протекает на совместном росте и работе вокруг и внутри постановки. Отдельная индивидуальность врастает в общую концепцию, в единый облик произведения.
В кино дело гораздо сложнее. Предвидение, закрепленное в номерной железный сценарий, почти полная неизменяемость раз закрепленного на пленку — без «откровения» на последней репетиции. Сложнее и по типу работы, и по степени участия, и по проценту наличия [стилистического единства] в картине. И может быть, больше всего по трудности согласования актерского разрешения для самого актера со стилистическим письмом крыла специфических элементов кино, далеко не всегда постигаемых и понятных актеру: композиционная линия, напр[имер], кадра и монтажа, очевидно, должна быть в едином ключе с остальными элементами. Но всякий строй музыки, не всякий оттенок трактовки роли, не всякое построение кадра и не всякий строй монтажного письма будут соответствовать друг другу. Каждый из этих творчески соединяющихся элементов, таким образом, уже не свободен. Выпадение из «ключа» ему уже непозволительно. Иначе неизбежный бедлам. К этому присоедините еще специфику кинотруда. Хотя бы невозможность исполнителя пройти сквозь видение всех частей хода съемок, как, напр[имер], в театре, где не только желательно, но и обязательно творческое соучастие, хотя бы в дозе соприсутствия, во всех частях репетиционного становления спектакля.
Поэтому киноартисту потребна еще большая интуитивная чуткость к стилю и ключу, в котором ведется построение в целом. Минимальное вторжение своего, стилистически противоречивого внутрь концепции, обнимающей единым ключом и стилем и композиционный график сквозь всю цепь пластической формы кадров (до точки съемки полей ржи или характера ночного освещения). Ведь иная нота интонации, иной ритм двигательного сочетания — часто вовсе не разница внутри общего плана роли, а элемент из «другой оперы» — элемент другого плана, причем плана, отвечающего плану… иной картины!
Актерская чуткость, подкрепленная режиссерским объяснением и показом — больше того — стилистическим запросом их, подсказывает исполнителю тот плоскостной сдвиг, в котором, по-видимому, решены и остальные элементы. Интонационный строй, отвечающий письму столь популярной шишкинской «Медведицы с медвежатами»3, вряд ли прозвучит внутри фильма, где стилистически уместно построение серовского типа4! Ведь это же прозвучит и на фактуре оркестровки. Композитор не ошибется в тембрах. Реалистически народная мелодия не обязательно решится натуралистически — на народном инструменте.
306 И причины нападок, на якобы диктаторские замашки некоторых режиссеров как раз лежат в этом. Это крыло режиссеров имеет претензию в наилучшем смысле — не ограничиваться только изобразительной правдивостью, но еще и стремиться к стилистически образному единству композиции. Это требует большой чуткости слуха. Иногда на этот слух наступает шишкинская медведица. Тогда это требует режиссерского корректива. Корректив стилистической манеры задевает самолюбие. В результате ярлык диктатора, набрасываемый на режиссерскую репутацию.
Так рисуется мне возникновение проблемы режиссер — актер.
1935
307 ПУШКИН И КИНО
Предисловие*
Ленин завещал нам гениальное указание о наследстве.
Наше дело проводить его на практике.
Это надо уметь. Далеко не все умеют. Особенно сложно в нашем деле, ибо нет прямых предков кино, а предки все косвенные.
Легко (сравнительно) писать «под Толстого», «под Хемингуэя» и т. д.
Не так глупо, ибо с подражания начинается. Знаем случаи, что писатели переписывали целые произведения. Это — не наивная затея. Это — нахождение движения другого писателя-классика, исходного движения его мысли и чувства, которые отлагались в ту или иную систему зрительных и звуковых образов, словосочетаний и проч.
В восхождении к этому исходному движению — первичному жесту — писателя, с одной стороны, сложность (просто «сдирать» легче, чем изучать!), с другой стороны — возможность пользовать литературу и не только в интересах прямых — литературных наследников, но в интересах косвенных наследников, например кинематографа (см. об этом ниже).
Но здесь помогает еще одна особенность, на которую сравнительно мало обращают внимания.
Эпоха победившего социализма — единственная эпоха, дающая возможность создания всесторонне исчерпывающего совершенства произведений.
По этому стандарту мы проверяем и проверять будем нашу классику. Отражением в литературе есть и будет столь всесторонне совершенное социальное бытие, что в произведениях достигается 308 полная гармония всех элементов, чего не было и не могло быть в предыдущей эпохе.
Достижение этого в прошлой эпохе — великая редкость и доступно было только исключительно гениальным творцам (наличие в них этой черты и есть одно из условий, определяющих их как гениальных). Но даже и в этих условиях в каждом, даже наиболее великом писателе были элементы, стоявшие у него на первом плане совершенства, и элементы, не достигавшие того же уровня. Обвиняли же Бальзака в неряшливости литературного языка, Шекспира — в композиционной небрежности и неполноценности «Гамлета»48*, «Германа и Доротею» Гете1 — «положительно невозможно читать» и его же «Ифигению в Тавриде» — вряд ли можно играть. Сочинения Клейста2 рядом с гениальностью обнаруживают ничтожество, достойное Клопштока3 (об этом очень выразительно и вразумительно пишет Стефан Цвейг4). И т. д. и т. д.
В задачу критики историко-литературной входят разбор и оценка этих явлений. Подобно вагнеровскому Бекмессеру из «Мейстерзингеров»5, в ее обязанность входит оценка этих явлений, если угодно, и установление разрядов и критических рекомендаций по тем или иным авторам. Здесь клеймится диспропорция черт совершенства. Анализируются предпосылки и условия возникновения подобных явлений. Здесь особенно сурово подчеркивается неполнота социального отражения своей эпохи, вытекающая из чрезмерного порабощения сознания писателя социальной ограниченностью своего времени, невозможность преодолеть эти узы etc. (критика Лениным Толстого, Энгельсом — Золя).
Но иначе обстоит дело с прикладным изучением классиков. Здесь — гиперболизация отдельных черт отнюдь не всегда отрицательное явление. Иногда даже наоборот, ибо дает возможность как бы в увеличительное стекло распознать черты, которые в условиях идеальной гармонии настолько «впаяны» в стройное целое, что их изоляция в целях изучения удается с трудом49*.
Коротко говоря, у каждого писателя надо знать, что изучать. Особенно в условиях даже не литературной учебы, а учебы… кинематографической.
Споры о том, кто лучше или на кого ориентироваться, в таком случае отпадут.
Дело будет идти не о той или иной фигуре писателя в целом, а о тех или иных чертах в его творчестве, особенно плодотворно представленных для освещения той или иной частной проблемы композиции 309 или творчества. Очевидно, что «малые» писатели внесут меньше, а гении сделают вклады по всем почти статьям.
Когда-то я вел во ВГИК семинар по Эмилю Золя (1928/29 год). Проделывалась очень большая работа по некоторым чисто кинематографическим элементам пластической стороны его творчества и по ряду композиционных особенностей, характерных в литературе почти исключительно для этого писателя и близких по своей природе к кинематографу. Тогда же, не вникнув в существо того, что из творчества Золя нами разрабатывается, ряд товарищей, вооруженных известной цитатой Энгельса о превосходстве Бальзака над Золя6, пытались объявить поход против нашей работы, прокламируя, что учиться следует у Бальзака, а «ориентация» на Золя «порочна».
Во-первых, дело не в «ориентации», то есть не в каноническом приятии Золя целиком за идеал, а в изучении на Золя ряда специфических черт, особенно поучительно представленных в его творчестве. Во-вторых, и указанное Энгельсом превосходство Бальзака отмечено по совершенно определенным показателям. Социально-экономической документации, которая так пленяет Энгельса, у Золя, конечно, не обнаружится, как не обнаружится и многого другого.
Но, с другой стороны, у того же Золя мы найдем громадное количество элементов, чрезвычайно важных для кинематографистов, которые вовсе отсутствуют в письме Бальзака.
Раскройте любую страницу Золя. Она настолько пластически, зрительно написана, что по ней буквально можно делать «выписки», начиная с ремарок режиссера (эмоциональная характеристика сцены), точных указании декоратору, осветителю, реквизитору, артистам и проч. И сличите с любой самой блестящей страницей Бальзака: окажется, что для зрительного ее воплощения понадобится грандиозная, «конгениальная» работа над пластикой, ибо все описано в манере чисто литературных оборотов, непосредственно не переводимых в систему зрительных образов (сличить сцены у нотариуса из «Земли» со страницей из начала «Шагреневой кожи»!)7
Все это прекрасно, скажут мне, не в одной пластике дело, основное — образы и характеры людей, а здесь Бальзак превосходит Золя.
Вот именно: за характерами мы будем обращаться к Бальзаку, а за пластикой кинематографического письма — в первую очередь к Золя.
Но и еще за одним элементом, тесно связанным с характером, мы все же тоже будем заглядывать к Золя — за умением пластически сочетать человека со средой.
«Неполнота» человека в обрисовке Золя сравнительно с «рельефностью» Бальзака тоже требует своей поправки.
310 Персонаж Бальзака благодаря его манере изложения мне всегда напоминает толстого сеньора Веласкеза8 (может быть, по сходству его оригинала с самим Бальзаком?!). И старик Горио9, и Вотрен, и отец Гранде, и кузина Бетта, и кузен Понс, и Цезарь Бирото кажутся, подобно персонажу Веласкеза, трехмерными, во весь рост на пьедесталах, при башмаках и шпагах, вылепленными до последнего локона или уса, митенки или перчатки.
Вспоминая же персонажи Золя, неразрывно видишь их в манере дорогих ему Дега или Мане10, особенно Мане. И, пожалуй, больше всего в манере его бара в Мулен-Руже11.
Неполнота их кажется такой же, как неполнота изображения девушки за баром. Она срезана стойкой. Такой же неполной выглядит ее подруга-кельнерша с другой картины, где обрублены рамкой картины ноги, а левая грудь закрыта точно по тому же контуру круглой головой пьющего посетителя.
Никому в голову не придет считать этих девушек анатомическими полудевами. Совершенно так же, как залитые тенью части лица у персонажей Рембрандта не считаются отсутствием соответствующих челюстей, висков, лбов или глаз в ямах глазных впадин (особенно на офортах).
Очевидно, здесь даны сгустки наиболее определяющих деталей персонажей — «крупные планы» (недаром живопись времен Золя связана с влиянием мастеров крупного плана — японцев). Но мало этого. Образ недорисован, но отнюдь не недосказан. И досказывают его и стойка бара, и отражение в зеркале за спиной, и кружка пива, и голова посетителя, так лукаво утаившего грудь девушки. Образ действующего лица выписан всем комплексом элементов обихода, неразрывных с персонажем.
Бальзак не менее аккуратен в отношении элементов, связанных с обиходом и деятельностью человека. Но Бальзак дает их номенклатурно: описательными перечислениями (чаще всего с описанием фирм, их изготовляющих, обычно с ценами и почти с номерами каталогов). И выходит, что, получив у Бальзака человека и все сопутствующие ему предметы обихода и обстановки, самому приходится группировать их в картину, прикрывая ногу персонажа краем стола, прикрывая персонажем в подробностях выписанную обивку стены, ставя предметы друг перед другом и позади друг друга. В этом искусстве Бальзак вам не помогает. И, наоборот, Золя вас непрестанно проводит сквозь образ, например, Нана12 на скачках, который столько же скачки, сколько и Нана. Он врезает вам в память незабываемый «кадр» (именно кадр), когда черная фигура Эжена Ругона13 перерезает своей тенью белые фигуры статуй Палаты или как плотоядная красная тональность поглощает собой внутренность Нотр Дам в сцене крестин сына Наполеона III14. Правда, за это на вашу долю выпадает прокомментировать не одним историческим комментарием «Ругон-Маккаров», 311 чтобы получить полную социально-экономическую картину эпохи Наполеона III, и приходится проделать собственную творческую работу для того, чтобы до полной жизненности Нюсинжена15 дописать какого-нибудь Саккара16.
И мы снова приходим к исходному нашему тезису: обращаться к каждому писателю за тем, в чем он мастер. И, оставляя на долю литературной критики подсчет очков качественных попаданий, определяющих его положение в «табели о рангах» литературы, скромно учиться у одного лепке характера, а у другого — пластическому воплощению характера на плоскости холста и т. д.
А главное: не путать адреса. Не требуя у Флобера достоинств Гоголя и не учась у Достоевского тому, в чем неповторим Толстой, и vice versa50*! Так же неразумно весной искать яблоки, летом требовать снега, а зимой — анютиных глазок.
Положительно нужен «путеводитель кинематографиста» по классикам литературы. Впрочем, и по живописи. И по театру. И по музыке. И по драматургии51*.
Нужно научиться тому, о чем с такой прекрасной скромностью пишет в своей автобиографии Бусыгин17: «В Промакадемии я научился главному — учиться». Нужно учиться читать. Научиться надо этому, чтобы писать: писателю — страницы литературного сценария; режиссеру — листы режиссерского сценария, или кадры своих предварительных набросков, или готовые образы на холсте экрана. (Горький о Толстом: что отсвет печки при таком соразмещении печки и стола на скатерти быть не может)18.
Кто из писателей способен похвастаться такой же ответственностью видения (и слышания) внутри своего чисто литературного произведения, не говоря уже о пасынке большой литературы — о киносценарии?
А ведь только строки такой ответственности письма способны вылиться в столь же полноценную систему звукозрительных образов на экране.
Литература как таковая имеет много средств и обходного изложения, как угодно остро воспринятого. Но без этой предпосылки все эти замещающие формы столь же пусты.
В кинописи ответственность растет несказанно.
Величие Пушкина. Не для кино. Но как кинематографично!
Поэтому начнем с Пушкина.
1939
313 ПРИЛОЖЕНИЯ
315 БУДУЩЕЕ ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМЫ
Заявка*
Заветные мечты о звучащем кинематографе сбываются.
Американцы, изобретя технику звучащего кино, поставили его на первую ступень реального и скорого осуществления.
В этом же направлении интенсивно работает Германия.
Весь мир говорит сейчас о заговорившем Немом.
Мы, работая в СССР, хорошо сознаем, что при наличии наших технических возможностей приступить к практическому осуществлению удастся не скоро. Вместе с тем мы считаем своевременным заявить о ряде принципиальных предпосылок теоретического порядка, тем более что по доходящим до нас сведениям новое усовершенствование кинематографа пытаются использовать в неправильном направлении1.
Неправильное понимание возможностей нового технического открытия не только может затормозить развитие и усовершенствование кино как искусства, но и грозит уничтожением всех его современных формальных достижений.
Современное кино, оперирующее зрительными образами, мощно воздействует на человека и по праву занимает одно из первых мест в ряду искусств.
Известно, что основным и единственным средством, доводящим кино до такой силы воздействия, является монтаж.
Утверждение монтажа как главного средства воздействия стало бесспорной аксиомой, на которой строится мировая культура кино.
Успех советских картин на мировом экране в значительной мере обусловливается рядом тех приемов монтажа, которые они впервые открыли и утвердили.
1. Поэтому для дальнейшего развития кинематографа значительными моментами являются только те, которые усиливают и расширяют монтажные приемы воздействия на зрителя.
Рассматривая каждое новое открытие с этой точки зрения, легко выявить ничтожное значение цветного и стереоскопического кино по сравнению с огромным значением звука.
2. Звук — обоюдоострое изобретение, и наиболее вероятное его использование пойдет по линии наименьшего сопротивления, то есть по линии 316 удовлетворения любопытства. В первую очередь — коммерческого использования наиболее ходового товара, то есть говорящих фильм. Таких, в которых запись звука пойдет в плане натуралистическом, точно совпадая с движением на экране и создавая некоторую «иллюзию» говорящих людей, звучащих предметов и т. д.
Первый период сенсаций не повредит развитию нового искусства, но страшен период второй, который наступит вместе с увяданием девственности и чистоты первого восприятия новых фактурных возможностей, а взамен этого утвердит эпоху автоматического использования его для «высококультурных драм» и прочих «сфотографированных» представлений театрального порядка. Так использованный звук будет уничтожать культуру монтажа.
Ибо всякое приклеивание звука к монтажным кускам увеличит их инерцию как таковых и самостоятельную их значимость, что будет безусловно в ущерб монтажу, оперирующему прежде всего не кусками, а сопоставлением кусков.
3. Только контрапунктическое использование звука по отношению к зрительному монтажному куску дает новые возможности монтажного развития и совершенствования.
Первые опытные работы со звуком должны быть направлены в сторону его резкого несовпадения со зрительными образами.
И только такой «штурм» дает нужное ощущение, которое приведет впоследствии к созданию нового оркестрового контрапункта зрительных и звуковых образов.
4. Новое техническое открытие не случайный момент в истории кино, а органический выход для культурного кинематографического авангарда из целого ряда тупиков, казавшихся безвыходными.
Первым тупиком следует считать надпись и все беспомощные попытки включить ее в монтажную композицию как монтажный кусок (разбивание надписи на части, увеличение или уменьшение величины шрифта и т. д.).
Вторым тупиком являются объяснительные куски (напр[имер], общие планы), отяжеляющие монтажную композицию и замедляющие темп.
С каждым днем усложняются тематика и сюжетные задания — попытки разрешения их приемами только «зрительного» монтажа приводят либо к неразрешимым задачам, либо заводят режиссера в область причудливых монтажных построений, вызывающих боязнь зауми и реакционного декаданса.
Звук, трактуемый как новый монтажный элемент (как самостоятельное слагаемое со зрительным образом), неизбежно внесет новые средства огромной силы к выражению и разрешению сложнейших задач, угнетавших нас невозможностью их преодоления путем несовершенных методов кинематографа, оперирующего только зрительными образами.
5. Контрапунктический метод построения звуковой фильмы не только не ослабляет интернациональность кино, но доведет его значение до небывалой еще мощности и культурной высоты.
При таком методе построения фильма не будет заперта в национальные рынки2, как это имеет место с театральной пьесой и как это будет иметь место с пьесой «зафильмованной», а даст возможность еще сильнее, чем прежде, мчать заложенную в фильме идею через весь земной шар, сохраняя ее мировую рентабельность.
С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Г. Александров.
1928
317 ДИНАМИЧЕСКИЙ КВАДРАТ*
Возможно, что на первый взгляд эта статья покажется слишком подробной или же предмет ее недостаточно «весомым». Но я стремлюсь показать важность этой проблемы для каждого постановщика, режиссера и оператора и призываю их отнестись к этой проблеме со всей серьезностью. Ибо я содрогаюсь, когда думаю о том, что мы рискуем, не обратив достаточного внимания на эту проблему, допустить стандартизацию новой формы киноэкрана и, не взвесив все «за» и «против», снова парализовать на многие годы все наши поиски новых композиционных форм выбором столь же неудачным, как и тот, от которого практическая реализация широкого фильма и широкого экрана дает нам ныне возможность освободиться.
* * *
Господин председатель, господа члены Академии!
Я думаю, что настоящий момент является одним из великих исторических моментов в развитии изобразительных возможностей экрана. Сейчас, когда неправильное использование звука дошло уже до того, что грозит гибелью изобразительным достижениям экрана, — а все мы знаем слишком много примеров этого! — приход широкоэкранного кино, несущего возможность новых форм экрана, снова окунает нас с головой в вопросы чисто пространственной композиции. Более того, широкий экран дает нам возможность пересмотреть и вновь проанализировать всю эстетику изобразительной композиции в кино, которая на протяжении тридцати лет была неизменной из-за неизменяемости раз и навсегда установленных пропорций рамки экрана.
Да, это великий день!
И тем более трагичным кажется ужасное порабощение ума традиционализмом и рутиной, которое проявляется даже в день этого радостного события.
318 На пригласительном билете на это собрание имеется изображение трех горизонтальных прямоугольников, различных по своим пропорциям: 3 x 4, 3 x 5, 3 x 6, — это и есть предложенные пропорции экрана для показа «широкого фильма». Они же представляют собой пределы, внутри которых вращается творческая мысль преобразователей экрана и создателей новых форматов рамки.
Я не хочу быть преувеличенно символичным или грубым, сравнивая «пресмыкающиеся» прямоугольники предложенных форм с пресмыкающимся духовным уровнем кино, доведенного до этого тяжестью коммерческого давления долларов, фунтов, франков или марок — в зависимости от той точки земного шара, где страдает кино! Но я вынужден указать, что, предлагая эти пропорции на обсуждение, мы лишь подчеркиваем тот факт, что за тридцать лет мы удовлетворялись пятьюдесятью процентами композиционных возможностей, исключив все другие возможности, что было следствием горизонтальной формы рамки.
Говоря об исключенных возможностях, я имею в виду то, что дает вертикальная, «стоячая» композиция. И вместо того, чтобы воспользоваться возможностями, данными нам появлением «широкого фильма» для «взламывания» этой отвратительной верхней части экрана, которая уже тридцать лет гнетет нас (а лично меня шесть лет) и заставляет сохранять пассивную горизонтальность, мы оказываемся на грани еще большего подчеркивания этой горизонтальности.
Я ставлю своей целью защищать эти пятьдесят процентов композиционных возможностей, изгнанных с экрана. Мне хочется пропеть гимн сильной, мужественной, активной вертикальной композиции!
У меня нет желания вдаваться в историю темных фаллических и сексуальных предков вертикальной формы как символа роста силы или мощи. Это было бы слишком легко и, возможно, слишком невыносимо для многих деликатных слушателей!
Но я хочу подчеркнуть, что переход к вертикальной плоскости у наших волосатых предков — переход к более высокому уровню. Эти вертикальные тенденции можно проследить в их биологических, культурных, интеллектуальных и промышленных проявлениях.
Мы начали, ползая, подобно червям, на брюхе. Затем мы веками бегали горизонтально на четырех ногах. Но мы приблизились к подобию рода человеческого только с того момента, когда поднялись на задние ноги и приняли вертикальное положение.
Тот же процесс повторяется при «вертикализации» нашего лицевого угла.
Я не могу (да это и не нужно) вдаваться в детали всего влияния биологической и психологической революции, которая явилась результатом этого кардинального изменения положения. Достаточно перечислить его следствия. Веками люди, как овцы, были согнаны в племена на широких бесконечных полях; они были привязаны к земле вековым рабством по самой природе своего примитивного плуга. Но они отметили вертикальными вехами каждое свое продвижение по ступеням прогресса к более высокому социальному, культурному или интеллектуальному уровню. Прямо стоящий жертвенный столб мистических индийских верований древних времен; обелиски египетских астрологов; Траянов столб1 — воплощение политической мощи Римской империи; крест «нового духа», принесенного христианством, высшая точка мистических знаний средневековья, устремленная ввысь в готических стрелах сводов и шпилей. Точно так же эра математического знания 319 выкрикивает свой гимн небу2 Эйфелевой башней и выдвигает громады зданий, идущих на приступ небес: армии небоскребов и бесконечные ряды дымящих труб или решетчатые нефтяные вышки нашей великой промышленности. Бесконечные дороги, по которым блуждали фургоны, сошлись вместе, взгромоздились друг на друга, образуя башню «Таймс» или «Крайслер Билдинг». И костер, некогда домашний очаг путешественника, ныне выбрасывает дым через бесконечные по высоте заводские трубы…
Теперь вы, безусловно, решите, что мои доводы в пользу оптической рамки для самого высокого и самого синтетического из всех искусств (а ведь возможности всех искусств заключены в кинематографии, хотя она их не использует!) сводятся к тому, что эта рамка должна быть вертикальной. Ничего подобного. Ибо в сердцах сверхиндустриальных американцев или деятельно самоиндустриализирующихся русских еще не изжита тоска по бескрайним горизонтам полей, степей и пустынь. Личность или нация достигает высоты механизации, все-таки объединяя ее в союз с крестьянином и фермером вчерашнего дня.
Тоска по «большим дорогам», «сражающимся караванам», «крытым фургонам» и бесконечной ширине «старика Миссисипи»3 … Эта тоска взывает к горизонтальному пространству. С другой стороны, и индустриальная культура иногда платит дань этой «презренной форме». Она перекидывает нескончаемый Бруклинский мост влево от Манхеттена, а затем пытается превзойти это Гудзоновским мостом4 с правой стороны. Она невероятно растягивает тело бедного «пыхтящего Билла» до размеров сегодняшних локомотивов линии Соузерн-Пасифик. Она выстраивает нескончаемые цепи человеческих тел (вернее, ног) в бесчисленных рядах девушек в мюзик-холлах. И действительно, где граница другим «горизонтальным» победам века электричества и стали?!
И как контраст своим пантеистическим горизонтальным наклонностям природа преподносит нам на краю «Долины смерти» или Маявской пустыни5 трехсотфутовую громаду деревьев, названных именами генералов Шермана и Гранта6, и другие гигантские секвойи, которые (если верить учебникам географии всех стран) были созданы для того, чтобы сквозь них проходили туннели для экипажей и автомашин. И как бы в противоположность бесконечному горизонтальному контрдансу волн на краю океана, мы встречаем тот же элемент, устремленный вверх к небу, в виде гейзеров. Крокодил, который нежится на солнце, контрастирует с жирафом, который вместе со страусом и фламинго умоляет о приличной рамке, которая бы соответствовала их вертикальной форме.
Так что ни горизонтальная, ни вертикальная пропорция экрана сама по себе не является идеальной.
Как мы видим, действительность — в формах природы, как и в формах промышленности, и в соединении, этих форм — порождает борьбу, конфликт обеих тенденций. И экран как верное зеркало не только эмоциональных и трагических конфликтов, но также и конфликтов психологических и оптически пространственных должен быть полем битвы обеих этих — оптических внешне, но глубоко психологических по смыслу — пространственных тенденций зрителя.
Что же тогда может в равной степени создать образ как вертикальной, так и горизонтальной тенденции картины?
Поле битвы для такого «сражения» легко обнаруживается. Это — квадрат, пространственная форма прямоугольника, дающая пример равной 320 длины своих доминирующих осей. Это — единственная форма, одинаково способная путем попеременного «сплющивания» правой и левой сторон или верха и низа охватить все множество существующих в мире выразительных прямоугольников или же, взятая как целое, запечатлеть себя в психологии зрителя благодаря «космической» невозмутимости своей собственной «квадратности».
И это особенно относится к динамической смене размеров от маленького квадрата в центре до всеобъемлющего полноразмерного квадрата во весь экран.
«Динамический» квадратный экран — это такой экран, который обеспечивает своими размерами возможность запечатлевать в проекции с полным великолепием любую мыслимую геометрическую форму грани изображения.
Заметьте здесь, во-первых: это значит, что динамизм меняющейся пропорции проецируемой картины достигается маскирующим действием части формы квадрата кадра, а именно — его рамки. И второе: это не имеет ничего общего с предложением, согласно которому пропорции 1 : 2 (3 : 6) создают «вертикальную возможность» при маскировании правой и левой сторон кадра до такой степени, что остающаяся площадь будет иметь форму стоячей полоски. Ощущения вертикальности никогда нельзя достигнуть таким путем: во-первых, потому, что пространство, занятое изображением, по сравнению с замаскированным горизонтальным пространством никогда не будет воспринято как нечто противостоящее ему в осевом отношении, но всегда как часть его; и, во-вторых, потому что, никогда не превосходя высоту, которая определяется горизонтальной доминантой, невозможно добиться впечатления противоположной пространственной оси, устремленной ввысь. Вот почему мое предложение о квадратности переводит вопрос в новую область, хотя различные типы масок употреблялись даже в скучных пропорциях нынешнего стандартного размера кадра и даже мной самим (см. первый кадр «Одесской лестницы» в «Потемкине»).
Каковы бы ни были теоретические предпосылки, только квадрат обеспечит нам наконец реальную возможность дать удовлетворительные кадры многих вещей, до сегодняшнего дня не появлявшихся на экране: узкие средневековые улицы; или огромные готические соборы, тяготеющие над ними; или же вместо соборов минареты, если изображаемый город — восточный; тотемические столбы индейцев7; здание «Парамаунт» в Нью-Йорке; Примо Карнера8; или глубокие и бездонные каньоны Уолл-стрита во всей своей выразительности — кадры, доступные самому дешевому журналу и уже тридцать лет отсутствующие на экране.
Вот и все относительно предложенной мною формы.
И я глубоко верю в правильность моего предложения, поскольку его выводы основаны на синтетическом подходе. Теплый прием, оказанный моему выступлению, укрепляет во мне уверенность в теоретической обоснованности моей аргументации.
Но лежачая форма экрана (столь подобающая его лежачему духу!) имеет множество утонченных и софистичных защитников. Существует даже особая, оригинальная литература по этим вопросам, и мы оставили бы наше дело незаконченным, если бы не сделали критический обзор заключенных в ней аргументов.
Памятная записка, розданная нам перед этим собранием (в виде приложения к докладу), блестяще составленная мистером Лестером Коуэном (помощник секретаря Академии), дает краткое и объективное обозрение всего 321 того, что было написано относительно пропорций экрана. Авторы некоторых статей склоняются в пользу горизонтальной рамки.
Разберемся в аргументах, которые привели различных авторов, представляющих различные точки зрения и специальности, к одному и тому же, единогласно признанному… ошибочному предложению. Главных аргументов четыре:
два из области эстетики,
один физиологический,
один коммерческий.
Давайте разобьем их в названной последовательности.
Оба эстетических аргумента в пользу горизонтальной формы экрана основаны; на дедуктивных выводах, исходящих из традиций в формах искусства — живописи и театральной практики. Как таковые их следовало бы исключить из обсуждения, не принимать во внимание — из-за огромных ошибок, неизменно возникающих при всякой попытке заимствовать практические результаты, основываясь на сходстве внешних проявлений одной области искусства с другой его областью. (Совсем другое дело нахождение подобия в методах и принципах различных искусств, соответствующего психологическим явлениям, идентичным и основным для всякого художественного восприятия; но данные поверхностно обнаруживаемые аналогии, как мы увидим, далеки от этого.)
Действительно, нашей задачей является искать, отталкиваясь от методологического подобия различных искусств, строжайшую дифференциацию в их приложении и использовании, соответственно органической специфике, типичной для каждого из них. Насильственно прилагать законы, органичные для одного искусства, к другому — глубоко ошибочно.
Но в данном случае предложенные аргументы даже по отношению к своей собственной области настолько ошибочны, что стоит, рассматривая их, показать их несостоятельность.
1. Ллойд А. Джонс рассуждает о различных прямоугольных пропорциях, употребляемых в живописной композиции, и приводит результат статистического исследования о пропорциях в живописи. Результаты его исканий как будто говорят в пользу отношения основания к высоте значительно большего, чем 1, и, возможно, превышающего 1,5.
Утверждение само по себе поразительное. Я не ставлю под сомнение огромный статистический багаж, который, несомненно, находится в распоряжении мистера Джонса и позволяет ему сделать столь решительное утверждение. Но когда я стал перебирать свои воспоминания о живописи, собранной во всех музеях, в которых я был, путешествуя по Европе и Америке, и восстанавливать в памяти множество рисунков и композиций, изученных мною во время работы, мне показалось, что существует ровно столько же вертикально стоящих картин, сколько их расположено по горизонтали. И все со мной согласятся.
Статистический парадокс мистера Джонса, вероятно, проистекает из чрезмерного значения, придаваемого композиционным пропорциям доимпрессионистического периода XIX века — самого худшего периода живописи, для которого типичны «повествовательные» картины, второсортные и третьесортные картины, находящиеся в стороне от главного прогрессивного пути развития живописи, даже и сегодня далеко превосходящие по количеству живопись новых школ, многочисленные даже в соседстве с Пикассо и Леже9, — как мещанские олеографии в большинстве гостиниц мира.
322 В этой «повествовательной» группе живописи несомненно доминирует пропорция 1 : 1,5, но данный факт теряет свое значение, если рассматривать его с точки зрения живописной композиции. Эти пропорции сами по себе являются «одолженным товаром» и совершенно не связаны с живописной организацией пространства, которая и является проблемой живописи. Эти пропорции просто-напросто одолжены — чтобы не сказать украдены! — у… сцены.
Сценическая композиция намеренно или ненамеренно воспроизводится каждой из этих картин, и этот процесс сам по себе вполне логичен, так как картины этой школы заняты не проблемами живописи, но «воспроизведением сцен» — живописная задача, даже и сформулированная в сценической терминологии!
Я говорю о XIX веке как о времени, изобилующем картинами этого типа, но я не хочу, чтобы осталось впечатление, будто бы в других эпохах таких картин вовсе не было. Возьмите, к примеру, серию Хогарта10 «Модный брак». Эти сатирически и сценически «воспроизведенные» анекдоты — увлекательная серия сцен… и только.
Замечательно, что в другом случае, когда автор картины одновременно был практически и профессионально театральным постановщиком (или art director, как говорят в Голливуде), это явление не имело места. Я имею в виду средневековую миниатюру. Авторы самой тонкой и филигранной в мире живописи на золоченых листах Библий или «Livres d’heures» (не путать с «hors-d’oeuvre»)52* были одновременно архитекторами декораций различных мистерий и мираклей11 (например, Фуке12 и бесчисленная масса художников, имена которых забыты потомством). Здесь, где благодаря самому предмету мы должны были бы иметь наиболее близкое воспроизведение «зеркала сцена»13, — мы его не видим. И находим свободу, совершенно не связанную с такими границами. Почему же? Потому что в то время «зеркала сцены» не существовало. Сцена была ограничена далеко справа и слева «адом» и «раем», она была занята фронтально расположенными частями декораций (так называемыми «домами»), над которыми сияло бездонное небо, как и сегодня во многих мистериях «страстей господних».
Так мы обнаруживаем, что предполагаемая «доминирующая» и характерная форма живописи сама принадлежит другому виду искусства.
И с того момента, когда живопись, освобождаемая импрессионистским движением, обращается к чисто живописным проблемам, она упраздняет все сценические формы рамок и утверждает как пример и идеал «безрамность» композиции японского импрессионистского рисунка. И, может быть, символично то, что именно сейчас наступает время для расцвета… фотографии. Чрезвычайно важно отметить, что в своем дальнейшем перевоплощении — в кинофильме — фотография сохраняет некоторые (на сей раз жизненные) традиции этого периода зрелости одного искусства (живописи) и инфантильности более нового искусства (фотографии). Заметьте связь между многими снимками, в которых выразилась тенденция к изображению двух планов глубины — одного через другой, — и «Ста видами горы Фудзи» Хокусаи14 (особенно «Фудзи сквозь паутину» и «Фудзи сквозь ноги»), или Эдгаром Дега, чьи изумительные серии женщин в ванне, модисток и гладильщиц — лучшая школа для приобретения навыков и понятий о пространственной 323 композиции, ограниченной пределами рамки, а также и о композиции самой рамки, которая в этой серии безостановочно скачет от 1 : 2 через 1 : 1 до 2 : 1. Теперь, мне кажется, наступил момент привести один из аргументов Майлза, связанный с обсуждаемым здесь живописным элементом значительно теснее, чем с физиологическим, к которому его склонны относить. Для Майлза «весь вопрос (склонность к горизонтальному восприятию), вероятно, определяется характером того отверстия, через которое смотрит человеческий глаз; а для последнего характерно, что оно значительно больше по ширине, чем по высоте».
Допустим на секунду, что этот аргумент сам по себе правилен. Мы можем даже дать автору блестящий пример для его подтверждения «plus royaliste que le roi»53*. Все равно это ему не поможет! Кстати, этот пример — типичная форма типичного японского пейзажа, гравированного на дереве. Это единственный известный тип стандартизованной (а не случайной) композиции, которая не ограничена по бокам какими-либо рамками, но ограждена в своих вертикальных пределах тенью узкой (горизонтальной) полоски, которая проходит в этом ограниченном пространстве через все оттенки небесного цвета: от белого внизу до темно-синего наверху.
Это последнее явление объясняется впечатлением тени, падающей на глаз от верхнего века и уловленной сверхчувствительной наблюдательностью японцев.
Можно предположить, что мы имеем в этой конфигурации полнейшее живописное подтверждение упомянутого взгляда Майлза. Но мы снова должны его разочаровать: идея обрамления картины проистекает не из самих границ поля зрения наших глаз, но из наличия рамки у видимых нами пейзажей, которые мы наблюдаем через проем окна, двери или, как было показано выше, стены; точно так же исходит из отсутствия дверей композиция японцев, ибо двери заменяются раздвигающимися панелями стен типичного японского домика, открывающими вид на бесконечный горизонт.
Но даже допуская, что эта форма выражает собой пропорции поля зрения, мы должны рассмотреть другое замечательное явление японского искусства: то, как отсутствие боковых границ воплотилось на бумаге — в форме горизонтальной настенной картины-свитка, возникшей только в Японии и Китае. Я бы назвал ее развертывающейся картиной, потому что, развернув ее горизонтально, мы видим бесконечные эпизоды битв, празднеств, процессий. Например, гордость Бостонского музея — многофутовое полотно «Пожар дворца Иедо» или бессмертное «Убийство медведя в Императорском саду» в Блумсбери15. Создав этот уникальный тип горизонтальной картины, исходя из предполагаемой тенденции восприятия, японцы, обладающие сверхчувствительной художественной восприимчивостью, создали затем, хотя это и может показаться алогичным с точки зрения мистера Майлза, противоположную форму, исходя из чисто эстетической потребности уравновешивания: ведь Япония (с Китаем) — это также и родина вертикальной картины-свитка, причем самой высокой из всех существующих вертикальных композиций (если не считать готических витражей). Эти картины-свитки также принимают формы причудливых цветных гравюр по дереву с вертикальной композицией и удивительнейшим расположением лиц, одежды, элементов фона и реквизита.
324 Это, я думаю, показывает довольно ясно, что, даже если вывод о горизонтальном характере восприятия верен (что далеко еще не доказано), вертикальная композиция также нужна для гармонического уравновешивания.
Тенденция к гармонии и равновесию восприятия имеет совсем иную природу, отличную и от той, которую предполагает еще один «гармонический» и «эстетический» аргумент, выдвинутый защитниками горизонтального экрана.
Цитирую тезисы мистера Коуэна:
«Хоуэлл и Бабрэй, Лейн, Уэстерберг и Дитерих16 согласны с тем, что наиболее желательны те пропорции, которые приближаются к 1,618 : 1, что соответствует пропорциям так называемого вращающегося квадратного прямоугольника (известного также под названием “золотое сечение”), основанного на принципах динамической симметрии, которые на протяжении веков господствовали в искусстве. Для упрощения обычно прибегают к отношениям 5 : 3 (которое равно 1,667 : 1) или 8 : 5 (равняется 1,6 : 1)».
Уже сама по себе фраза «на протяжении веков господствовали в искусстве» вызывает глубокое недоверие, когда она прилагается к искусству совершенно новому по своей сути, такому, как самое молодое из искусств — кино.
Кино — первое и единственное искусство, основанное целиком на динамизме и скорости и в то же время увековеченное, как собор или храм. С последним оно имеет общую черту, характерную для статических искусств: возможность самостоятельного внутреннего существования, независимо от творческого усилия, родившего его. (Театр, танец, музыка54* — единственные динамические формы искусства до кино — лишены этой возможности, этого качества увековеченного существования, независимо от созидающего их творческого акта; тем самым они отличаются от контрастирующей группы статических искусств.)
Почему же и дальше должно существовать священное обожествление «золотого сечения», если все основные элементы кинематографии — этого новичка среди искусств — совершенно иные, да и предпосылки ее отличаются от всего предшествующего?
Вникните и в два других названия «золотого сечения», названия, которые весьма ярко показывают тенденцию этих пропорций: «вращающийся квадрат», принцип «динамичной симметрии». Оба они — стон статики, безнадежно мечтающей о динамизме. Эти пропорции, вероятно, самые подходящие для того, чтобы вызвать максимальное напряжение глаза, заставляя его следить за одним направлением, а затем резко перебрасываться в другое.
Но разве мы благодаря проекции наших фильмов на экран не достигли действительно существующего «вращающегося» квадрата? И разве мы не открыли в принципе ритмического монтажа действительно существующую «динамическую симметрию»?
Тенденция эта практически достигнута и победоносно осуществлена кинематографией в целом. И поэтому нет необходимости искать ее осуществления через форму экрана.
И какого же черта должны мы тянуть за собой в эти дни триумфа грустное воспоминание о неисполнившихся желаниях статического прямоугольника, пытающегося стать динамичным?
325 Кинематография является также и могильной плитой для всяких футуристических попыток динамизировать статическую живопись.
Нет логических оснований для того, чтобы продолжать мистически преклоняться перед «золотым сечением». Мы далеко ушли от греков, которые, преувеличивая свое сверхъестественное чувство гармонии и пропорций, использовали их для сооружения ирригационных каналов, основывая пропорции на какой-то священной гармонической формуле, ничего общего не имеющей с требованиями практики. (Или же это был случай с военными траншеями? Я точно не помню, но мне кажется, что речь шла о практике строительства каналов, на которую влияли совершенно абстрактные умозаключения эстетического и не связанного с практикой характера.)
Автоматическое перенесение этих древнейших пропорций на новорожденный широкий экран было бы так же нелогично, как эти греческие штучки. И, чтобы покончить со всеми живописными традициями — если желательно установить связь рамки экрана с чем-то другим, — почему бы не взять для сравнения переходный этап от живописи к кинофильму: открытку или любительскую фотографию?
Ну а здесь мы можем настаивать на том, что по крайней мере в этой области ни одна из этих тенденций не останется в обиде!
Это вытекает из того простого факта, что наш фотоаппарат одинаково легко и точно запечатлевает как вертикальные, так и горизонтальные снимки нашего ребенка, папы, мамы или бабушки, в зависимости от того, лежат ли они, загорая, на пляже или позируют, держась за руки, в своих свадебных нарядах, будь это бракосочетание, серебряная или золотая свадьба!
Второй эстетический аргумент исходит из области театрального и музыкального представления. Этот аргумент, воспроизведенный мистером Коуэном, звучит так: «… другой аргумент в пользу широких фильмов базируется на возможности, органичной для звуковых картин, которая отсутствовала (действительно ли она отсутствовала??? — С. Э.) в немых картинах, — возможности давать зрелище, более близкое по природе к театральной драме» (Рейтон).
Сохраняя свою обычную вежливость, я не скажу прямо, что это самый страшный бич, висящий над звуковым кино. Я этого не скажу, хотя и подумаю. Ограничусь лишь наблюдением, с которым все должны согласиться, а именно, что эстетика и законы композиции звукового кино еще не установлены окончательно. И спорить в настоящее время, отталкиваясь от такого весьма сомнительного указания, как законы развития звуковых фильмов, рассматривать нынешнее неправильное использование звукового экрана как основу для предложения, которое привяжет нас на следующие тридцать лет к пропорции, соответствующей тридцати месяцам неправильного использования экрана, — по меньшей мере самонадеянность.
Вместо того чтобы приближаться к сцене, широкий экран должен, по-моему, оттащить кинематографию еще дальше от нее, раскрываясь для волшебной силы монтажа — совершенно новой эры конструктивных возможностей.
Но это потом, «на десерт».
Третий, четко сформулированный аргумент в пользу горизонтальных пропорций исходит из области физиологии. Это не мешает ему быть столь же ошибочным, сколь ошибочны предшествующие. Дитерих и Майлз указали, что широкая картина более доступна глазу из-за физиологических свойств последнего. Как говорит Майлз: «Глаз обладает одной парой мышц для 326 приведения его к горизонтальному движению, но двумя парами для вертикального движения. Вертикальные движения труднее совершаются через широкий угол зрения. Пока человек жил в своей естественной среде, ему приходилось видеть больше вещей, расположенных по горизонтали, чем по вертикали (!!! — С. Э.). Это, очевидно, было установлено очень глубоко укоренившейся привычкой, история проявляется через зрительные восприятия человека…»
Этот аргумент звучит довольно убедительно. Но его убедительность в значительной степени исчезает в тот момент, когда мы перейдем в нашем исследовании от поверхности лица, снабженного горизонтально расположенными воспринимающими глазами, к… шее. Здесь мы могли бы с успехом привести ту же цитату с прямо противоположным смыслом. Ведь здесь механизм сгибания и поднимания головы, в противоположность поворотам влево и вправо, дает обратное соотношение мышечного усилия. Поднимание и сгибание головы (вертикальное восприятие) совершается так же легко, как движение глаз слева направо (горизонтальное восприятие). Мы в этом случае также видим, что в отношении чисто физиологических средств восприятия мудрость природы обеспечила нас компенсирующими движениями, которые склоняются к всеохватывающей квадратной гармонии. Но это не все.
Мой пример, так же как и мой контрпример, помогает установить еще одну черту воспринимающего зрителя — динамизм восприятия. Это проявляется в горизонтальном расположении глаз и вертикальном расположении головы.
И это само по себе опрокидывает другой аргумент Дитериха: «… на том физиологическом основании, что общее поле зрения обоих глаз (при устойчивом положении головы) и пространство, удобное для просматривания обоими глазами, приближаются к прямоугольнику размером 5 x 8, хотя действительные границы этих полей представляют собой неправильные кривые…» и т. д.
При устойчивом положении головы… Но неустойчивое положение было только что установлено, и поэтому этот аргумент теряет свою силу. (Заметим, что единственное действительно неподвижное и неизменное положение головы в кинотеатре бывает тогда… когда она покоится на плече возлюбленной. Однако мы не можем основываться на таких фактах, хотя они и относятся к пятидесяти процентам зрителей.)
Остается последний аргумент — экономический.
Горизонтально вытянутая форма более всего соответствует виду с балкона, висящего над партером, и с балконов, которые висят друг над другом. Крайние пределы высоты экрана в этих условиях по расчетам Спонэбла равняются 23 футам на каждые 46 футов горизонтальных возможностей.
Если по-прежнему руководствоваться сугубо экономическими расчетами, то можно допустить, что, употребляя вертикальные композиции, мы должны были бы заставить зрителей продвинуться к более дорогостоящим передним местам, обозрение с которых не закрыто нависшими балконами.
Но другой факт спешит нам на помощь — это непригодность форм и пропорций теперешнего кинотеатра для звуковых целей.
Акустика помогает оптике!
У меня нет времени рассмотреть все данные об идеальных пропорциях для звукового театра.
Я туманно помню еще с давних времен моих занятий архитектурой, что в театральных и концертных залах вертикальный разрез должен быть 327 для оптимальной акустики — параболическим. Но что я помню совершенно точно — это форму и типические пропорции двух идеальных зданий.
Одно — идеально для зрелища. Возьмем кинотеатр «Рокси» (Нью-Йорк).
И другое — идеальное в акустическом отношении. Зал «Плейель» в Париже — высшее достижение акустики в концертном зале.
Они абсолютно противоположны друг другу по своим пропорциям. Если бы зал «Плейель» был положен набок, он стал бы «Рокси». Если бы «Рокси» встал прямо, он стал бы залом «Плейель». Каждая пропорция «Рокси», горизонтально расчлененная партерами и балконами, прямо противостоит строго вертикальному, уходящему в глубину, коридороподобному залу «Плейель».
Звуковой фильм — скрещение оптического и акустического — должен будет синтезировать в форме своего зрительного зала обе тенденции в одинаковой степени.
В будущем звуковой кинотеатр будет перестроен. И его новая форма — в перекрещении горизонтальных и вертикальных тенденций «старика» «Рокси» и «старика» «Плейель» — будет обусловлена слиянием оптического и акустического восприятия, будет идеально соответствовать динамическому квадратному экрану с его богатством вертикальных и горизонтальных воздействующих импульсов55*.
И, наконец, последнее — по порядку, но не по важности. Я должен энергично опровергнуть еще одну ползучую тенденцию, которая частично восторжествовала над звуковым кино и которая ныне протягивает свои грязные руки к Большому кино, торопясь заставить его в еще большей степени преклониться перед ее низкими желаниями. Эта тенденция стремится совершенно задушить принципы монтажа, которые уже ослаблены «стопроцентными звуковыми» и пока еще ждут первого мощного образца идеально смонтированного звукового фильма, способного вновь установить принцип монтажа как основной, непреходящий жизненный принцип кинематографической выразительности. Я сошлюсь на бесчисленные высказывания, с которыми частично согласны даже такие мастера экрана, как мой друг Сидор17 и «великий старец» Д. У. Гриффит. Например:
«… Танцевальные сцены больше не нуждаются в съемке с движения, так как вполне достаточно места в нормальном длинном плане для всех движений, по горизонтали используемых в большинстве танцев…»
(«Движущаяся камера» — средство воздействия на зрителя в плане вызова специфического динамического ощущения, а не средство для исследования 328 или преследования ног танцующих девушек! Вспомните качающиеся движения камеры в сцене сенокоса в «Старом и новом» и то же самое с пулеметом в «На Западном фронте без перемен»18.)
«… Крупные планы можно делать на широкой пленке. Конечно, нет нужды снимать такие крупные планы, какие снимались 35-миллиметровой камерой, но, говоря сравнительно, можно сделать и такие же крупные планы…».
(Сила воздействия крупного плана совершенно не зависит от его абсолютной величины, но целиком от его величины, взятой в соотношении с оптическим воздействием, возникающим от крупности предшествующего и последующего кадров.)
«Однако в широком фильме не нужно большое количество крупных планов. В конце концов крупные планы нужны главным образом тогда, когда нужно показать мысль (!!! — С. Э.), а в широком фильме все детали и выражение лица человека видны уже тогда, когда он снят в полный рост, что раньше можно было увидеть только в шестифутовом крупном плане, снятом на 35-миллиметровой пленке…».
(Что касается моих личных вкусов в области игры на экране, то хотя я и предпочитаю еле заметное движение бровей, тем не менее признаю, что вся фигура в целом не лишена выразительности. Однако мы не можем допустить изгнания крупного плана, то есть средства приковать внимание путем изоляции желаемого факта или детали, средства, действие которого все еще не достигается путем непропорционального увеличения абсолютного размера фигуры.)
Крупные планы, кадры с движения, абсолютные изменения размеров тел и предметов на экране и другие элементы, относящиеся к области монтажа, значительно более глубоко связаны с выразительными средствами кинематографии, чем подразумевается при задаче простого облегчения показа лица или показа «элемента мысли» на этом лице.
Как мы заявляли раньше, а затем вместе с Г. Александровым попытались частично показать в столь обидно непонятом, скромном ироническом эксперименте «Сентиментальный романс»19, — с приходом звука монтаж не умирает, но развивается, увеличивая и умножая свои возможности и методы.
Точно так же появление широкого экрана означает еще один этап огромного прогресса в развитии монтажа, законы которого должны будут подвергнуться критическому пересмотру, будучи сильно поколеблены изменением абсолютных размеров экрана, которое делает невозможным или непригодным очень многие монтажные приемы прошлых дней. Но, с другой стороны, это дает нам такой гигантский новый фактор воздействия, каким является ритмически подобранное сочетание различных форм экрана, воздействующее на сферу нашего восприятия эффективными импульсами, связанными с последовательным геометрическим и размерным изменением различных возможных пропорций и очертаний.
И, соответственно, если по отношению ко многим качествам монтажа нормального кино мы должны провозгласить: «Le roi est mort!..», то с тем большей силой должны мы провозгласить «vive le roi!»56* в честь появления доселе немыслимых и неисчерпаемых возможностей Большого фильма.
1932
329 [МОНТАЖ]*
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Все в человеке — все для человека!»
Я недаром начинаю эту работу с бессмертных слов Максима Горького («Человек»).
Двадцать лет нашей победоносной революции небывалым своим размахом доказали величие лозунга «Все для человека!» как стимула, приведшего к неслыханным победам. Эти же двадцать лет показали, каким обогатителем искусства и культуры явился лозунг, сказавший вместо «искусство для искусства», вместо «культура для культуры» — «все для человека!» — социализм для человека, культуру для человека, искусство для человека.
Не менее глубоко и положение — «все в человеке». В нем и из него, только в нем и только из него, из единицы — человека и из коллектива человеков — народа, только в нем и из него можно черпать неиссякаемое вдохновение.
Приходят и уходят писатели, поэты, художники. А остается народ, этот великий собирательный человек. И только тот, кто из народа, с народом и в народе приобщается к великому бессмертному делу народа. К великому делу человечества. К великому делу человека.
Я считаюсь одним из наиболее «бесчеловечных» художников. Изображение человека никогда не было ни центральной проблемой моих произведений, ни основной. По складу своему я был всегда больше певцом движения, массового, социального, драматического, и мое творческое внимание было всегда острее сосредоточено на движении, чем на том, что движется. На действиях и поступках, нежели на том, кто действует и кто поступает.
Потому и опыт моих семнадцати лет сознательной творческой работы богат не столько в области образа человека в искусстве, сколько в области образа самого произведения. Но это никак не есть отрыв от лозунга «все в человеке». Наоборот, чем глубже вдаешься в анализ и творческий разбор этой области, тем настоятельнее и глубже ощущаешь, до какой степени и здесь «все в человеке». И как ни один элемент подлинно живой и реалистической 330 формы, ни один элемент подлинно живого образа произведения вне человека, не из человека и человеческого ни родиться, ни возникнуть, ни расцвести не может и не способен.
Если перед изображением человека, хоть если и не перед изображением человеческого коллектива, я творчеством своим, может быть, чем-то и в долгу, то пусть эта работа о человеческом и человеке в образе произведения послужит частичной хотя бы расплатой должника. Ибо тема, основная, сквозная и наиболее глубокая внутри этого исследования — это о человеке, не только в содержании и сюжете произведения, но и в образе и форме произведения. Вернее, в области той стадии творческого процесса, в которой идея и тема вещи становятся предметом художественного воздействия и восприятия.
«Meine Tendenz ist die Verkörperung der Ideen»57*, — говорит Гете. И это определение охватывает весь смысл формотворчества, покрывая собой даже любые стилистические и выразительные крайности, от символического и аллегорического письма до бытового лепета по поводу идей и нехудожественного пересказа содержания кургузыми словами. Принципы того, как не впадая в оба эти эксцесса, форма служит этой задаче, я рассматриваю на частном случае: кадр — монтаж — звуковой монтаж. И красной нитью под этим и областями, куда нас будет заводить углубление в отдельные вопросы и частности, неизменно пройдет положение о том, что весь опыт, вся мощь, вся сила образной выразительности произведения, как и все мастерство композиции, которой мы здесь заняты прежде всего, тогда, когда она направлена на создание произведения действительно для человека, основным, главным и питающим источником имела, имеет и будет иметь три вещи: Человека, Человека и Человека.
«Все в человеке — все для человека!»
7 ноября 1937 г.
В день годовщины XX-летия Октября
[НАБРОСКИ К «ВСТУПЛЕНИЮ»]
|
… Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют... Пушкин |
Эпиграф из Пушкина взят не напрасно. Нам предстоит сделать сводный обзор развития монтажа. Сводный обзор в хорошей немецкой традиции: чтобы был и Rückblick и Ausblick58*. То есть выяснение того, через что монтаж прошел и куда он движется. И еще более важное — засечь координаты этого дрейфующего понятия на сегодняшней точке его понимания. Многое будет неожиданно в сопоставлении со вчерашним днем. Мы подчеркнем эту неожиданность, но не забудем, что рост понимания монтажа идет непрерывной цепью качественных скачков из того, чем он был вчера, чем он оказывался третьего дня. И, собственно говоря, настоящее понимание его сущности как 331 одной из дисциплин, входящих в общие методы создания кинофильма, на сей день может вырастать только на базе отчетливого понимания того, как шло его развитие. Давно отшумели дни, когда монтаж почти что узурпировал суверенные права в государстве киновыразительности.
Но неправы и многие, с улюлюканьем «хоронящие» монтаж на сегодняшний день1: им кажется, что от факта меньшей резки изобр[ажения] в звук[овом] кино монтаж умер. Но они забывают, что они хоронят изжитую фазу — неотрывную в своих особенностях от немого кино.
Другие хотят прожить на новом этапе [с] непереосмысленным багажом прошлого, конечно, старательно очищенным от излишних эксцессов.
Большинство вообще над ним не задумывается, забывая об этом могучем художественном факторе внутри совершенной композиции фильма.
Происходит это во многом оттого, что нам не до конца удается локализировать место и функции монтажа, да и самый новый его вид в новых условиях тонфильма.
А распознать его действительно нелегко с первого взгляда! Do prime abord59* кажется, что [в] пройденной истории монтажа мы имеем законченную «триаду». Был кадр (единая точка съемки). Он разорвался в монтажные куски. Куски снова собрались во внутрикадровую цельность. Внутренне же дело сложнее: большинство звуковых сцен идет с одной точки, и налицо «вроде возврат», во многих случаях действ[ительно] возврат.
* * *
Данная работа ставит себе целью провести следующие положения.
Подлинно реалистическое произведенье, исходя из основного положения о реализме, обязано в представляемом явлении давать неразрывно слитыми в единстве: и изображение явления и образ его, понимая его [т. е. образ] как обобщение по существу данного явления. Они неразрывны в единстве как наличием, так и появлением, так и переходом друг в друга.
Эта вторая черта утрачена в киноискусстве.
Задача состоит в том, чтобы во всех трех фазах киноистории — одной точки, сменяющихся точек и тонфильма — установить, как этот элемент обобщения реализуется.
Для одноточечного кино — это оказывается пластической композицией.
Для многоточечного кино — это оказывается монтажной композицией.
Для тонфильма — это оказывается музыкальной композицией.
Это положение одновременно раскрывает по-новому осмысление вопроса монтажа. «Истоки» монтажа лежат в пластической композиции. «Будущее» монтажа лежит в музык[альной] композиции. Закономерности через все три этапа едины.
Это положение дает возможность набросать своеобразную историю видоизменения монтажа, предстающего в трех качественно различных видах согласно трем фазам развития кинематографа.
«Роль» монтажа в пластическом построении играет сочетание композиционного обобщения по изображению с самим изображением, осмысленное «соразмещение» в композиции и обобщенный «контур» изображения.
Монтаж играет роль обобщения во втором этапе ([обобщения] — то есть 332 устанавливаемого отношения к явлению на основе опыта по-своему, классово опосредствованного ряда соответствующих явлении).
«Роль» монтажа в тонфильме лежит в основном во внутренней синхронизации изображения и звука. Изображения в первой периоде не формального, а исходящего из единства смыслового образа, то есть находясь в том же соотношении, что обобщенная пластич[еская] композиция, и это достижимо в полноте только в цветном кино.
Последнее соображение ставит вопрос о тонфильме как о синтетическом искусстве.
В конце дается представление о том, как живой человек, его сознание и деятельность, является не только основой отображения в содержании (изображении) фильма, но как он же отражается в закономерностях формы как закона строения вещи (обобщенного образа произведения)2.
Дальше в отрывках и частных разрешениях частных проблем приведены решения монт[ажной] проблемы в последовательные этапы развития кино. Если они еще и не сведены в окончательные (хотя бы на сей день!) обобщения, что я попытаюсь здесь сделать, — то смысл и польза их знанием и владением на частных участках задач внутри всеобщей области тем не менее практически никак не снимается. Кроме того, настоящее усвоение того, что должно [быть сделано], и продвижение вперед возможны лишь на базе твердого знания того, что уже сделано и было сделано.
* * *
Строго говоря, эта книга, конечно, не о монтаже. Книга эта в основном — в меру отпущенных автору сил и способностей — старается раскрыть то, как в частной области произведения — в его композиции и методах ее — надлежит раскрывать единично-изобразительное одновременно с обобщенно-образным и как им обоим надлежит быть в неразрывном единстве и проникать друг в друга.
Книга показывает это на одном небольшом участке специальной проблемы кино, внутри того многообразия проблем, которые входят в создание кинофильма, — на проблеме монтажа и неразрывно с ней связанной проблеме кадра. Но так как с подобных позиций о монтаже вообще не писалось или писалось не с такой кропотливостью, то эта книга — уже совсем строго говоря — все-таки книга о монтаже.
По теме своей это даже очень нужная книга, так как, и не до конца, конечно, исчерпывая проблему и не пытаясь даже раскрыть всех ее сторон, книга все же ставит — на мой взгляд — самую существеннейшую проблему внутри звукозрительной области кинокомпозиции, а именно — вопрос изобразительности и образности; вопрос, который сам по себе выходит широко за пределы как монтажа, так и кинематографии вообще.
Постановка этого вопроса сейчас особенно важна, ибо не только кино утратило со времени своей немой стадии опыт и мастерство в этой области, но я состояние большинства смежных искусств сейчас таково, что по этой линии [они] почти ничем кинематографу помочь не могут.
В этом лежит и причина того, что мне приходится в иллюстративных экскурсах и примерах, к сожалению, больше орудовать примерами из истории литературы и искусств, нежели сегодняшними материалами, так как черты того, о чем я пишу, на сегодняшний день во многом утеряны. 333 Я не вдаюсь в критику и разбор самого этого положения, но именно эти обстоятельства и явились основными побудителями написать эту книжку.
Именно эти соображения заставили меня погрузиться довольно глубоко в природу того частного явления, на котором я эту проблему прослеживаю.
И, наконец, по этой же линии наш безобидный «академический трактат» по очень частной проблеме внутри одной очень частной области искусств задевает уже очень общий вопрос. И сам «трактат» при всей его безобидности, по существу, конечно, по-своему резко полемичен.
* * *
Неожиданным для «круга моих постоянных читателей» может показаться в настоящей работе обилие цитат, касающихся… системы Станиславского3.
Достаточно известно, что все семнадцать лет моей исследовательской работы в области искусства, параллельн[ой] моей творческой работе, я почти всегда касался как раз той области, которую система Станиславского почти не затрагивает и, во всяком случае, теоретически не разбирает и не освещает, как она это делает в отношении игры актера.
Я имею в виду вопросы закономерностей композиции, строения вещей и отдельных их элементов и вопросы формы вообще (не говоря уже о вопросах киноформы).
Так, в книге Станиславского, посвященной подробному изложению системы, по крайней мере в раньше вышедшем английском издании ее «An Actor Prepares»4, которая у меня под руками, вопросу формы посвящено буквально две строчки.
Это является не случайностью, а сознательной установкой в выборе области, куда направлено основное внимание автора системы […].
Но мало этого. Не менее известно также и то, что помимо этого мое художественное развитие и творческий рост шли не только в иной области, но и направленчески по совсем иному крылу (или, как когда-то говорили: «по иному фронту»), чем шел возглавляемый Станиславским театр5.
Таким образом, не было смыкания ни по направленческому признаку, ни по областям изыскания. Области же эти шли как бы концентрическими кругами, имея в одном случае в центре внимания действующего человека, а в другом — действующее построение произведения с учетом человека как одного (ведущего) из факторов (не всегда!).
И, кроме того, это были еще области игры на театре, с одной стороны, и композиции в кинематографе — с другой.
Тем интереснее отмечать, в какой большой степени предпосылки к закономерностям в нашей области (и в нашем подходе) неизменно — шаг за шагом — перекликаются с подобными же предпосылками в системе Станиславского касательно игры актера.
В конечном счете, это не должно было бы удивлять, поскольку те и другие предпосылки понимания в равной мере вырастают из единой, общей, единственно верной и решающей для искусства во всех его видах и частностях сферы.
Из сферы… Впрочем, какова она для системы Станиславского — это знают все. А тот факт, что, в конечном счете, она же является и основным 334 источником, питающим культуру формы и киноформы более, чем какую-либо другую в особенности, — мы постараемся показать по ходу этой работы, когда дойдем до вопроса о тонфильме как образце синтетического искусства6.
* * *
Что же касается богатства цитатного материала вообще, которым я позволяю себе пересыпать мой материал исследования, то это имеет две причины. Во-первых, материал, которым мне приходится орудовать, принадлежит к областям довольно разнообразным и достаточно специальным, а потому лучше касаться их в формулировках, данных по ним специалистами. Во-вторых же, здесь, может быть, повинен монтажный почерк моей стилистической манеры на кино: минимальное искажение самих объектов, из которых составляется монтажный образ. Но это здесь важно еще и потому, чтобы представить материал этот в максимальной объективности, без всякой по возможности тенденциозности обработки его «в угоду» предвзятым принципам излагаемых мною здесь положений. Что может быть в этом отношении объективнее, чем сопоставление наблюдений иных авторов, никак не связанных с тем общим ходом представлений или с той областью основного нашего интереса — монтажом, который у нас стоит в центре внимания. Как и в кадрах, где я стараюсь в основном точкой зрения на материал и светом вырисовывать и высвечивать в нем то, что работает в нужном мне направлении, так и в этом вопросе я стараюсь минимально вторгаться внутрь природы явлений не моей прямой специальности, но предпочитаю, чтобы от их лица выступали, где только возможно, их собственные представители. В таких случаях с меня хватает разрядки и композиционной сборки. Общая же картина от этого только приобретает в убедительности своего общего охвата. Не оригинальность, а универсальность излагаемых положений есть то, что увлекает меня больше всего. В остальном же я придерживаюсь положения, высказанного кем-то из старых французов: «Il n’appartient qu’à ceux qui n’espérent jamais être citésr, de ne citer personnel» (Gabriel Nandé)60*.
РАЗДЕЛ I
Монтаж в кинематографе единой точки съемки
Кинематография в период своих наиболее серьезных композиционных исканий центр тяжести целиком почти перекладывала на вопросы «ансамбля», в данном случае вещи в целом, и монтажа, уделяя значительно меньше внимания разработке вопросов, связанных с проблемой композиции кадра, в данном случае отдельного дома на этой «монтажной улице».
Аналогия здесь гораздо глубже, чем простая внешняя схожесть. Это тоже как будто (для некоторых) «мелочи». Но то, что в кадре «шумно» (по-нашему — беспринципно нагромождено), что элементы его «неправильно расположены», что от всего этого — в такой же степени — «неудобно», в данном случае глазу [зрителя] (хотя он и не так жалуется, а просто уходит 335 с картины недовольным или менее довольным, чем мог бы!), — это также верно и для кино. И неблагополучие по этой линии во многих случаях очень резко отзывается если не на работоспособности зрителя, то в не меньшей мере на ясности, легкости восприятия и глубине переживания и охвата темы произведения. Неотчетливость композиции по всем статьям определяет чрезмерную затрату психической энергии восприятия и обворовывает зрителя на всеобъемлющую глубину восприятия идеи и замыслов произведения. То есть сказывается на расходовании психической энергии, а следственно, косвенно и на той самой работоспособности, о которой идет выше речь.
В этом смысле и композиция отнюдь не «мелочь», а внутри художественного произведения одна из отраслей заботы о человеке — заботы о ясности, четкости и полноте его восприятия при максимальной экономии затрат на восприятие61*.
Для вопросов композиции кадра дело ограничивалось тем, что после того, как была установлена стадиальная связь кадр — монтаж (моя статья «За кадром», 1929 г.)7, говорилось о том, что опыт, приобретаемый в искусстве монтажа, в соответственно переработанном виде может быть приложен и к вопросу культуры кадра. Если по вопросу монтажа была проделана и большая практическая исследовательская работа в очень большом ряде картин самых различных авторов, то специальным изысканиям в области кадра почти ничего не было отведено. Это вовсе не означает, что в области кадра ничего не было сделано! Понятие монтажной композиции неотрывно от композиции кадровой — одна без другой существовать не может. Но если уходило много изобретательности, композиционной и исследовательской, на область монтажа, то вопрос облика кадра как-то «само собой понятно» укладывался в эту общую тему: над ним не задумывались.
<Теоретическая мысль в кино в тот отдаленный период, когда она билась, преимущественно занималась вопросом монтажа. Проблема кадра как такового почти не ставилась. Монтаж осязательнее. Необходимая острота ритмического ощущения та же, но средства производства и аналитического разбора подручнее. Ножницы и аршин. Вариационная работа легче: перестановка, переклейка, удлинение и сокращение. Эстетика проверяема локтем и дюймом, обертонный знак звучания куска8 берется за молекулярную производную единицу. Процесс складывания этого звучания внутри куска берется только на последней точке — на итоговой характеристике куска. Находятся закономерности «вверх» от наличествующего кадра. Процесс «вниз» — в природу становления композиции кадра — не делается. В «Средней из трех» и в выступлении на творческом совещании9 я старался осветить социально-психологические предпосылки к тому обстоятельству, что на том этапе сопоставления играли более значительную роль, чем внедрение творческого намерения внутрь сопоставляемого.
К этому можно прибавить, что то был период первой цветущей юности киноисканий. А в такие периоды, как указал Энгельс, прежде всего интересуются связями и движением вообще, менее внедряясь в то, что именно двигается10… Так или иначе, оба положения совпадают. Мы имеем достаточно 336 подробно разобранные вопросы монтажа. Проблема же кадра менее счастливая, однако кадр не вовсе обездолен. В статье моей «За кадром» мне удалось установить два положения, которые для «биографии» кадра, думаю, очень существенны. Первое положение касалось проблемы кадра в целом и его взаимосвязи с проблемой монтажа. Здесь была взорвана несводимость противопоставления кадр — монтаж. И было впервые окончательно сформулировано, что монтаж есть стадия кадра. Другими словами, что внутрикадровый композиционный конфликт есть как бы ячейка, клетка монтажа, подчиняющаяся закону деления с нарастанием напряжения конфликта. Монтаж — скачок внутрикадровой композиции в новое качество. Отсюда связь обоих в развитии. В одном генетическом ряду развития. Отсюда был сделан вывод, что и весь строй закономерностей, идущий вправо и вверх от скачка в метод и систему монтажа, может [быть] с соответствующей качественной поправкой прослежен влево и вниз, в вопросы формирования композиции кадра.
Весь интерес был сосредоточен на монтаже. По кадру указывался путь: «желающие» могли сами проследить соответствующие закономерности и по области кадра. Желающих до сих пор (за шесть лет!) не нашлось. Делалось еще одно указание — отправное для анализа. А именно: если в основу анализа закономерностей монтажа ставилась встреча кусков — столкновение (в своем диапазоне знавшее и отсутствие такового — «переливание» из куска в кусок), то отправной точкой для распознавания законов композиции [кадра] ставился вопрос встречи изображаемого предмета и явления с углом зрения на него и рамкой, отрезающей его от окружения. Тоже предлагалось вдаваться в методологические подробности и сделать из этого конкретные выводы о путях внутрикадровой композиции. Желающих не нашлось. Всегда легче, чем делать конкретную работу анализа, подымать полемический вой. Легче было вопить о «незаконном приоритете» монтажа и об игнорировании «содержания кадра», чем разобраться в том, что вопрос шел о закономерностях композиции этого содержания в монтаже, что вопроса композиционного изложения этого содержания внутри кадра разбор не касался, но что пути к этому намечались. Предпочли выть об игнорировании содержания вообще. А на такое дело желающие всегда найдутся.
Так или иначе, раз никто этими вопросами не занимается, приходится взяться за рассмотрение вопросов композиции кадра. Обнимать всю проблему мы здесь никак не собираемся, но хотели бы коснуться здесь некоторых чрезвычайно важных элементов внутри этого вопроса. Пусть не лаются на меня за «односторонность» — я разбираю вопрос узко и… с одной стороны. Вспарывая скальпелем роговую оболочку глаза, можно себе позволить роскошь не обязательно говорить тут же и о пятках. Дойдет когда-нибудь очередь и до них: будем разбирать вопросы композиции и по другим разрезам. Пока ограничимся теми, что являются материалом двух предлагаемых очерков.
Постановка вопроса о композиции кадра — не произвол. Значение кадра сейчас возросло. Острие внимания внедряется «в то, что двигается», в то, что сопоставляется. Сейчас кадром говорится (должно было бы, ибо чаще бормочется) иногда больше, чем монтажным сопоставлением кадров. Отсюда ответственность композиции содержания кадра возрастает колоссально. Повторяю еще раз — мы здесь будем касаться вопроса композиции этого содержания, композиции видимой части этого содержания в условиях наиболее воздействующей познавательной для аудитории формы>.
337 Впрочем, была одна картина, которая резко выдвинула именно проблему кадра на первый план, отводя в композиционном плане монтажу чисто служебную повествовательную функцию. Историческая судьба этого фильма превзошла в этом направлении все ожидания: она оказалась существующей в виде хаотического набора кадров, не собранных воедино ни авторской композицией, ни даже по идеям автора, а просто склеенных недалеким анонимом последовательно по ходу события, по существу, ограничиваясь тем, чтобы исполнитель фигурировал живым непременно до того, как он по сюжету помер, и чтобы труп его не появлялся бы до того, как героя топчут ногами лошадей. Я говорю о «Què viva Mexico!» и подчеркиваю здесь, что из специальных проблем, которые она перед собой ставила (а полноценное произведение непременно ставит, кроме политической, тематической, философской и сюжетной задачи, еще и задачи формы62*), вопросы композиции кадра играли одну из главных ролей.
Печальная судьба картины лишила нас возможности довести до конца и освоить весь практический ее опыт и теоретически его осмыслить. (Так, например, картина ставила себе [целью] еще интереснейшие искания в области национального стиля — в данном случае мексиканского — и проблему фольклора в использовании его на кино, не говоря уже о более мелких и специальных темах, как проблема кинопейзажа и т. п.)
Тем не менее съемка 250 000 футов63* [пленки] со специальной установкой режиссера и оператора на проблему изучения композиции кадра не может не отложиться некоторой долей опыта в области композиции кадра!
Я не зря приравнял […] кадр — отдельному дому, квартире. Ибо кадр есть основное жилье, основная жилплощадь действия основного хозяина картины — живого человека в актерском образе. Упор внимания на игру актера, специфические условия тонфильма и сегодняшний взгляд на монтаж в звуковом кино (о чем подробнее и очень обстоятельно ниже), в силу которых длительность несменяемого кадра в среднем сильно возросла, заставляет проблему композиции кинокадра выдвинуться в поле внимания значительно серьезнее, чем это было раньше. Иначе возникает серьезнейший риск вместо кинокомпозиции кадра скатываться в фотовоспроизведение картинок обычной живописи или дурных образцов размещения актеров на провинциальных подмостках (образцы того и другого зачастую появляются на экранах Запада и у нас).
Но, занявшись некоторыми основными вопросами композиции кинокадра, мы тем самым выполним и первый пункт поставленной себе задачи: мы несколько разберемся в вопросе монтажа в условиях кинематографии единой точки съемки.
К тому же этот период кинематографии11 за своей давностью и примитивностью никакого теоретического вклада в вопросах композиции не оставил. С другой стороны, разбираясь в намеченных вопросах композиции кадра, мы не только устанавливаем в обратном порядке предпосылки к закономерностям монтажа на самом рудиментарном этапе, но одновременно разбираем и актуальнейшую задачу: вопрос пластической композиции отдельного монтажного куска.
338 Ибо отдельный монтажный кусок и есть, по существу, кинематограф единой точки съемки, где, в отличие от кинематографа единой точки съемки как этапа развития, нагрузкой служит не все содержание целой картины, а только известный фрагмент сюжета.
Начнем наше рассмотрение с самого простого случая: с неподвижного предмета, снятого с одной точки.
В этом случае мы можем вовсе не думать обо всем том, что мы прекрасно знаем из области кинематографии, а заняться им как явлением чисто пластическим и в первую очередь заняться теми его чертами, которые нам слишком мало известны из области живописи.
Мы уже давно, в течение многих лет, подчеркивали стадиальную связь театра и кино…
Когда же надо осветить какую-либо область кино или разобраться в ней, то всегда методологически целесообразно об этом не забывать и начинать разбор с соответствующего примера на театре, постепенно восходя до новой стадии этого же явления внутри новой стадии самого театра, то есть кинематографа.
Именно так мы поступим и здесь, так как будет методологически правильно начинать с наиболее наглядного с тем, чтобы уже потом двигаться к более сложному…
<Итак, речь идет о встрече предмета с углом, под которым на него глядят, и с рамкой, которая его выхватывает из окружения. По существу, оба — одно: второе — встреча с краями кадра, первое — с наклоном плоскости кадра. (Глубинное очертание — специфика «письма» объектива — пока что в стороне — это следующий этап отбора). Но одно мы привыкли именовать ракурсом, а второе — обрезом.
На сцене можно выйти за дверь. В жизни тоже. В кино, кроме того, можно выйти еще одним способом. Притом в любом месте. И при полном отсутствии дверей. Можно выйти из кадра. Так же и по любому иному признаку, ибо средства киновыразительности суть результаты расширения сферы выразительности предметов и явлений в быту или в быту, организованном по театральному признаку. Мизанкадр — это скачок из мизансцены. Это как бы мизансцена «второй степени», когда мизансцена движения смены точек камеры накладывается на ломаные линии мизансценного перемещения в пространстве.
Если мизанкадр — «выходец» из мизансцены, то интересно знать, «выходцем откуда» будет вопрос обреза кадра?
Кадр, как мы сказали, — стадия монтажа. По-видимому, «выходцем» он окажется из того, что является такой же стадией в отношении мизансцены. А чем — вовсе узко ставя вопрос — является мизансцена? Мизансцена (со всеми стадиями своего сворачивания: в жест, в мимику, в интонацию) есть как бы графическая проекция характера действия. А в частности, в применении к действующей единице, — графический росчерк ее характера в пространстве. Подобно почерку на бумаге или характерности следа ноги, вдавленного походкой в песчаную дорогу. Со всей полнотой и одновременной неполнотой. Недаром искусство театрального представления не ограничивается одними мизансценами, как и фильм — одним монтажом. Характер проявляется действиями (и в частном случае действий — [в] установившемся облике). Частная видимость действий — движения. По движениям мы судим о действиях ([по] голос[у] и слова[м] — тоже). След движений — мизансцена. Определения композиции кадра поищем по этой линии — по 339 линии характера. И начнем [с] характер[а] человека. Через него легче прийти к характеру облика пейзажа, к характеру и образа явления.
Характер действующего лица — отбор (в сил у социальных и индив[идуальных] предпосылок) из всего возможного лишь определенного комплекса черт и элементов действия и поведения. Характер предполагает выделенность некоего комплекса черт и элементов. Органичного. И противостоящего своими общеклассовыми признаками — другой классовости. И своими лично индивидуальными — иному индивидуально-личному.
Так или иначе — отбор. Отрез от иного. Заменим «т» на «б» — это и определит следующий функциональный этап индивидуализации. Обрез. Это и будет той частью характеристики, которая в обрисовке характера ляжет на кадр. Пластический обрез, определяющий характер, как высшая точка отбора им черт, отделяющих (выделяющих) его индивидуально из сонма остальных. Это отнюдь не значит, что если в характере человека — характерность прятать руки, [то] камера услужливо их тут же срежет краем кадра. Наоборот: кадр постарается так лечь по фигуре, чтобы скрывание рук особенно отчетливо звучало как сокрытие, а не как отсутствие. В облике человека в черном характерны белые руки. Кадр постарается их не убрать. При отчетливой характерности на фигуре случаен головной убор. Край кадра для него окажется гильотиной. И так далее. Мы стоим у низшего края кадрокомпозиции: «анекдотической», бытово-селекционной. Нужны руки в кадре или не нужны? Давать зонтик — не давать? Но очень быстро этого становится недостаточно>.
Обстоятельствами стадиальной связи театра и кино мы и воспользуемся для полного уяснения нужной нам сейчас темы.
Начнем с вопроса мизансцены. Вернее, с одного частного вопроса внутри ее проблемы. Вопроса частного, но, на мой взгляд, важнейшего в ее эстетике. К тому же вопроса, которому внимания почти не уделяется. Между тем, если он важен в мизансцене, то в вопросе эстетики ее потомка — мизанкадра — он играет еще во много раз более важную роль.
Возьмем конкретный пример.
Допустим, нам надо (на театре) спланировать сцену «ареста Вотрена» из инсценировки «Отца Горио» Бальзака.
Точнее: момент обличительного монолога Вотрена во время ареста. Я сейчас обхожу все вопросы мизансцены, кроме одного64*, который нам окажется непосредственно нужным. Я давал это задание в порядке упражнения на одной из своих лекций в ГИКе13. Первое решение, которое предложил вызванный к доске студент, рисовалось так (см. рисунок 1). Со свойственной юности прытью для этой 340 весьма темпераментной сцены этот юноша не мог обойтись меньшим, чем заставить Вотрена вскочить на стол! Остальные действующие лица, ошарашенные его словами, столпились вокруг стола, с которого Вотрен бичевал их своими репликами.

Рис. 1
Правильно ли это решено? Если мы подойдем чисто бытово, то решение ничего особенно беспокоящего в себе не имеет. Разве что заскок на стол может вызвать сомнение, но даже и это возможно, если предположить очень большую степень ярости и темперамента. Если же и это будет подозрительным с точки зрения правдоподобия, то мы можем вынуть стол из-под Вотрена, сохранив общий рисунок мизансцены: в центре Вотрен, кругом люди, которых он обличает.
И все-таки хорошо ли это? Повторяю — в бытовом отношении все в порядке. Люди вполне могут так расположиться. Вотрен вполне может так между ними ходить. Подходить. Изобличать.
Но все же это расположение чем-то неблагополучно. И коллективный инстинкт аудитории, как сейчас помню, сейчас же восстал против этого решения, даже еще не имея конкретных контрпредложений.
Если в бытовом плане все благополучно, то, по-видимому, в каком-то другом плане дело еще не благополучно. Отчетливо ощутилось, что: 1) есть еще какой-то план и 2) этот план непосредственно бытовыми условиями не исчерпывается и не определяется. Каков этот план, мы нарочно заранее не определяли, а дали волю контрпредложениям. В зависимости от темпераментов эти разрешения приняли разные формы (см. рис[унок] 2). Одни загоняли 341 его вверх по лестнице, откуда он громил. Другие спускали его к оркестру. Третьи и четвертые — менее экспансивные — ограничивались тем, что резко противопоставляли Вотрена группе пансионеров м[ада]м Вокэ в самых разнообразных положениях. Были опять споры. Но если в первом случае ощущалась при всей бытовой возможности какая-то «невозможность» подобной планировки по каким-то другим условиям, то здесь во всех этих решениях это условие отпадало. Спорили по деталям, но сходились на том, что нечто общее имеется у всех разрешений и что это общее уже как-то выразительно правильное. В чем же дело?
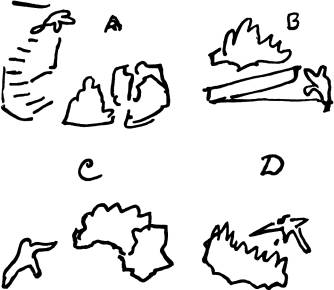
Рис. 2
Очевидно, что ABCD все могут быть приведены к одной общей схеме. Вотрен в каждом отдельном случае размещен справа, слева, сверху, снизу, но во всех случаях соблюдено одно условие: Вотрен вставлен не в центр группы, как в первом случае (см. рис[унок] 3), а вынесен за ее пределы. Мало того, он резко противопоставлен этой группе (см. рис[унок] 4). По-видимому, разница впечатлений именно в этом. Так как с точки зрения чисто бытового порядка все комбинации возможны в абсолютно одинаковой степени.
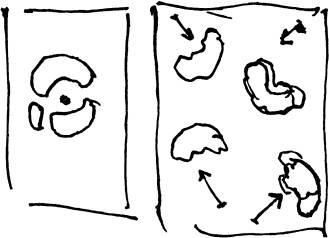
Рис. 3 Рис. 4
Каков же этот второй план, при котором, и только при котором, даже вовсе бытово благополучное разрешение начинает быть выразительно убедительным? Какими словами мы определяли новые соразмещения в отличие от прежнего? Мы говорили о том, что Вотрен вынесен, скажем, выброшен за пределы группы пансионеров м[ада]м Вокэ. И мы говорили, что он не только вынесен, но и противопоставлен этой группе. Буквально. Пространственно, линейно, графически. Но что в этой сцене произошло драматически и психологически?
Только что, до появления полиции, Вотрен был господином Вотреном, наиболее богатым и уважаемым среди пансионеров м[ада]м Вокэ. Плоть от 342 плоти, кровь от крови того «порядочного» общества, к которому принадлежат все неприглядные обитатели этого дома.
Появляется полиция. Маска сорвана (парик!). Вотрен изобличен: это беглый каторжник Жак Коллен. Он вытолкнут из круга порядочных людей. В последние минуты, прежде чем быть уведенным жандармами, он вырывается от них и бросает вызов тому обществу, которое его вытолкало. Обличает его. Пансионеры м[ада]м Вокэ — эта маленькая группа людей — в данный момент представительствуют все буржуазное общество. Вотрен противопоставляет свою отвагу и силу им. Он один противостоит этому обществу и борется с ним. Оно ничуть не лучше его, преступника. Оно полно таких же негодяев и т. д. и т. д.
То есть, если мы всмотримся в психологический и драматический рисунок действия, то мы обнаружим, что он, оказывается, выражается именно этими же словами. Различие будет состоять лишь в том, что эти же слова тут будут фигурировать не в буквальном смысле, а в переносном (метафорически).
Таким образом, линейное движение и пространственное соразмещение в мизансцене оказалось «обращенной» метафорой. Процесс оформления оказался как бы состоящим в том, что обозначение психологического содержания сцены при переводе в мизансцену претерпело возврат из переносного смысла и непереносный, первичный, исходный.
Я говорю — «возврат», ибо достаточно известно, да и самое обозначение «переносное» (мета-фора; пере-носить) всегда напоминает о том, что переносные обозначения ранее фигурировали как простые непосредственные физические действия. («Меня тянет к вам», «я пресмыкаюсь перед вами» и т. д. и т. д.)
Из этого наблюдения мы можем установить уже известную закономерность. Чтобы быть выразительной, мизансцена должна отвечать двум условиям.
Она не должна противоречить принятому бытовому поведению людей.
Но этого недостаточно.
Она должна еще в своем построении быть графической схемой того, что в переносном своем чтении определяет психологическое содержание сцены и взаимодействия действующих лиц.
Мы сказали — «схема». Схема вбирает в себя двоякий смысл. Ее более ходкий смысл связан с представлением об оскудении, обедненности, неполноте. По существу, это понимание «схемы» в смысле «схематизма». Но «схема» имеет еще и другой смысл, а именно — смысл графического изображения наиболее обобщенного представления о явлении. Именно в этом смысле термин «схема» фигурирует у нас. Если, не зная, в чем дело, взглянуть на рис[унок] 2 (где ABCD Вотрена), то одно окажется совершенно отчетливо: некая единица противостоит некоей массе (группе единиц). Мало того, в этом она окажется одинаковой и общей для всех четырех случаев ABCD. То есть схема уловила основное взаимоотношение вне всяких частных, предметных и конкретных значений отдельных ее элементов. То есть представила отношения в наиболее обобщенном виде. Оставаясь в таком виде, обобщение настолько велико, что становится уже тем, что мы обозначаем абстракцией.
Если же она пронизывает и пространственно соразмещает конкретных людей, конкретных носителей именно того действия, которое схемой имеет или может иметь именно ее [абстракцию], то картина приобретает полную убедительность и выразительность.
343 Это положение мы можем сформулировать как обязательное условие для мизансцены.
Мизансцена должна служить графическим обобщением того, чем является содержание действия.
Убедительность и выразительность в таком случае появляется потому, что только в таком случае построение будет действительно реалистическим, являя единичное бытовое поведение данной группы людей в условиях данной драматической ситуации и одновременно эти же отношения, приведенные к наиболее их обобщенному виду.
Строго говоря, только при соблюдении этих обоих условий (помимо всяких второстепенных и специфических привходящих условий) можно говорить о реалистической композиции мизансцены, то есть о композиции ее вообще!
В чем было неблагополучие первого — ошибочного разрешения этой сцены? А в том, что бытовые элементы действия были собраны по композиционной схеме, не отвечавшей рисунку внутреннего взаимоотношения действующих лиц. Мало того, по схеме, весьма отчетливо обобщенно выражающей совсем иной тип взаимоотношений единицы и группы. Действительно, забудьте о ситуации и взгляните на схему [см. рисунок 3]. При всей своей абстрактности она вам подскажет все же очень определенный тип возможных по ней отношений. Но среди них той, которая была задана, никак не окажется. Вы сможете прочесть ее: или как благостного отца, благословляющего покорных детей. Или как группу, со всех сторон набрасывающуюся на преступника. Но никак не как замкнувшийся коллектив, противостоящий единице, или наоборот.
Полезно, может быть, отметить, что как мизансцена вообще не ограничивается горизонтальной плоскостью пола, так и «метафора» ее может с таким же успехом прочитываться и вертикально.
В этом отношении занятно отметить, что в ошибочном решении часть его — как раз вертикальная — имела элементы правильности: человек может быть вынесен за пределы группы и по вертикали — вверх. Доминирующий Вотрен и было то ощущение, которое, видимо, заставило автора воздвигнуть его на стол. Но эти благие намерения были сбиты ложным разрешением горизонтали, «обнимавшей» группой людей Вотрена!
Я люблю рассматривать каждое явление как некоторую промежуточную стадию. Как некое «сегодня», имеющее свое «вчера» и свое «завтра». Как состоящее в некоем ряде, имеющее свое «до» и свое «после». То есть предыдущие стадии и последующие. Линия сворачивания каких-то признаков ведет к скачку в предшествующую стадию, линия максимального разворачивания — к скачку в последующую стадию, общие закономерности, видоизменяясь, переходят диалектически из стадии в стадию, приобретая новые чтения и значения, но сохраняя общие предпосылочные основы.
Проследим правильность наших утверждений по двум таким «соседним» стадиям в отношении мизансцены.
Испокон веков я считаю и обучаю, что жест (а дальше и интонация) есть мизансцена, «собранная на человеке». И наоборот — мизансцена есть жест, «взорвавшийся» в пространственный перебег. Это соотношение повторяется дальше и на следующем этапе театра уже как целого — в кино: там мы говорим, что кадр «взрывается» в пробег монтажных кусков. И наоборот, что монтажный ход собирается, сворачивается в композиционный росчерк 344 облика кадра. С другой стороны, мы только что вспомнили и показали, что мизанкадр есть мизансцена на высшем уровне развития65*.
Так вот, возьмем наше утверждение о вторичном метафорическом и обобщающем условии, которому должно быть подчинено построение, чтобы прочитываться реалистически во всей полноте, и проверим его по двум таким «соседним» стадиям. По линии жеста и по линии композиции кадра. Ведь совершенно ясно, что пластическая композиция кадра есть «прогулка взгляда» по плоскости экрана, то есть мизансцена глаза, [перенесенная] с горизонтального пола сценической площадки в вертикальную плоскость киноэкрана. Жест и его производные не являются прямой темой нашего разбора, а потому мы пройдемся по этой области, не слишком углубляясь и касаясь из этой дисциплины лишь того, что нам здесь непосредственно интересно и что непосредственно перекликается с тем, чем мы заняты в данной работе.
Пластическая же композиция кадра является одним из основных и предпосылочных звеньев нашей темы, и здесь нам придется остановиться значительно подробнее, здесь мы увидим, что и в этой, вновь открываемой области приложения намеченной закономерности мы найдем бесчисленные примеры подтверждения и перекличек с прежними эпохами культурного наследства.
Итак, о двух элементах внутри жеста и в особенности о втором — обобщающем элементе внутри его.
Пусть мысленно перед читателем пронесется ряд самых разнообразных выражений фигуры, жеста и лица на одну и ту же тему. Пусть это будет, например, выражение отвращения. Отвращение малое и отвращение великое. От гримасы до тошноты. Отвращение физическое и отвращение моральное. Отвращение разных возрастов и отвращение по самым разнообразным случаям. Пусть читатель конкретно увидит такие выражения перед собой. Пусть мысленно переживет и физически проиграет такие разные случаи отвращения.
345 Разновидностей выражения окажется легион.
Но весь этот легион может быть приведен к одному знаменателю. Все их многообразие явится разновидностями одной основной схемы, которая сквозным образом будет проходить через все случаи и разновидности. Мало того, всякое движение, не сидящее на этом костяке, не отвечающее этой схеме, никогда как отвращение прочитываться не будет.
Какова же она?
Исследование мизансцены тем хорошо, что оно может быть представлено наглядно-графически — поэтому я всегда с него начинаю.
Закономерности в других областях совершенно того же порядка, но в тех случаях приходится прибегать к словесным описаниям, что всегда менее явственно и наглядно.
Попробуем, однако, из многообразия частных проявлений выделить хотя бы описанием то существенное для отвращения, что будет присутствовать во всех частных случаях отвращения. И здесь мы оказываемся в гораздо более благополучных условиях, чем мы могли это предполагать. Решающая сквозная схема, в равной мере характерная для всех частных случаев отвращения, будет… отвращение — от вращение. И, действительно, сколько бы мы частных случаев отвращения ни приводили, в них всегда будет присутствовать эта основная моторная характеристика. Во всех случаях костяком движения будет служить в разной степени объема и наглядности процесс отворачивания, отвращения от предмета, вызвавшего такое отношение. Это движение с предельной полнотой воплощает самый смысл, самую сущность содержания того отношения, которое мы испытываем к отвратительному явлению, к явлению, вызывающему отвращение. Что же оказывается?
Само обозначение, возвращенное из своего переносного метафорического значения обратно в то физическое движение, которое явилось прообразом соответствующего психологического отношения, само обозначение, возвращенное в его первичный двигательный смысл, оказывается, содержит точную 346 формулу, схему, в равной мере характерную для всех частных оттенков, для которых оно и служ[ит] общим обозначением. Только ли и могучий и сильный русский язык столь счастлив в этом отношении? Конечно, нет. Разбираемое явление чисто семантического порядка и должно в равной мере иметь место и в других языках. И действительно, французу, англичанину или немцу его язык оказывает ту же самую услугу:
— a -version, a-version, Ab-scheu.
Но, может быть, это характерно только для отвращения? Конечно, нет. Возьмите «подлизыванье», возьмите «заносчивость», возьмите «прибитость» или «раздавленность» горем. Во всех случаях словесное обозначение, то есть обобщенное понятие по многообразию частных случаев, будет содержать точную композиционную схему того основного, обобщающего, образного и характерного, без чего данное движение или поза никогда не будут прочитываться тем, что заключено в их обозначении.
Конечно, метод нахождения того или иного положения или жеста никогда не будет идти отсюда. Нахождение будет всегда процессом и результатом остро переживаемого ощущения и эмоции соответствующего порядка. При ощущении, правильном до конца, образ того или иного состояния будет верен и в частном чтении и в обобщенном. Но… не всем, не всюду и не всегда можно рассчитывать на такую полноту проявления.
Не все актеры обладают таким тончайшим по гибкости аппаратом выразительности, как этого требовал хотя бы А. Н. Островский:
[«… Чтобы стать вполне актером, нужно приобрести такую свободу жеста и тона, чтобы при известном внутреннем импульсе мгновенно, без задержки, чисто рефлективно следовал соответственный жест, соответственный тон. Вот это-то и есть истинное сценическое искусство…» (А. Н. Островский, Записка о театральных школах)].
Для многих и многих этот путь перехода тернист и труден, и в девяноста девяти из ста случаев актер будет нуждаться в коррективе глаза и ощущения 347 режиссера. И помимо столь же острого ощущения режиссер еще должен знать.
Как видим, картина, абсолютно идентичная тому, что мы разобрали на примере с мизансценой.
Подкрепивши таким образом правильность наших положений о мизансцене еще на одной области, обратимся теперь к основной нашей теме, к явлению одноточечной кинематографии, или к пластической композиции отдельного монтажного куска, или попросту к композиции кадра. Забудем на время все, о чем мы здесь говорили. И взглянем в порядке непосредственного впечатления на две прилагаемые картинки — схемы, изображающие баррикаду [рисунки 5 и 6].
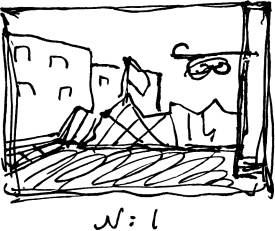
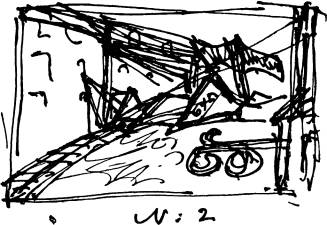
Рис. 5 Рис. 6
Совершенно очевидно, что с точки зрения изобразительной и наполненности бытовыми деталями обе картинки совершенно идентичны. Но столь же очевидно, что на вопрос, которая из двух картинок больше выражает баррикаду, всякий зритель проголосует за № 2 против № 1. В чем же дело?
По линии бытовой, предметной, изобразительной — они одинаковы.
А в чем разница? Разница в композиционном соразмещении этих элементов изображения.
А в чем состоит эта композиционная разница? Разница в том, что одна картинка (вторая), в отличие от другой (первой), не ограничивается тем, что дает изображение баррикады, а построена так, что, кроме того, еще ухватывает и образ внутреннего содержания баррикады — борьбу.
Композиционные элементы размещены в ней так, что каждый из них прочитывается как метафора. А совокупность всех их между собой прочитывается как образ борьбы. То есть как обобщенный образ внутреннего содержания того, что изображено на картинке.
Действительно.
1. Если мы возьмем плоскость домов и плоскость баррикады, то мы увидим, что на рис[унке] 5 они примкнуты друг к другу. На рисунке 6 — плоскость баррикады врезается в плоскость стены домов.
2. Если мы взглянем на линию подножия баррикады, то мы увидим на [рисунке] 6 (в отличие от [рисунка] 5), что эта линия врезается в мостовую.
3. Если мы проследим верхний край — контур баррикады на рис[унке] 6, то мы увидим, что контур этот представлен раздираемой ломаной линией, которая как бы запечатлевает фазы борьбы: кажется, что каждая точка переломов контура является точкой столкновения с переменным успехом двух противоборствующих сил.
Ведь эта ломаная [линия] прочитывается так, как показано на рис[унке] 7.
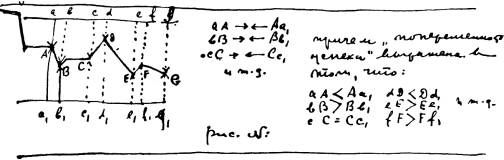
Рис. 7
4. Знамя врезается характерным острым углом в пространство неба.
5. Наконец, верх метафоричности рис[унок] 6 приобретает в размещении вывески с кренделем. Здесь то, что принято видеть наверху, сброшено вниз: вывеска кренделя сброшена к ногам баррикады. Но на этот раз не так, как изобразительно легла вывеска булочной физически, предметно под баррикаду, а исключительно композиционно. И отличие этих двух случаев в том что вывеска никаким вторым планом, кроме бытового, и не прочитывается. В то время как подтекстовое чтение второй вывески — кренделя — читается не как «сброшенная вывеска», а как «переворот»: то, что было вверху, — стало внизу. И на это переносное чтение толкает то обстоятельство, что здесь дано 348 не фактическим снятием кренделя, а композиционно, то есть точкой зрения? на явление.
Если ссуммируем все эти элементы, то мы увидим, что мы имеем в рис[унке] 6 три случая врезывания — плоскости в плоскость (1), линии в плоскость (2), угла в плоскость (4) — одну ломаную линию, как бы сейсмографический след некоего процесса борьбы и, наконец, такое соразмещение элементов пейзажа, которое отчетливо толкает на мысль перевернутости общепринятого порядка.
Таким образом, рис[унок] 6 буквально по всем признакам выражает идею и образ борьбы:
1. По наиболее простому — предметно-изобразительному: картинка изображает баррикаду.
2. По предметно-образному: элементы так композиционно соразмещены, что дают представление о перевернутости. При этом композиция своим переворотом вещей повторяет изобразительную сторону, где тоже опрокинуты и перевернуты на баррикаде вещи (запомним это, ибо к этому моменту мы еще вернемся).
3. По линии наибольших обобщений: столкновение плоскостей, плоскостей и линий, линий и плоскостей.
4. И, наконец, по линеарной характеристике основного контура, прочитываемого как след целого процесса борьбы.
Причем все эти черты пронизывают друг друга и ничем не разрывают бытовую изобразительную целостность самого явления как такового. (Ни разлома формы, ни кубистических «сдвигов», ни многоточечности перспективы или т. п.)
Совершенно ясно, что эта же тема должна была бы так же последовательно пронизывать и светоцветовое построение, где по-своему, своими средствами воплощалась бы эта метафора борьбы, помимо правильного бытового размещения цвета и световых пятен. В дальнейшем, ссылаясь на этот пример, мы будем из всего многообразия главным образом придерживаться простейшего из всех случаев, а именно, что, если сгруппированные предметы изображают баррикаду, то соразмещение их должно быть таким, чтобы линия их контура выражала обобщенный внутренний образ содержания баррикады — борьбу.
349 Вне этого условия полноты звучания, ощущения баррикады, Баррикады с большой буквы не получится.
Здесь же совершенно уместно сказать, что такой же неполнотой будет обладать картинка, которая, упразднив изобразительную сторону, пожелала бы ограничиться одним образным обобщением. Мы получили бы картинку, которая могла бы быть… чем угодно (см. рисунок 8).
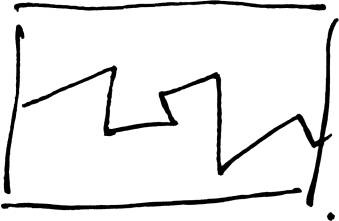
Рис. 8
Высказываний в этом плане у мастеров искусства можно найти много. Нынче мы справляем юбилей великого скульптора-реалиста М. Антокольского14. Воспользуемся по этому случаю именно его словами:
«Две крайности не хороши в искусстве: это — подводить искусство под условность, а второе — слепо подчиняться природе» (цитирую это его высказывание по статье Э. Леви в «Известиях» от 5 июля 1937 г.).
Я думаю, что в наличии этих двух элементов — частного случая изображения и сквозящего через него образа обобщения — и скрыта неумолимость и всепоглощающая сила образной композиции.
В культуре кадра именно этот элемент играет громаднейшую роль.
Любопытно, что живопись это знает с очень незапамятных времен. Культура же кадра, если интуитивно это иногда и осуществляла (в некоторых фильмах даже часто и целиком), этому вопросу совсем не уделяла внимания.
Тем более что для понимания монтажа и звукомонтажа эта, казалось бы, чисто пластическая черта и особенность играет громаднейшую роль. И это потому, что она является приложением в области пластики одной весьма и весьма обширной общей закономерности, недаром же и лежащей в основе того, что мы понимаем под реализмом в самом широком смысле.
Однако посмотрим, как об этом же говорит живопись. Взглянем, как это же имеет место в соседних областях. И, наконец, посмотрим, как этот элемент при переходе на кино сменяющихся точек видоизменяется и расцветает 350 в новом качестве, с тем чтобы в тонфильме достигнуть апогея обобщения и силы.
Итак, обратимся первым долгом к живописи.
Для наибольшей отчетливости изберем для начала из всего многообразия ее видов и образцов те из них, в которых два условия наиболее сильно выражены. А именно: во-первых, — такую живопись, где играет большую роль линия, и, во-вторых, — ту, где обобщение особенно сильно представлено и иногда настолько важно, что ради него готовы жертвовать изобразительной стороной.
Такое искусство по первому признаку следует искать в Азии. Об этом пишет, например, L. Binyion в «Painting in the Far East», Lnd. 1923:
«… The painting of Asia is troughout its main tradition an art of line…»66*. Это не устают напоминать индусские учителя эстетики: «… The same is implied by Indian authorities when they remind us that it is the line (rekha) that interests the master, while the public cares most about color…»67*.
NB. Не следует вульгаризировать это высказывание: раздельность интересов мастера и публики следует прочитывать в его истинном смысле. Непосредственно апеллирует [к] восприятию цвет, в данном случае стоящий за изображение. Вторично же «опосредствованно» — линия, стоящая здесь за раскрытие обобщенного образа в том смысле, как мы об этом говорили выше.
Второе условие — подчеркнутость обобщения — прежде всего мы, конечно, найдем в китайской живописи.
Это в их живописи с особенной полнотой представлена тенденция схватить из явления его обобщенную существенную реальность, освобождая ее от мимолетного и преходящего.
Это особенно характерно для «южной» или так называемой «литературной» школы живописи. Этот новый тип ландшафтной живописи был введен Ван Веем15 в средний период династии Тан (618 – 905), [и] именно так надо понимать то, что пишет Chiang Yee в «The Chinese Eye» (p. 99)68*:
«The painters of the “Literary” school do not study a landscape tree by tree and stone by stone, and fill in every detail as it appears to them, with brush and ink; certainly they may have been familiar with the scene for months and years, without seeing anything in it to perpetuate: suddenly they may glance at the same watery and rocks in a moment when the spirit is awake, and become conscious of having looked at naked “Reality”, free from the Shadow of Life. In that moment they will take up the brush and paint the “bones” as jt were, of this Real Form; small details are unnecessary…» (p. 99)69*.
351 Здесь мы встречаемся с термином «костяк» (bones). И этот линейный костяк, призванный воплотить «истинную форму», «обобщенную сущность явления», и есть тот костяк, о котором мы говорили, разбирая пример с баррикадой. […]
Особенно интересно отметить, что эта же линия костяка является одновременно и основным средством выразительности авторского эмоционального росчерка — авторского «жеста кистью» — следом авторского движения. Это абсолютно верно, ибо обобщение по предмету, в отличие от самого предмета «an und für sich»70*, есть уже продукт относительный, связанный с авторской индивидуальностью, авторским сознанием, и является выражением авторского отношения и суждения по данному предмету. Как бы самовыражением через трактовку авторского сознания, являющегося отражением тех социальных отношений, в которых складывается авторская индивидуальность.
Значение этого обобщающего осмыслителя может сохраняться за линией и в тех случаях, когда мы имеем дело совсем не с линейным par excellence71* искусством Азии. Возьмем пример из западной живописи и примеры из «густоживописной» живописи.
Здесь «контурная линия» возникает по-своему и своеобразно, но и здесь она несет соответственную же функцию. Вот что пишет, например, Fritz Burger в «Cézanne und Hodler», 5-te Auflage, 1923, S. 166:
«… Delacroix… und — Cézanne… — ergeben den Raum, das Bild, aber ohne je das vereinheitlichende imaginäre Grenzmotiv der Farbflecken aus den Augen zu verlieren. Es sind Konturen ohne materielle Eigenexistenz. Das hatte Cézanne ebenfalls von Delacroix übernommen…
… Schon Daumier… wußte diese Farbkontur zu gebrauchen, ja sie war förmlich das Instrument, auf dem er… seine wilden leidenschaftlichen Kadenzen erklingen ließ, ein Virtuose, der sich mit den Fäusten das Licht aus der Finsterniß schlug… Seine hellen und [dunklen], alles begrenzenden, belebenden, wilden Konturen bringen alle Teile des Bildes auf einen Nenner. Aber er denkt weniger an ihre Mimik, nicht an ihre motivische Abwandlung, nicht an die Gesetzlichkeit des Bildes. Die Kontur ist ihm Geste, aber nie eigentlich Gestaltmotiv. Hierdurcli unterscheidet er sich vor allem von Cézanne. Für diesen sind die Konturen Farbe, die an dem reichen Wechsel des Farbmotivs teilnimmt…
… Aber nie erhält diese Kontur einen durchgehenden Duktus, nie eine Sonderexistenz oder eine Sondermission. Sie ist überall und nirgends, der stumme Diener des Ganzen, sie war die “Zeichmmg” seiner Bilder, die man freilich vergeblich suchen wird»72*.
352 Совершенно ясно, что роли изображения и образа (обобщения) в живописи могут с успехом меняться местами. Обобщение может с таким же успехом говорить через краски, разбросанные по изобразительному рисунку, как и в сложной системе композиционных контуров [оно может быть] пробегающим по красочному полю, ставящему себе прежде всего изобразительную задачу. Наконец, сливаясь друг с другом, они [то есть контур и цвет] внутренне разверстанно могут нести одновременно и обе функции.
Об этом единстве не только содержания по обеим сферам (которым мы в целях наглядности нарочно приписали раздельные функции в деле изображения и обобщения), но и об единстве их в процессе возникновения и становления особенно отчетливо сказал Сезанн, для которого «war nach semen eigenen Aussagen Malerei und Zeichnung em und dasselbe: “Le dessin et la couleur ne sont point distincts… on dessine plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise…”» (Fritz Burger, «Cézanne und Hodler», 5-te Auflage, 1923, S. 166)73*.
Я думаю, что после всего сказанного уже не будет сомнения в том, что «механического» разрыва между изобразительным и образным мы не делаем! Как по теме содержания, так и по очередности возможного несения этих функций и, наконец, по процессу возникновения мы видели их в совершенном единстве.
Цитата из Сезанна особенно близка кинематографическому случаю композиции, ибо именно там процесс изобразительного соразмещения реальных элементов действительности поистине неразрывен с одновременным построением их гранями композиционного росчерка внутренних контуров кадра.
Сюда же можно привести еще и другой тип единства рисунка как жеста со стихией цвета как основой изображения. Я говорю о Ван-Гоге. Неправ будет тот, кто за рисунок в нашем смысле примет только безумный бег очертаний того, что он изображает. Рисунок и контур в нашем смысле взрывают эти ограничения и устремляются внутрь самого цветового поля, застывая средствами не только нового измерения, но и новой выразительной среды и материала: движениями мазкое краски, одновременно и создающими и прочерчивающими красочные поля картины.
Для полного завершения картины остается еще указать, что изображение и образ обобщенного содержания этого изображения еще и исторически стадиальны. То есть что обобщение по изображению вырастает и вырабатывается постепенно. Образное обобщение физически вырастает из простого изображения. То, что происходит в нашем творческом сознании каждый раз, когда мы компонуем, на протяжении истории искусств имело целый период становления такого перехода.
Вот редкий и яркий образец, иллюстрирующий наше положение и являющийся образцом такого «переходного» типа, где образное оформление идет еще под знаком предметной изобразительности этого образа.
Прежде всего уточним одно соображение. То, что мы только что проследили и обосновали в картинке как изображение и обобщение внутренней сущности изображаемого (в интерпретации его средствами пластики), является как бы отраженным образом того процесса, который происходит с любым индивидуальным сознанием и с историей сознания в целом на путях формирования обобщенных понятий из частных явлений. Есть стадии, когда еще существуют только 353 частные случаи и нет еще обобщенного понятия. Затем возникают стадии развития, когда вырабатывается наравне с этим знанием большого количества частных случаев и познание общего для них всех понятия о явлении. (Одно «сквозит» через другое.) Наконец, имеют место слои истории, когда это обобщение — «идея» — начинает философски существовать как единственно существенное, поглощая частное, «случайное», мимолетное, хотя оно-то как раз и придает плоть, кровь и предметную конкретность этой «идее» явления. Отражение этих концепций систем сознания, принципов и стадий развития в методах отдельных этапов развития искусств и прочитывается там как отдельные стили. В первую очередь, конечно, как три основных принципа: натуралистический, реалистический и условный. Как основные три принципа, отвечающие основным типам развития познающего сознания. Каждый отрезок истории проходит этими фазами, совершенно так же, как через подобные же фазы проходит судьба каждой новой социальной формации, последовательно становящейся у кормила истории и соответственно отражающейся в сознании людей и образах, ими порождаемых.
Вторя истории, искусства каждый раз по-своему, но неизменно стилистически, как бы циклически, проходят фазами этих тенденций.
Интересующий нас в данную минуту «момент» будет по линии формирования сознания тем самым, когда обобщение, понятие еще не целиком сумело «выделиться» из предметности частного случая. Когда обобщенное понятие, например, «несения» не может еще отделиться от представления наиболее привычного «носителя». Именно такой случай как раз по поводу этого действия закрепился в одной очень любопытной весьма древней индусской миниатюре (см. рис[унок 9]).
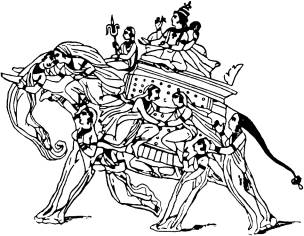
Рис. 9
Следует предположить, что в этом случае композиционный обобщающий контур предстанет не обобщенной динамической схемой, как в случае ареста Вотрена или абриса баррикады, а сохранит в себе элементы полуабстрагированной изобразительности.
Именно так дело и обстоит с предельной ясностью на нашей миниатюре.
Миниатюра эта изображает сонм райских дев, переносящих с места на место бога Вишну16. Изображены девушки, несущие фигуру сидящего мужчины. Действие изображено совершенно точно. Но автору мало этой изобразительности. Он хочет со всей полнотой передать идею того, что девушки несут Вишну. Мы в разобранных примерах в этом случае прибегали к чему? Мы помимо предметного изображения заставляли еще композиционные элементы — в частности, контур — вторить тому же содержанию, но представленному в виде наибольшей степени обобщения по тому же содержанию. Мы выносили обобщение за пределы непосредственного изображения в область композиционного расположения изображаемого.
Так же поступает и наш индус. Но он не ограничивается тем, что было бы сделано в более поздний этап развития. Он «идею» того, что одни несут другого, перекладывает не в игру объемов между собой, не в соразмещение масс, не в распределение напряжений по контурам или [в] выразительно[е] членени[е] пространства, вторя в этом содержанию действия фигур. Он поступает иначе. Он знает, что царственное перенесение связано с восседанием на слоне. Что индусские раджи и высокие представители власти в торжественных случаях проезжают через народ на слонах. И идея торжественного перенесения у нега неразрывно связана со слоном, то есть [с] тем, кто переносит раджу в торжественных случаях. Но здесь божество несут девушки, а не слон! Что же остается делать? Как одновременно соединить изображение несущих девушек и «образ перенесения» — слона?
354 Наш мастер находит выход! Вглядитесь в контур, по которому собраны девушки и их развевающиеся легкие одежды. Все эти фигуры и детали собраны по контуру, который совпадает с абрисом, силуэтом… слона! Этот поразительный и единственный в своем роде пример наглядно нам показывает, как обобщение вырастает из предпосылки конкретно изобразительного порядка. И что даже в своем еще не очищенном виде оно берет на себя композиционную функцию.
По ходу нашего разбора мы один раз сказали не просто перенесение, а царственное перенесение. Я думаю, что предложенный образец можно прочитывать двояко. Как случай первичного простого переносного смысла, чем, по существу, является всякое слово, и как случай метафорической характеристики. То есть толковать контур слона как желание выразить сверх показа перенесения еще и идею перенесения как такового. Или толковать этот контур слона как желание выразить идею царственного перенесения. Рассуждение пригодно для обоих случаев. Придерживаясь же второго, мы просто еще больше расширяем горизонт наших соображений. Мы лишний раз подчеркиваем, что наш тип обобщения есть обобщение художественного типа, то есть обобщение, тенденциозно и эмоционально окрашиваемое. Т[от] или ин[ой] тип обобщения, котор[ый] мы через композицию применяем к изображению, заставляет его звучать в той тональности, которую мы желаем придать изображаемому явлению. Оно растет из нашего социального отношения к этому явлению. Здесь на этом месте мы можем расширить и условия нашего примера с баррикадой. Если нужным внутренним раскрытием в ее контуре был образ (идея) борьбы, то это еще далеко не все, что должен говорить контур. Характеристика баррикады, прочитанной в конкретном сюжете, помимо этой общей идеи о баррикаде каждый раз будет еще нести частный образ этой идеи применительно к ситуации, в которой фигурирует баррикада. Идеей было перенесение. Образом было царственное перенесение. Средством была «метафора» слона.
355 Зигзаг контура баррикады отвечал идее борьбы, заключенной в изображении баррикады.
Но баррикада может быть, например, «победоносной», «неприступной», «раздавленной». И каждое из этих чтений будет оформляться по-своему. И в основе каждого будет свой предметный «слон», если в композицию он и не будет допущен таким полным портретом. Ибо иного пути нет.
И никто никогда не сумеет прочертить абрис «раздавленной» баррикады, отличный от «неприступной» баррикады, если он: 1) не сумеет сперва усмотреть характерную картину раздавленности чего-либо и если он 2) не сумеет должным образом «выделить» из этих частных случаев характерные черты «раздавленности», в отличие от «неприступности», и, наконец, если он 3) не сумеет собрать необходимые бытовые детали своего материала — в данном примере: предметы баррикады, мостовую, стены домов, вывески74* — композиционно, согласно схеме, обобщенно выражающей именно это содержание, в отличие от всех иных возможных.
Я думаю, что осталось в этом вопросе сделать еще только одно: «развести оглобли» двух сцепляющихся понятий — образа и метафоры. Совершенно очевидно, что здесь мы тоже имеем три стадии связи (как в случае кадрик — кадр — монтаж). Я имею в виду: слово — метафора — образ. Всякое переносное слово есть метафора, но уже лишенная остроты своего первичного появления.
В них [то есть словах] утрачено ощущение процесса переноса — они безжизненные результаты когда-то состоявшихся процессов переноса. Метафора — действенная метафора — это случай становления переносного смысла, участие в акте образования нового переносного смысла. Поэтому необходима «новизна» их образований. «Затасканная» метафора не имеет этого условия. Но [свежая метафора есть] участие в единичном образовании такого рода: установление этого процесса обмена качествами между некоей парой, той, которой свойственно это качество, и той, которой неожиданно из другой сферы переносно придается это качество, обычно неассоциируемое с ней. Здесь уже имеется рудимент того, что во всей полноте расцветает в образе. Здесь уже ощущение предмета не только непосредственно прямое, но еще и расширенное за сферу черт и признаков, которыми эта сфера ограничена. Восприятие уже двупланное. Именно в таком смысле о метафоре говорит Дидро:
«… Qu’ entendez-Vous parces expressions heureuses… Je vous répondrai que ce sont celles qui sont propres à un sens, au toucher par exemple, et qui sont métaphoriques en même temps à un antre sens, comme aux yeux. D’où il résulte une double lumière jour celui à qui l’on parle, la lumière vraie et directe de l’expression et la lumière réfléchie de la métaphore…» («Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient»)75*.
И, наконец, образ, который, по-моему, составляется как обобщение, сводная совокупность отдельных метафор воедино. Это снова не процесс образования, а результат, но результат, как бы сдерживающий сонм готовых разорваться динамических (метафорических) потенциальных черт. Тот тип неподвижности, 356 который есть не покой, а высшая точка динамики. Потенциально-динамически в том смысле, что в нем, как зарницы, трепещут отдельные его составляющие, из которых каждая может обратиться единичной молнией метафоры. Эти термины климатической станции вырываются у меня потому, что именно такой образ грозовой бури стоит сейчас передо мной, в то время, как я об этом пишу. Это — Петр I из «Полтавы», который «весь как божия гроза». Комплексный образ «Петр — гроза» именно и является таким сводным обобщением уже не по отдельным чертам и признакам, а по отдельным метафорам этих признаков, всех этих ненаписанных, но внутри обобщающего образа проносящихся (без того, чтобы их называть и конкретно регистрировать!) «молний» взгляда, «грома» голоса, «порывов» движения, «урагана» чувств и т. д. (С этим мы уже встречались на примере с баррикадой, где тоже образ борьбы — не словесный образ, как здесь, — также вырастал из совокупности отдельных метафорически прочитываемых элементов композиционного представления элементов изображения.)
Следующей ступенью этого ряда было бы еще большее обобщение, уже граничащее с абстракцией, когда «божия гроза» предстала бы очищенной от изобразительной стороны, только схемой грозы и бури. Абстракция вовсе не такая уже страшная. В нашем случае это было бы, например, переложение действий Петра на стихотворный ритм и звучание грозы, без того, чтобы гроза еще фигурировала словесным изображением, — система раскатов в звуке, резких обрывов и разрывов в ритме фраз и столкновения фраз друг с другом. Это давало бы ощущение той же бури и грозы, данных в наиболее обобщенных по ним признаках: гром и молния, приведенные к столкновению (в данном случае словесных масс — фраз), молния в зигзаге смены длин и направленности фраз, гром в аллитерационных, скажем, раскатах созвучий. Мы можем спокойно сказать вместо «давало бы» просто «дает». Совершенное мастерство в этом плане и состоит в том, что поэт проводит единую образную мысль одновременно через все «слои» выразительности: «влево» до метафоры и слова и «вправо» до величайшего обобщения в метре, ритме и звуковой фактуре.
Из шатра…
Выходит Петр. Его глаза
Сияют…
Движенья быстры,
Он прекрасен.
Он весь, как божия гроза.
Мы очень обстоятельно прошлись по вопросу пластической композиции. Мы прошлись в ней по тем случаям, когда ее средствами были линии и краски. Мы не упустили случая, когда ее средствами оказывались слова и звуки. Мы удели ли этим вопросам столько внимания, что нам уже грезятся фантомы и призраки бесчисленных… фирсов, грозящих костлявыми пальцами: «А человека-то позабыли?!»17
Уважаемые фирсы! Человека мы вовсе не позабыли. И к этому месту мы и хотим сказать о человеке. И самое к этому месту существенное.
Очевидно, что на экране должна быть полная гармония. Гармония драматической ситуации, характера человека, пластического строя экранного изображения и тонального строя звукообразов.
И определяющим началом, ключом к этой гармонии, конечно, явится герой произведения — человек.
И то, что мы здесь наблюдали по всем отраслям пластической деятельности человека, есть не более как отражение в строе произведений того, что лежит в основе выразительного поведения человека вообще.
357 Но нас здесь интересует не столько картина человеческого сознания, сколько область его проявления в выразительности человека. Мы уже касались вопроса двупланности жеста в условиях его прочитывания и восприятия.
Скажем здесь лишь бегло о том, что и внутри самого жеста у человека, говорящего о чем-либо, в образе становления этого жеста присутствует такая же неразрывная в единстве двупланность: воспроизведение явления и выражение отношения к явлению. Иначе и быть не могло бы, ибо пластическое произведение с этих точек зрения есть воплощение в данном случае не на себе, а на холсте76* именно этих взаимно проникающих друг в друга элементов содержания всякого жеста.
О физической двупланности реагирования писал еще Декарт.
Сейчас мы бы назвали эту «двойственность» возможного реагирования и наиболее интересный случай одновременной двойственности подобного реагирования «в противоречиях» — реагированием непосредственным и реагированием опосредствованным. То есть одно, непосредственно отвечающее на явление, и другое, реагирующее на базе умудренности опытом, на базе некоторых обобщенных данных по практике непосредственных реагирований. Картина в физическом поведении человека совершенно идентичная тому, с чем мы орудуем все это время.
Но интереснее другой классик вопросов выразительности. Тот, который впервые во всей полноте поставил вопрос о подобной же двупланности в психологическом содержании жеста. Я имею в виду интереснейшего мыслителя конца XVIII века, почти сплошь забытого в течение всего XIX века77* и справляющего сейчас бурное «возрождение» во всех новейших изучениях и исследованиях выразительности человека.
Это Энгель (Joharm Jakob Engel, 1741 – 1802), а сочинение его именуется «Ideen zu einer Mimik», 2 тома, 1785 – 1786.
Обычно любят «образно» связывать мимику с физиогномикой. Физиономия человека как бы обобщает наиболее ему свойственные мимические проявления. Привычные движения кажутся застывающими в сквозной характерной «маске» лица — его физиономи́ (то же и относительно всего мимического облика фигуры в целом).
Во всяком случае, в условиях искусственного художественного «воссоздания» подобного облика актер на себе, как китайский живописец на шелку, должен выстраивать эту же двупланность единого мимического проявления: физиогномический облик (обобщение по данному человеку — его характер), по которому проходит мимическое выражение (частный случай переживания этого характера). «Скупой» человек настроен «сладострастно». «Подозрительный» человек — «игриво». «Сосредоточенный» — «перепуганно» и т. д.
Что в данных случаях облик физиономии снова «построен» по всей закономерности обращенной метафоры — совершенно очевидно. По этому поводу мы могли бы повторить все сказанное об «аресте Вотрена», «отвращении» или «абрисе баррикады». Ограничимся одним примером. Великим мастером этого дела был Лев Толстой.
И не напрасно очень восторженно и наблюдательно пленяется, например, 358 Мариэтта Шагинян18 (по иному поводу) чертами, которыми Толстой наделяет Катюшу Маслову:
«… и ко всему этому косость глаз, — страшный, гениально обдуманный Толстым штрих, где сочетается мотив “зазывательности” и в то же время “безнаказанности” для того, кто соблазнит Катюшу, потому что косой, не фиксируемый78* взгляд как бы понижает чувство вашей ответственности “лицом к лицу” с таким человеком, как бы уводит от прямого столкновения с ним…» («Беседы об искусстве», 1937).
Эти же элементы мы знаем и по диалогу — этой последующей стадии игры жестом: и по произнесению его, и по построению его, которое всегда должно иметь в основе своей структуры интонацию истинного содержания его или интонацию (и слова), которыми прикрыт этот истинный смысл («слова даны, чтобы скрывать мысли», как говорил Талейран19). Но интонацию так или иначе.
Наиболее выразительным примером такой двупланности может служить разговор влюбленных. Где обобщенное — обмен чувствами — может избирать, и обычно избирает, набор самого нелепого словесного материала, через который ухитряется проступать вся «глубина» содержания отношений.
Сохранился по этому поводу анекдот о Стендале, захотевшем проверить неверность одной из своих бесчисленных любовниц. Путем подкупа ему удается проникнуть и спрятаться в комнате, где его любовница встречается со своим возлюбленным. Но нелепость того, что они говорят друг другу в любовном диалоге, так велика, что Стендаль разражается хохотом, обнаруживает свое присутствие, прощает свою любовницу и, кажется, с ней расстается, переуступая ее другому.
Блестящим литературным примером на ту же тему может служить знаменитый диалог Пугачева и целовальника из «Капитанской дочки» Пушкина. Это один из наиболее совершенных образцов иносказания, где через сторонние и малоконкретные выражения раскрывается глубокий смысл содержания передаваемого сообщения. Любопытно, однако, здесь то, что более обширным по включаемому смыслу оказывается здесь не самый факт (восстание Яицкого войска 1772 года), а те необъемлемые до потери очертания точного смысла поговорки, которые складываются в общую картину иносказания о восстании. Этот пример интересен случаем «обмена функций» обоих элементов нашего разбора: лишнее подтверждение единства двух планов, их возникновения друг из друга (индусский слон), и их перехода друг в друга (обмен функциями, как в приводимом примере).
Однако вот и сам пример:
«… — Где же вожатый? — спросил я у Савельича.
“Здесь, ваше благородие”, — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза… Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. “Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина…” Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: “Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?” Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: “В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?”
— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.
359 “Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!” При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Липкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года…» (Пушкин, «Капитанская дочка»).
Наше перечисление от случая к случаю шло, разбирая положения, когда значащий жест переходил в значащую интонацию, когда эта значащая интонация закреплялась материальным продуктом — закрепленным словом. Остается еще указать, что эта двупланность может дойти до следующей стадии предметности — до метафоричности самого предмета. В отличие от случая с царским орлом, содранным с вывески аптеки, приведем пример, где эта метафоричность предмета проведена с таким тактом ненавязчивости и небуквализации, что не скатывается в дешевую аллегорию. Я имею в виду похороны герцога из «Еврея Зюсса» Фейхтвангера20. [«… Погребение было совершено с необыкновенной торжественностью и пышностью. Бесконечная вереница траурных экипажей, факельщики, парадные траурные одеяния князей, вельмож, чиновников и слуг. Продолжающееся часами прохождение войск, звон колоколов, надгробные речи, церковное пение, пушечные выстрелы в честь усопшего… Но огромный парадный гроб, над которым звучали печальные речи, звенели колокола, гремели пушечные выстрелы и возносились церковные песнопения, был пуст. Скончавшийся герцог Карл-Александр за то время, пока его вдова спорила с герцогом-регентом, несмотря на искусство бальзамировавших его врачей, успел так разложиться и стал распространять такое ужасное зловоние, что его пришлось задолго до торжественных похорон тайно предать земле в новом Людвигсбургском склепе…» (Лион Фейхтвангер, «Еврей Зюсс», стр. 473, ГИХЛ, 1936).]
Трудно передать менее навязчиво, бытово оправданно и «без задней мысли» с виду мысль о том, насколько герцог всю свою жизнь был «пустым местом»!
Но этот пример привел нас уже к случаю, когда обобщение идет еще дальше, чем в предыдущих случаях, — не ограничиваясь ощущением, но выступая уже как оформленное суждение.
Здесь уже и мы сами в области суждения и обобщения выходим за непосредственные пределы той сферы, в которой мы орудуем, и переходим к следующей Какова же она?
Снова облокотимся на пример подобной тенденции в живописи. К этому месту я приберег еще одну цитату из живописной практики, на этот раз из высказываний Гогена о тенденциях группы «Les Fauves» (эпохи 1905 года) в комментариях Georges Duthuit’а [в книге «Chinese mysticism and modern painting»]:
«… To render the same sensation the line -was modified… At the risk of denying the truthfulness of appeararces as they are recorded by the retina during our everyday existence; at the risk of sacrifiing the accuracy of the measurements, they sought to discover, beneath the fleshy envelope, the internal structure of individuals and to brirg cut what in their character approached a general conception of life…» (p. 90)79*.
360 Здесь дан пример на такое же двойное обобщение из сферы чистой живописи. Из случайных элементов видимости отдельных индивидов вывести их внутренний обобщающий образ. И из обобщения этих образов вывести конкретное обобщенное ощущение жизни как таковой, Жизни с большой буквы.
Мы видим, таким образом, что во всех случаях углубленного подхода к явлению реальности мы неизменно все углубляющимися планами восходим ко все большим обобщениям. Содержание этих обобщений может быть весьма различно.
Беглец от урбанистической культуры, своеобразный Жан-Жак XIX века — Гоген, возвращающийся к примитиву человечества21, видит пределом обобщения некий пантеистический идеал жизни как таковой. Китаец выискивает конечную метафизическую неподвижность мира за каждой единицей его. Мы, участники последнего и решительного боя классовых сил за освобожденное человечество и бесклассовое общество, видим в явлении прежде всего воплощение борьбы и социальных конфликтов, его породивших. Естественно, что обобщения именно этого ряда в первую очередь прочитываются в конечных обобщениях по нашим произведениям.
Я думаю, что мы можем спокойно говорить о том, что здесь мы уже внутри самой пластики соприкасаемся [с] произведением в его пластическом и философском единстве.
Чтобы вернуться к пластическому материалу, вспомним еще раз нашего индусского слона и сопоставим его с другим образцом искусства, тоже орудующего материалом несения. Если слон при всей своей неуклюжести и сугубо благодаря ей особенно отчетливо раскрывал механизм метафоры в ее образовании, являясь примером композиции, колеблющейся между метафорой и образом, то другой пример уже близится больше к тому, что объединяет образ с обобщенной идеей. Я имею в виду греческие образы Атлантов и женских фигур с храма Эрехтейона22. Те и другие призваны поддерживать тяжелые карнизы портиков. Греческая архитектура потрясающа и непревзойденна именно тем, что каждый элемент ее не только исполняет ту или иную строительную функцию, но одновременно архитектурно выражает идею этой функции. Здесь эта идея «поддержки» воплощена в первичный образ, откуда возникает представление, идея поддержки [воплощена] в поддерживающего Человека. Идея воплощена в тот предпосылочный частный случай, по которому она в порядке обобщения возникла. Минуя «слоновую» метафору — Атланты и Эрехтейон являют нам замечательнейший образ, раскрытый в единстве идеи с прародителем и носителем этой идеи, призванным воплотить ее в своем образе. Так постепенно мы расширили частное изображение баррикады в метафорический зигзаг единичных частных образов, и в обобщенную идею борьбы вообще, Борьбы с большой буквы, лежащей в основе их всех.
Ведь характерно, что для наглядной (образной) иллюстрации философского обобщения по отношению к простому явлению возможно прибегнуть именно к той пластической закономерности, которую мы здесь так педантично исследуем. Так поступает, например, Серен Кьеркегор23, желая особенно наглядно представить специфику метода сократического учения:
«… Es gibt ein Bild, welches Napoleons Grab darstellt. Zwei große Bäume überschatten es. Weiter ist auf dem Bilde nichts zu sehen, und der unmittelbare Betrachter sieht nichts anderes. Zwischen den bsiden Bäumen ist ein leerer Raum; indem das Auge seinenpa Kontur-Umrisse folgt, tritt plötzlich aus diesem Nichts Napoleon selbst hervor, und nun ist es unmöglich, ihn wieder verschwinden zu lassen. Das Auge, walches ihn eiamil gesshen hat, sieht ihn nun mit einer fast 361 beängstigenden. Notwendigkeit immer. So auch mit Sokrates Repliken. Man hört seine Rede wie man die Bäume sieht, seine Worte bedeuten das was ihr Laut sagt, so wie die Bäume Bäume sind, es ist da nicht eine einzige Silbe, die einen Wink betreffs, einer anderen Auslegung gäbe, ebenso wie nicht ein einziger Strich da ist, welcher Napoleon andeutet, und doch, dieser leere Raum, dieses Nichts ist das, was das Wichtigste enthält…»
(S. Kierkegaard «Der Begriff des Ironie mit ständigor Rücksicht auf Sokrates», [1929], S. 14)80*.
Почему бы нам не прочесть эту цитату в обратном порядке? И не сказать того, что мы вывели выше: что в своем последнем обобщении пластическая композиция перерастает в философскую концепцию по данному явлению?!
Так мы проследили это явление по различным культурам и эпохам внутри сферы живописи. Мы проверили его по метафорическому ряду еще и по области человеческого жеста и выразительного движения, выйдя за пределы живописи.
Выйдем за пределы живописи еще раз.
На этот раз чтобы показать, что это обобщение высшего порядка в равной мере имеет место и за пределами живописи.
И что если оно верно для мельчайших составляющих произведение, для жеста на театре и для пластической композиции кадра на кино, — то оно в равной мере имеет такое же место в отношении концепции всего произведения в целом, будь то произведение театральное или кинематографическое.
На театре это перекликается с тем, что автором «системы», Станиславским, названо «сверхзадачей». По методу внедрения и постепенного обобщающего углубления оно целиком и полностью вторит — в отношении пьесы — тому, что мы излагали здесь для живописи, кадра и жеста.
[«… Допустим, что мы играем “Горе от ума” Грибоедова и что сверхзадача произведения определяется словами: “Хочу стремиться к Софье”. В пьесе много действий, оправдывающих такое наименование.
Плохо, что при такой трактовке главная, общественно-обличительная сторона пьесы получает случайное эпизодическое значение. Но можно определить сверхзадачу “Горя от ума” теми же словами “хочу стремиться”, — но не к Софье, а к своему отечеству. В этом случае на первый план становится пламенная любовь Чацкого к России, к своей нации, к своему народу.
При этом общественно-обличительная сторона пьесы получит большее место в пьесе, и все произведение станет значительнее по своему внутреннему смыслу.
Но можно еще больше углубить пьесу, определив ер сверхзадачу словами; “Хочу стремиться к свободе!” При таком стремлении героя пьесы его обличение 362 насильников становится суровее, и все произведение получает не личное, частное значение, как в первом случае — при любви к Софье, не узко-национальное, как во втором варианте, а широкое общечеловеческое значение.
… В другой пьесе — “Хозяйка гостиницы” Гольдони… когда… после долгой работы, мы поняли, что “хозяйкой гостиницы” или, иначе говоря, “хозяйкой нашей жизни” является женщина (Мирандолина), и сообразно с этим установили действенную сверхзадачу, то вся внутренняя сущность сама собой выявилась»]81*.
Итальянская «La Locandiera»82* по созвучию не может не напомнить мне испанскую «La Soldadera». «La Soldadera» — эпизод гражданской войны в Мексике, подготовленный, но не снятый для картины «Què viva Mexico!» И вспомнить его здесь уместно не только по созвучию: он является примером и образцом на ту же тему, но в области кино. Здесь диапазон и материал гораздо шире и богаче, чем на театре, но, как увидим, одинаковые принципы верны для обеих областей.
Солдадера — это подруга солдата. Его жена. Спутница в мирной жизни и в походе. Армии солдат предшествует армия солдатских жен. В период революции Мексика не имела ни интендантств, ни системы лазаретов и перевязочных пунктов. Еда и уход за ранеными ложились на плечи солдатских жен — солдадер. В туче пыли своей бегающей походкой, характерной для мексиканок, стая солдадер неслась впереди армии. Занимала селения. Обирала запасы. Пекла и стряпала блюда несложной мексиканской кухни, чтобы горячей едой и парой тортильяс24 встретить вступающие в селения войска. Солдадера же рыскала по покинутым полям сражения, выискивая среди трупов раненого боевого товарища, с которым нередко и в бою дралась бок о бок с тем, чтобы на собственных плечах его вынести с поля или похоронить, разложив из цветных камушков крест на его могиле, а самой перейти в жены другому бойцу.
Любопытна черта этих удивительных женщин. С покорностью и безропотно они переходили от бойца к бойцу, деля с ним тяготы похода, заботясь о нем, леча или хороня его после боя, где он погибал. Еще любопытнее — солдадера переходила не только от бойца к бойцу, но и от армии к армии, часто враждебных, только что уничтожавших друг друга в бою. Есть что-то символическое и глубоко человечное в этом образе женщины, которая становится выше военной распри, раздирающей ее страну. В ней как бы заключена великая идея того, что в основе мексиканский народ всех своих пятидесяти двух национальностей един. Что те бои и схватки между собой, в которые толкаются отдельные части этой единой нации политическими авантюристами, генералами-путчистами, католической церковью и иностранным капиталом, в основном глубоко чужды народу, платящему своей кровью за чужие выгоды и интересы. На этой точке фигура солдадера Панчи (Франчески) вырастала в воплощенный образ самой мятежной Мексики, раздираемой гражданской войной и политическими противоречиями, Мексики, подобно Панче, переходившей из рук в руки и метавшейся между федералистами (войска диктатора Порфирио Диаса), виллистами (войска Панчо Вильи), сапатистами (войска Эмилиано Сапаты), каррансистами (войска Венустиано Карранса) и т. д. и т. д.25, с тем чтобы закончить картину на светлом моменте кратковременного национального объединения Мексики, когда Панча триумфально въезжает в Мексико-Сити вместе с объединившимися 363 войсками юга и севера — Сапаты и Вильи. Это был момент счастливого прогрессивного национального объединения Мексики. С него могло начаться перерастание гражданской войны в социалистическую революцию. Но объединение это почти мгновенно же распалось, чтобы после цепи предательств, измен и новых тяжких испытаний погрязнуть в болоте узкого национализма и реакционного шовинизма, который пришел ему на смену.
На этой точке осознания образа солдадеры Панчи он засверкал передо мной во всей своей многокрасочной видимости и во всем своем большом обобщении. (Как сейчас помню — произошло это на машине по пути от Мексико-Сити к пирамидам Сан-Хуан-Тетиуакан). Можно было пускаться в его реализацию! И если судьба решила этому не сбыться, то, во всяком случае, вот какова судьба движения образа солдадеры Панчи, не возносившейся подобно созвучной ей итальянской сестре — локандиере до высот обобщения в «вечно женственном».
Верная дочь революционных масс своего мексиканского народа, она была призвана не к большему, чем воплотить образ воинственной и героической своей страны. Не забудем еще, что «Soldadera» — лишь эпизод внутри эпопеи, чем было задумано «Què viva Mexico!»
Более широкое обобщение выпало на долю концепции фильма в целом.
Он строился, как ожерелье или как яркая чресполосая расцветка мексиканских плащей — сарапэ. Как цепь коротких новелл. (В том виде, как картина сейчас ходит по экранам, она представляет собой одну из таких новелл, непомерно раздутую и незаконно возведенную в самостоятельную картину)26.
Сцепление новелл держалось по ряду сквозных линий. Их последовательность шла по историческому признаку. Но не по эпохам истории, а по географическим поясам. Ибо культура эпохи Мексики из вертикального столбца истории кажется веером, распластанным по поверхности ее земли. Отдельные части ее сохранились в том культурно-бытовом облике, который несла страна в целом в определенные исторические этапы своего развития. И путешествуя из Юкатана в тропики Техуантепека27, из тропиков на центральное плато, поля гражданской войны севера или в абсолютно современный город Мексико-Сити, кажется, что движешься не в пространстве, а во времени. Строй, облик, культура, нравы этих отдельных частей федерации кажутся принадлежащими к доисторическим временам, преколумбийской эпохе, эпохе Кортеса28, периоду испанского феодального владычества, годам борьбы за независимость.
Так и был задуман фильм — в виде цепи небольших эпизодов, проходивших по этим оттенкам истории, эпизодов, которые сами вырастали из облика, вида и нравов отдельных частей этой страны. Через три центральных эпизода двигались три пары. Парень и девушка. Почти биологические «единицы» в счастливом раю тропиков до открытия Колумба и завоевания Кортеса (печать его лежит и посейчас на сонном Техуантепеке). Жертвы бесчеловечной эксплуатации испанских помещиков и католической церкви. И, наконец, мужчина и женщина, как боевые товарищи, солдадера и солдат в боях революции за единую свободную Мексику (история Панчи).
Как видим, через вещь в целом, через изображение исторических обликов Мексики в решающие этапы ее истории и культуры шла еще вторым планом тема отношений мужчины и женщины от почти животного тропикального сожительства, через борьбу за свободное право обладать друг другом (в борьбе против феодального jus prima noctis83*) к совместной борьбе бок о бок за право обладать всей полнотой жизни в целом (участие в освободительном движении).
364 Но картина имела еще третий — наиболее обобщенный — план: это была тема жизни и смерти или, вернее, победы над смертью.
Тема смерти проходила через картину трижды.
В прологе. В кульминации действия. В эпилоге.
И несла мысль о социальном бессмертии, в противоположность смертности биологической.
Ту мысль, что подлинное бессмертие, то есть существование за пределами положенного срока своей физической жизни, возможно только в цепи непрерывного коллективного социального творчества поколений, неизменно стремящихся к одному социальному социалистическому идеалу.
Картина начиналась образом полного порабощения перед идеей смерти — биологическим, физическим концом человека. Фоном и темой она имела культ смерти; похоронный обряд среди мертвых развалин былых памятников — центральная тема всех древнейших религий Мексики.
Ее сменяла биологическая полнота жизнеутверждения, животной алчности жизни и плодородия ленивых и плотоядных тропиков.
В ее полноту «крестом и мечом» врывались эксплуатация и церковь. Удары хлыста помещика и самобичевания католических аскетов перед мадонной. Св[ятой] Франциск с эмблемой смерти — черепом. Бык, затравливаемый насмерть в корриде, горящей золотом на солнце. И зверская расправа хасиендадо29, дробящего конскими копытами черепа зарытых в землю батраков, посмевших восстать против режима и вторичного торжества смерти в Мексике. Проповеди умерщвления плоти католической церковью и умерщвления плоти рабовладельцами — испанскими помещиками.
Бунт против этого, борьба за новое жизнеутверждение уже социального порядка, гражданская война, как бы продление той борьбы, в которой погиб Себастьян под копытами лошадей своего хасиендадо, борьбы, уже охватывающей Мексику в целом, — эпизод солдадеры Панчи с тем финалом, как он изложен выше.
В неполном варианте фильма, то есть так, как он был заснят, но не смонтирован, финал нес эту же мысль в иной форме. Тот финал строился на таком же материале, целиком растущем из недр фольклора, национальных обрядов и народных празднеств, как и фильм в целом.
Финал был представлен обобщенной картиной «василады», в которую переходит обобщенная картина скорбящей Мексики, представленной всеми национальностями и костюмами, после трагической гибели Себастьяна и товарищей, в такой интерпретации выраставших в образ всего класса угнетенных Мексики. (Совершенно так же, как в последующем эпизоде солдадер а Панча представительствовала Мексику в делом.)
Идея социального преодоления смерти как продолжение борьбы всем классом после гибели его представителя — одиночки, воплотилась в обобщенной и социально переосмысленной картине «Дня смерти», так как он в нравах Мексики справляется ежегодно 2 ноября.
Но что такое та мексиканская vasilada, которой мы предоставили расправиться со смертью?
Она облекла в иронию то великолепное презрение, которое питает мексиканец к страданию и смерти. С древнейших времен — через знаменитую реплику царя Гуатемока30, застонавшего своему придворному: «Не стони — я тоже лежу не на розах», когда испанские завоеватели жарили их на решетках, чтоб узнать, где спрятаны ценности, через нескончаемые годы, по существу, не прекращающейся, а только вспыхивающей или затухающей гражданской войны — 365 мексиканец так привык к картинам смерти и страдания, что кажется закаленным от всякого страха перед ними.
Ироническое отношение к смерти сплошь пронизывает вторую — жизнеутверждающую половину празднества «Дня смерти». Первая отведена воспоминанию о покойниках, молитве за них, их незримому присутствию среди живых — для них накрыт стол, для них расставлены яства на могилах среди леса горящих всю ночь свечей на горном кладбище какой-либо Амоки-Мэки или на берегу озера Пацукаро в штате Мичоакан. Но с началом зари жизнь начинает брать свое: живым — жизнь. И, перекликаясь с забавной вывеской кабачка против главного входа на парижское знаменитое кладбище Пер-Лашез «Au repos des vivants» («Место упокоения… живых»), жизнь вступает в свои права. Поглощается пища и питье, зажигаются (среди бела дня!) фейерверки, сменяющие традиционное выражение радости — стрельбу из пистолетов, кружатся карусели, торгуют лавочки и балаганы, а на отдельных могилах кладбища, среди догоревших свеч и портрета покойника с крепом, принесенным из дому, старательно заботятся о том, чтобы род человеческий на этом не прекратился. Яства и увеселения в этот день все носят эмблему смерти. Кувшины — черепа. Сладости — черепа. Особенно большие — с детскую голову — сахарные в разводах и с именем дорогого покойника, выведенного на лбу. Шоколадные гробики конкурируют с сахарными покойниками. И все это к концу дня распределяется по животишкам маленьких бронзовых ребят, с нежного детского возраста привыкших ассоциировать череп с сахаром, а не с мрачным францисканским лозунгом, украшающим традиционный череп со скрещенными костями: «Я был тобою — ты станешь мною». Последним кадром фильма такой карапуз разбивал сахарный череп, превышавший его собственную головку, и с наслаждением поглощал его осколки! Но не только сладости — море игрушек, оформленных скелетами, черепами и гробиками, наводняет в эти дни базары, полонившие «аламэды» (площади). Листки и листовки с ироническими песенками и политическими памфлетами (эпитафиями живым политическим деятелям, предполагающимся в «бозе почившими») и бесподобными гравюрками несравненного Посады31 все на ту же и на ту же ироническую тему смерти ходят по рукам читателей, взрослых и детей, прикрывших в пляске лица масками… все той же смерти. В петлицах их снова эмблемы смерти, но с социальными атрибутами: череп в цилиндре, черен в широкополой шляпе хасиендадо. Череп в шапочке матадора с косичкой на костяном затылке. Череп под треуголкой министра, каской пожарного, фуражкой жандарма. Череп под генеральским кепи и череп в епископской тиаре.
Так празднует Мексика победу и презрение над смертью во имя все утверждающей жизненности.
Легко было именно это взять за концовку после траура по убитым. Социально, осмыслить в контексте. И, наконец, свести к совсем любопытной образной сцене финала.
Тем, кто резал материал «Què viva Mexico!» (монтажом это назвать нельзя), конечно, невдомек был смысл всего наснятого материала «Дня смерти». Они дошли до того, что к эпизоду Себастьяна даже не присовокупили этот материал. И из всей его «образности» вернули его обратно в этнографическую «изобразительность»… сделав из него самостоятельную маленькую короткометражку о том, как справляется «День смерти» в Мексике!
Я привожу ее здесь, ибо в ней точный эквивалент в ироническом плане тому, с чего мы начали этот раздел, — с примера баррикады, «идея которой сквозила через изображение».
366 Смотрите, какой тур де форс84* проделывает здесь метод просвечивания друг через друга!
Социальная локализация черепов, живое лицо и маска смерти, настоящие черепа — эмблемы святого Франциска и, наконец, один весьма забавный листок из гравюр Посады — свелись у меня в следующий образ.
Листок Посады среди группы скелетов давал (название: [«Calavera de don Folias y el negrito»85*] и скелет с черепом… негра. И череп негра у Посады как представление, например, об ангелах для самих негров, конечно, оказался… черным!
Я думаю, что именно это было толчком к тому разрешению карнавала смерти, который я решал под музыку румбы в финале. Это спадение личины (лица) внутри самой сущности (черепа), хранящей тот же облик, в данном случае — облик смерти, его определило.
Танцуют люди в масках смерти. Здесь все сословия, народности, классы. Рабочие, пеоны, мужчины и женщины. И, как бы случайно, представители господствующих классов одеты точно в те же костюмы, в которых они появлялись по ходу отдельных новелл картины. Дочь владельца хасиенды, сам хасиендадо, генерал. Но это распространяется дальше вымышленных персонажей. Персонаж с звездой и лентой и цилиндром над картонной маской черепа. Как бы случайно именно в таком виде был снят президент Республики для одной из финальных сцен. Персонаж в епископском облачении и тиаре. Как бы в порядке совпадения именно в таком костюме оказывался снятым настоящий папский легат, согласившийся позировать для «испанской» части картины. В разгар карнавала белые картонные маски черепов слетают с лиц. За ними весело смеющиеся осклабившиеся лица пеонов, рабочих, детей, пролетариев. Но вот слетают маски с лица епископа, с лица президента, с лица помещика и с лица его дочери, топтавшей своим конем пеона Себастьяна. На месте масок не смеющиеся лица. Больше того — не лица вообще. На месте масок — подлинные костяные черепа.
Маски смерти карнавальной василады — ироническая гримаса конца и смерти, подобно тому как зверская расправа — только минутная задержка на неуклонном движении вперед идущего к жизни класса пролетариев. И та же маска василады скрывает на время подлинный мертвый лик класса, еще пляшущего, но класса, уже обреченного на смерть, — больше того, класса, лишенного будущего, мертвого класса.
Так объединялись в конце персонажи и выносилось возмездие за погибшего пеона Себастьяна.
Ироническое по форме, трагическое по содержанию. И все это под музыку румбы…
Вероятно, немексиканцу нельзя смеяться над смертью. Кто смеет смеяться, тех наказывает страшная богиня Смерти.
Мне она послала смерть этой сцены и смерть всей картины. Но все же хотя бы неосуществленной концепцией смерти в этом фильме я перед ней не остался в долгу!
Этот путь сверхобобщения всегда таит в себе и известный риск. Пределом его неизбежно может оказываться метафизика и мистика. Классический пример такого сверхобобщения мы имеем в «Ревизоре» Гоголя. Правда, к счастью, никак не выявленного и не отраженного в нарушениях классического реалистического письма комедии по той простой причине, что оно возникло много лет 367 спустя после создания вещи, да и то даже не в виде переделки, сдвига или искажения основной редакции, а лишь в авторских «комментариях» в период обостренного психического распада авторского сознания и тяги его к мистицизму. Я имею в виду известное место из [«Развязки “Ревизора”»], где Гоголь «обобщает» городок из «Ревизора» до «Града Душевного», а жандарма из финала до символа «Небесного Возмездия», «Царя Небесного» в образе «Царя Земного». Этот результат неминуем во всех тех случаях, когда в пылу обобщения автор отрывается от конкретной реальности и от социального обобщения, основного, главного и решающего как по бытовой, так и по философской линии. (И это место не без самокритики. Если в концепции «Què viva Mexico!» мы удачно избегли этой опасности, то в «Бежином луге» именно на этом пункте мы в основном и пострадали.)
На последних примерах, я думаю, [мы] с полной наглядностью показали и проследили тот факт, что закономерность, обнаруженная нами на сличении двух изображений баррикады, проходит сквозь всю систему построения образа сквозящего через изображение, начиная с композиции кадра и кончая концепцией вещей в целом.
Вернее, начиная с концепции вещи в целом и пронизывая композицию и строение формы произведения до мельчайших ее частиц — отдельных сцен и отдельных кадров.
Помимо рассказов о результатах такого постепенного углубления планов и возрастания обобщения мне хотелось бы привести коротенькую запись того, как подобный процесс может «пробежаться» на наших глазах.
Это пример на то, как за простой линией контура, за простой «линией следа» (правда, великого исторического события!) может вычитываться все более и более глубокое обобщение. Я подчеркиваю — вычитываться, ибо в приведенном примере мы имеем дело с одной половиной творческого процесса — с зарождением и углублением концепции, с рождением задания на оформление. Второй половиной процесса будет вопрос такого разрешения этого задания, чтобы его многопланность вобрала бы в себя единство факта и того обобщения, которое мы этому факту хотим придать.
Если ограничиться кратким приветствием героям приведенного [ниже] образца — в видах на это он и возник! — то, по существу, это задание есть уже и разрешение, только нуждающееся в соответственном отборе слов и их синтаксическом и ритмическом расставе.
Если же это является тезой словесной или кинематографической поэмы, то это же в равной степени определит композиционное построение всего ее материала к охвату того же самого.
Вы раскрываете в июне 1937 года газету. Вы еще ничего не успели прочесть, но ваш глаз уже прикован к ней неожиданностью. Вас поражает непривычный вид изображенной карты. Путь СССР — Европа — США вы привыкли видеть горизонтальным. И вдруг газетный лист перерезан картой по вертикали. Сан-Франциско не слева от Москвы через Атлантический океан и не справа — через Тихий. Сан-Франциско расположен высоко по вертикали над Москвой, и их соединяет жирная черная линия, стрелкой ползущая через Арктику вверх. Это след небывалого исторического полета героев СССР Чкалова, Байдукова и Белякова. За несколько недель до этого нас поразил подобный же след. Но там черта останавливалась на полюсе, фиксируя осуществленную мечту завоевателя Северного полюса, Героя Советского Союза Водопьянова.
Обычный вид горизонтальной карты полета сменился вертикальной картой перелета.
368 Вы мысленно связываете горизонталь и вертикаль как акт подъема с горизонтали в вертикаль: поднялась, встала.
«Вздыбилась» карта — первое, что образно сопутствует этому движению. Но «вздыбленность» — состояние временное: ассоциация не верна! Вы ее углубляете по линии ее же признака: стояла на четырех ногах (горизонталь), встала на две ноги (вертикаль).
Если таков мимолетный процесс внутри темперамента единичной лошади, то четвероногое как обобщение, к которому принадлежит эта лошадь, как вид в целом проделало то же самое. И на постоянный срок.
Вопреки Канту, который доказывал, что именно четвероногое состояние есть нормальное положение для человека, животное, подымаясь по эволюционной лестнице, разогнуло спину и стало на две ноги, в вертикальное положение. Картина филогенеза неизбежно будит онтогенетический образ. Менее страшными словами об этом говорит Гете: «… Если мир в общем даже и идет вперед (! — читатель. — С. Э.), то юности все-таки приходится начинать все сначала, и каждый индивидуум вновь переживает на себе эпохи мировой культуры…» («Разговоры с Эккерманом»32, 17 января 1827). В этом месте пробегает загадка сфинкса о четвероногом младенце, двуногом взрослом. Треногий старик обходится, ибо картина первых двух в свою очередь уже служит образом для обозначения выхода какого-либо явления из возраста младенчества во взрослый возраст.
И вертикальная линия перелета СССР — США, вопреки своей направленности, подводит горизонтальную черту итога под целой эпохой младенчества авиации, и мировая авиация, вступая на [новый] путь своей истории (советский период), входит в него, «гордо подняв голову», впервые «распрямившись во весь рост», как гордо шествующий человек.
Но человека, противопоставленного животному, зверю, не может не задеть то, что волнует вас в эти дни с тех же страниц той же газеты — гибель Бильбао33, и только что засевший в далекие сферы обобщения образ ввергается в неразрывность с социальной действительностью дня, и вы дописываете: «… как гордо шествующий человек социализма, в отличие от животных, зверских — “горизонтальных!” — налетов фашистских бомбовозов и истребителей, уничтожающих беззащитные полчища женщин и детей».
Но вернемся еще раз к нашему примеру с баррикадой. Еще с одной стороны. Наш пример с баррикадой особенно полон и целостен. Он наиболее нагляден, ибо самим сюжетом его является борьба — конфликт. Отсюда и графическая наглядность композиционного росчерка контура баррикады, как бы сейсмографирующего перипетии борьбы. Отсюда же и наглядность перегруппировки взаимоотношений деталей улицы не только средствами) физического переноса, но и чисто композиционного — в данном случае целиком благодаря выбору угла зрения и точки съемки: вывеска не только физически сорвана с магазина (вывеска А) и брошена под ноги наступающим на баррикаду, но вывеска же (в данном случае вывеска В — крендель) точкой съемки так же, но только композиционно, брошена под ноги к низу, к подножию кадра. И чисто композиционным путем она тоже дает представление о том, что то, что было наверху, стало внизу, а то, что было внизу, вознеслось наверх, то есть «ощущение» переворота внутри сюжета содержания сцены, [возникающее] как результат восприятия чисто зрительного соразмещения элементов в композиции — строении формы.
В нашем случае, несмотря на то, что тема сцены есть конфликт — борьба, обе области его выражения — и изображение и образно обобщенное внутреннее содержание изображенного — между собой в конфликт не вступают. Каждая область своими средствами выражает ту же мысль: и изображение и графический 369 композиционный элемент (контурные движения), и перегруппировка деталей путем смещений их при помощи выбранной точки съемки («ощущение» переворота от перевернутости обычного вида соразмещения предметов в обычной обстановке) — все они работают в одном направлении.
Но совершенно так же часто эти области вступают в конфликт между собой, работая в противоположных направлениях. Это в тех случаях, когда видимое изображение — видимость явления — не отвечает, тому образно обобщенному подлинному внутреннему содержанию изображаемого, которое в нем видит автор. Это уже элемент относительный и диктуется отношением — позицией автора — относительно представляемого явления. В ней уже проступает произвольность — хотя она до известной степени и непроизвольна, будучи исторически обусловленной социальной принадлежностью автора.
Так или иначе, это уже вытекает из отношения, из трактовки автора, отражающих произвольное (относительно) преломление явления в его сознании или [в] прикладной тенденциозности в интересах класса, к которому он принадлежит или с которым он идет.
И только в том случае, если автор принадлежит к пролетарскому классу или выражает точку зрения этого класса на представляемое явление, трактовка эта будет не произвольным преломлением события, а подлинным раскрытием события или явления. Ибо только этот класс обладает непреложным оружием марксизма-ленинизма, способным срывать все и всяческие маски и в наглядности обнажать самую сущность явления сквозь любые его «видимости». Это будет так, как бы неожиданно или парадоксально подчас ни показалось оформление представляемого явления или события.
Это может касаться трактовки (концепции) вещи в целом. Например, [при трактовке] исторического события, где оформление, идущее по линии раскрытия внутреннего содержания (смысла, сущности) явления, может в своих результатах просто противопоставиться протокольной хронике, только фактически представляющей события.
В достижении внутренней правды результат этот может с виду показаться просто противоречащим видимым «физическим фактам» исторического события. Взять хотя бы историческую трактовку Парижской коммуны. Коммуна, во внешних фактах «раздавленная» сапогами версальцев, и Коммуна, одновременно являющаяся по историческому своему смыслу одной из самых блестящих побед на путях к диктатуре пролетариата.
И я вряд ли согрешу, предположив, что перед глазами сценариста и режиссера, вероятно, витал именно этот образ Коммуны — победительницы в своем поражении, вдохновляя их на то, чтобы в таком же смысле трактовкой «исказить» в кинофильме протокол судьбы броненосца «Князь Потемкин Таврический». Известна фактическая печальная судьба мятежного броненосца — трагическая его Констанца. И известен гигантский внутренний победный смысл этого — пусть и подавленного — восстания во флоте. И вот трактовкой — уже в самом обращении своем с историческим ходом события, оборванного в своей кульминации (проходом сквозь адмиральскую эскадру), а не законченного на своем фактическом конце (разоружение в Констанце) — достигает[ся] (помимо всех прочих средств разрешения) пафос этого события как великой победы. То есть раскрыто его внутреннее историческое осмысление.
Приведем еще другой подобный же пример, где уже внутри самой ситуации спор между фактической правдой и правдой образной, не совпадающими друг с другом, также решается в пользу образности ценой отступления от облика факта. Пример из того же фильма касается эмоциональной стороны по преимуществу 370 и относится к сцене перед тем, как матросы отказываются стрелять в своих товарищей, покрытых брезентом. При расстрелах на кораблях никто никогда и нигде не покрывал нигде никогда никого. Ни на «Потемкине», ни на других военных судах царского флота. Брезент действительно участвовал в расстрелах, но в разостланном виде — с тем расчетом, чтобы кровь расстрелянных не пачкала палубы… Придравшись к не совсем отчетливому описанию самой сцены у одного из очевидцев ее, я истолковал действия с брезентом по-своему: заставил покрыть предназначенных к расстрелу этим подобием савана. (Подготовка к этой ассоциации сделана еще предыдущим кадром, где свернутый брезент, похожий на завернутый труп, проносят экзекуторы-кондукторы.) Образная выразительность этого «савана», когда он отделяет осужденных матросов от товарищей, солнца и жизни вообще, оказалась настолько сильной, что целиком поглотила аудиторию, ни на минуту не усомнившуюся в правдоподобии именно такой техники расстрела, а не иной. Впрочем, и от посвященных в эти вопросы старых бывших царских матросов, а ныне славных краснофлотцев — мне также не приходилось выслушивать возражений: и для них образное воздействие оказалось более важным и решающим, нежели документально восстановленная, но безобразная фактическая обстановка этой процедуры.
И совершенно то же самое происходит и может происходить (и должно происходить!) во всех элементах картины до самого своего мельчайшего фрагмента — единичного кадра, где так же развиваются и имеют место эти же процессы. Здесь тоже и также имеют место (в тех случаях, когда это надо) совершенно такие же конфликты (столкновения) между изображением предмета или явления и его образным обобщением, имеющим целью раскрыть его подлинный внутренний смысл. И в единстве этого столкновения родится истинный смысл и облик события и явления уже не только в своем природном «бытии», но и во всей своей социальной осмысленности. Не следует, конечно, забывать, что сюда же входит и случай — например, вышеприведенная баррикада — когда противоречие между частным и обобщенным видом явления снято. Когда один, проступая сквозь другой, ведет линию к прямому, однонаправленному усилению. В этом случае напряженность противоречия останется только в области взаимодействия разных измерений, которыми выражена одна и та же мысль. Может быть, это можно было бы сравнить с напряжением внутри аккорда, в отличие [от] напряжения во взаимодействиях течения двух музыкальных тем?
Примеры на такие внутрикадровые трактовки наглядны и бесчисленны.
На первом месте здесь, конечно, бесчисленные образцы «унижений» и «возвеличиваний», «развенчиваний» и «вознесений» путем размещения точек съемки. Грубейшие образцы сводили это к съемке объекта «сверху» или «снизу», это была забавная точка зрения на точку съемки, имевшая некоторое хождение в годах двадцать шестом или седьмом.
Далее идут более изысканные композиции кадра, которые ставят себе задачи метафорического порядка. «Трактора выходят в поле, как танки в бой». «Утренний туман стелется, как траур, по бухте». (Ничего, что он белый, — здесь дело в ритме пластического рисунка. Да, кстати сказать, у китайцев, например, и сам траур-то выражается белым цветом!) «Колосья враждебно, как штыки, стоят навстречу вредителю, собирающемуся поджечь поле»34.
И так далее и так далее во всех оттенках от слияний к соответствиям, от несоответствий к противоречиям, но, так или иначе, каждый раз в форме воплощая отношение к изображаемому.
Величайшим мастером такой трактовки через самый образ изложения, образ описания изображаемого (особенно по линии развенчивания) по «смежной» 371 области — в литературе — был Л. Толстой. Кажется, ни одна черта неискреннего или незаслуженного превознесения не избегла его саркастического срывания маски.
Будь то образ «Орленка» в молодости, портрет которого привозят Наполеону веред Бородинским боем («Война и мир»):
«… Это был яркими красками написанный Жераром35 портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли королем Рима…»
Или геройство и рисовка польских уланов перед Наполеоном, вброд переплывающих реку при переправе через Неман, вместо того чтобы пользоваться наведенными мостами:
«… Лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть, кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядом человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали…
… Человек сорок улан потонуло в реке… Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обмокнувшем со стекающими ручьями платье, они закричали: “виват!”, восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми…» («Война и мир»).
[…] Так или иначе, нигде не вдаваясь в умышленное искажение правдивости самого представляемого события, Толстой только отбором тех отдельных черт, которые он заставляет служить определяющим контуром86* для изображенного события в целом, беспощадно добивается совершенно точного ощущения своего неодобрения к представленному факту, своей точки зрения на факт, ощущения смысла события с этой своей точки зрения. Как видим — метод совершенно одинаков.
Забегая вперед, скажем, метод совершенно одинаковый и с тем, что мы встретим на следующих этапах развития кино, когда мы сдвинемся с мертвой точки кинематографа единой точки [съемки].
Ведь уже сейчас ясно, что, не искажая, например, процесса коронации владетельного князька или ультрапатетической речи меньшевика, можно средствами монтажа заставить их кружиться вальсом, обнажая их сюжетную смехотворность. Совершенно так же работу машин можно представить соответствующим контекстом и монтажом как взволнованное сердцебиение матросского коллектива восставшего броненосца в Ожидании встречи с адмиральской эскадрой («Потемкин»).
И уже совсем убежавши вперед, приведем сюда еще и музыку, которая, играя под изображение, еще более совершенно, чем один монтаж, и с еще большей легкостью, перетрактует «на водевиль» первые две сцены и дополнит волнением третий эпизод.
Запомним эту связь: обобщенный контур87* — монтаж — музыка. Нам 372 к этой тройке придется вернуться: она нам поможет в правильном понимании соотношений и роли отдельных элементов в звуковом кино.
Изложением последнего положения мы ввели в обиход кинематографа еще одно понятие противоречия, еще одно понятие конфликта.
Собственно, это понятие должно было возглавить тот столбик «конфликтов», который мы когда-то давно установили36, классифицируя их, главным образом, по внешним признакам.
Изложенное здесь — конечно, наивысший образец конфликта, раскрывающий внутреннюю осмысленную в чувствах пластическую динамику кинокуска. Как таковая она глубже и еще более непосредственно — целиком и прямо — растет из ощущения не только содержания, но и до конца ответственного отношения к содержанию. Являясь деривативами этой же самой предпосылки, и остальные типы пластических конфликтов с ним неразрывно связаны, но по удаленности своей, по большей своей абстрактности они меньше ощутимы в такой же непосредственной и тесной связи, как изложенный случай напряженности между изображением и образом изображаемого. Когда же и им навязывается чрезмерная подчеркнутость тематического воплощения, то всегда имеет место риск перескочить в схематизм линейного или тонального символизма. Зло начинает ходить по экрану черной палитрой. Добро — белой88*.
[…] Вкратце вспомним перечисления конфликтов, которые мы давали в разных местах и статьях: линейный, объемный, пространственный конфликт планов, световой конфликт и т. д. были простейшими случаями. Более сложно звучали обозначения других видов, представлявших собой всяческие дисциплины кино, приведенные к единой «конфликтной терминологии». Делалось это не в порядке игры слов, а с целью приведения всех разношерстных специальных областей кинематографа к одному общему методу, возможности их соотносительно изучать, то есть с тем, чтобы пользовать набираемый опыт по изучению одной какой-либо отрасли в изучении других.
Тут определения конфликта звучали неожиданно, но уже в самом определении ощущался путь, по которому можно было идти и подойти к внутренней расшифровке эстетики этих областей.
Так говорилось об освещении как конфликтном столкновении световых потоков (то есть конуса света) с сопротивляющимся им предметом (проблема освещения).
Так говорилось о столкновении зрительного потока (то есть конуса взгляда сквозь объектив) с тем же самым предметом (проблема ракурса, связанная с наклоном предмета и аппарата друг к другу).
373 И тяжеловесность этих формулировок искупалась уже хотя бы тем, что из одного такого определения уже было видно, что законы композиции таких отдаленных областей, как ракурс и освещение, и могут расти и могут быть выведены из каких-то одних и тех же предпосылок.
Там значилась и такая пара:
конфликт предмета с его видимостью и конфликт процесса протекания с собственной длительностью. При ближайшем своем рассмотрении они оказывались: искажающей ролью (и вообще пластической особенностью изображения) различных объективов в их передаче пространства и степени мягкости или жесткости их «письма» в передаче изображения
и убыстренным или замедленным способом засъемки, в отличие от нормального темпа фиксации явления.
Завершающим конфликтом выставлялся звукозрительный контрапункт, о котором говорилось больше в порядке теоретического предвидения его возможности.
Только пройдя через объединенную творческую практику кинематографистов, этот термин на сегодняшний день обладает уже совершенно конкретной предметностью.
К сожалению, в такой же мере в подавляющем количестве кинопроизведений эта область кинокультуры отсутствует вовсе.
Тем более важно развить этот вопрос в возможно большей полноте, чему и служит третий раздел нашего разбора о монтаже.
В большей же степени полноты это может быть сделано лишь на базе подробного разбора предшествующих стадий монтажа, что мы и делаем в обоих предшествующих ему разделах.
Что же касается самого понятия конфликта, то в настоящей работе мы ограничиваемся тем, что мы отмечаем его наличие, но нигде не входим в разбор внутренней его природы и самого явления конфликта и противоречий внутри формы как таковой. Разбору этого вопроса будет посвящено не менее кропотливое исследование по своей линии.
Здесь мы ограничиваемся описанием наличия конфликта, там же мы займемся разбором внутренних закономерностей динамики конфликта, законами его движения в противоречиях.
Главное же в том разборе вопроса будет — наглядно показать, что опыт и познание, культура и мастерство, сама природа и все многообразие видов и областей приложения конфликта черпаются из того единственного и решающего источника, который является этим же по отношению к той области формы — монтажу в самом обширном смысле слова, — на анализе коего мы его обнаружим и установим в конце данной работы.
Подобно тому как здесь вопрос идет по этапам: кадрик — кадр — монтаж — звукозрительный контрапункт, там исследование пройдет этапами: физическое движение (выразительное движение) — душевное движение (переживание) — движение сознания (образ и характер) — движение действия (драма). Все это в попытке установить, как каждое из них и все вместе воплощают отражение социального конфликта и движение в противоречиях действительности в целом89* 39.
К перечню всех видов конфликта в статье «За кадром» (1929), где мы впервые сформулировали и органическую эволюционную связь между кадром и монтажом (монтаж как скачок — монтажный скачок! — из кадра в новое качество 374 межкадрового конфликта после внутрикадрового конфликта90*, монтажные куски как взорвавшаяся монтажная клетка), и в других работах на ту же тему мы неизменно прибавляли условие, что каждый данный конфликт может разорваться по линии каждого конфликтующего крыла в два (и более) рядом стоящих самостоятельных куска. Там это легко было увидеть и сообразить. Два перекрещивающихся, например, движения внутри кадра при возрастающей интенсивности очевидным образом распадались на два кадра, из которых каждый нес одно из этих двух движений ([см.] рис[унок] 10), и т. д.
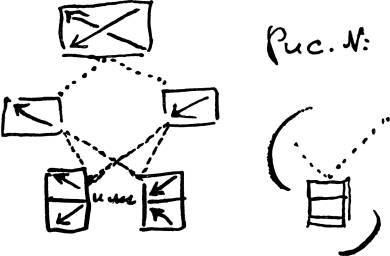
Рис. 10
В чем же окажется взрыв интенсивности и перескок в новое качество по линии этого нового вида конфликта, который мы здесь зачислили в их ряд?
Единый кадр взорвется в цепь кадров. Но при подлинно композиционно правильном построении их последовательности пластическая непрерывность не только изображений, но и их образной композиции останется композиционно закономерной. С тем только новым достижением, что сама линия композиции контура91* отдельного куска будет проходить или сквозным образом через целую серию кусков, оставаясь неизменной сквозь разные «сюжеты кусков», разве что позволяя себе играть на размерах и повторах, — случай наиболее примитивный (см. рис[унок] 11 — «Эскимос и юрты»). Или же будет устанавливать сквозь последовательность кусков свою игру видоизменений. В виде ли последовательно изменяющихся линий очертания основного композиционного контура от кадра к кадру. Либо в закономерном взаимоотношении планов глубины и первого плана, переменяющихся местами. Или распадом крупной 375 собранной формы в ряд мелких, повторяющих ее по контуру и движению; и возвращением этих малых форм в новую сборку аналогичной крупной формы, но уже нового сюжетного и смыслового напоминания. Из примеров анализа подобного порядка мне известен пока только один, мною же сделанный несколько лет тому назад над одним маленьким фрагментом из «Потемкина»40. Он нагляден тем, что иллюстрирует основное положение одновременно по ряду областей: линейной, пространственных планов, [по] числу фигур в кадре, соотношений размеров и т. д. И все это на твердой базе того, как это служит образному воплощению движения смысла самой темы. […]

Рис. 11
Если таков путь непосредственного перехода прослеженной особенности пластической композиции кадра, то еще любопытнее взрыв ее в новое качество — не только как приложения метода, но еще и как принципа метода!
По этой линии ее продолжением будет на новом этапе кино, на этапе «монтажного» кино, не только это движение видоизменяющегося сквозного контура через цепь кусков, но еще гораздо большее:
линия, складывающаяся из отдельных точек, откуда последующими кадрами съемки будет смотреть кинокамера на снимаемое явление при выборе и наборе монтажных кусков, в которых оно предстанет.
То есть в линии той своеобразной мизансцены, которую сквозь явления делает киноаппарат, задерживаясь на тех или иных ее частях или деталях, в то же время то приближаясь к ним, то удаляясь от них (игра сменой размеров).
Ведь и этот путь может быть протокольно-информационным или бесстрастно рассказывающим, но и он же может быть трактовочным, но и он же может быть взволнованным, а отсюда по-своему не только ритмизованным, но и по-своему образный92* в своем тенденциозном и умышленно продуманном пути обобщения того явления, которое он снимает!
376 Но самый переход в область этого изложения незаметно для нас самих взорвал уже тему содержания этой главы в содержание следующей главы, как исторически эпоха кинематографа единой точки взорвалась в эпоху кинематографа многоточечной съемки. К этой эпохе мы и обратимся, начав с изложения тех предпосылок, которые легли в основу того, что вульгарно принято называть этапом «монтажного кинематографа».
[«Ермолова»]
… Речь идет о портрете Ермоловой кисти В. Серова.
Многие испытывали на себе совершенно особое чувство подъема и вдохновения, которое охватывает зрителя перед оригиналом этого портрета в Третьяковской галерее.
Портрет этот предельно скромен по краскам. Он почти сух по строгости позы. Он почти примитивен по распределению пятен и масс. Он лишен антуража и реквизита. Одна черная вертикальная фигура на сером фоне стены и зеркала, режущего фигуру по пояс и отражающего кусок противоположной стены и потолка пустого зала, внутри которого изображена актриса.
И вместе с тем от созерцания этого полотна вас охватывает нечто от того же ощущения, которое должна была вызывать со сцены личность великой актрисы.
Находились, конечно, злые языки, которые вообще отрицали в этом портрете что-либо примечательное.
Таков был, например, покойный И. А. Аксенов41, который бурчал об этом портрете: «Ничего особенного. Всегда играла животом вперед. Так животом вперед и стоит на портрете Серова».
Но здесь, вероятно, сливалось странное «неприятие» самой актрисы (которую он не любил) с тем, как точно был воссоздан ее образ Серовым.
Я Ермолову на сцене не видел и знаю об ее игре лишь по описаниям и по очень подробным рассказам тех, кто ее видел. Но впечатление мое от Ермоловой «по данным» серовского портрета скорее отвечает такой же восторженности, с какой о ней пишет Станиславский:
«… Мария Николаевна Ермолова — это целая эпоха для русского театра, а для нашего поколения — это символ женственности, красоты, силы, пафоса, искренней простоты и скромности. Ее данные были исключительны. У нее была гениальная чуткость, вдохновенный темперамент, большая нервность, неисчерпаемые душевные глубины… В каждой роли М. Н. Ермолова давала всегда особенный духовный образ, не такой, как предыдущий, не такой, как у всех.
Роли, созданные Ермоловой, живут в памяти самостоятельной жизнью, несмотря на то, что все они сотворены из одного и того же органического материала, из ее цельной духовной личности.
… Все ее движения, слова, действия, даже если они бывали неудачны или ошибочны, были согреты изнутри теплым, мягким или пламенным, трепещущим чувством… Знаток женского сердца, она умела, как никто, вскрывать и показывать “das ewig Weibliche”…93*» (К. С. Станиславский, «Моя жизнь в искусстве», стр. 72).
Нечто подобное этому чувству охватило меня, когда я стоял перед этим портретом на выставке произведений В. Серова в Третьяковской галерее в 1935 году.
377 Я долго думал над тем, каким же образом при почти полном отсутствии обычных живописных внешних средств воздействия — даже из арсенала самого Серова — достигнута такая мощь внутреннего вдохновенного подъема в изображенной фигуре.
Я думаю, что тайну эту я разгадал. И что необыкновенный эффект достигнут тем, что здесь применены действительно необыкновенные средства воздействия композиции.
И использованы здесь средства такие, которые по природе своей, по существу, уже лежат за пределами того этапа живописи, к которому еще принадлежит сама картина.
Мне кажется, что всякое действительно великое произведение искусства всегда отличается этой чертой: оно содержит в себе в качестве частичного приема элементы того, что на следующей фазе развития этого вида искусства станет принципами и методами нового этапа движения этого искусства вперед.
В данном случае это особенно интересно потому, что эти необыкновенные черты композиции лежат не только за пределами приемов живописи, в которых работает эпоха Серова, но за пределами узко понимаемой живописи вообще.
Это с точки зрения тех, кто не считает изобразительно-пластическую область кинематографа — его монтажно-динамическую светопись — современным этапом живописи.
Есть же такие чудаки, которые упорно не хотят понять этого и никак не могут принять в единую систему развития и истории живописи — то чудо изобразительных возможностей, каким является кинематограф.
Мне это кажется глубоко несправедливым: разница «техники» здесь роли играть не может — ведь объединяет же гостеприимная сень единой истории живописи такие поразительно различные по технике явления, как, скажем, офорт и… мозаику Равенны!42
Что же касается основного и решающего фактора — то есть художественного мышления, то «расстояние» между Пикассо и кинематографом значительно ближе, Чем между Полем Синьяком43 и передвижниками!
Что же касается причисления фотографии к искусствам «механическим», якобы лишенным живого трепета непосредственного творческого «акта», то изысканное построение кадра, тонкость световой нюансировки и строгость учета тональных «валёров» в работах наших лучших кинооператоров уже давно способны спорить с лучшими образцами живописи прошлого! Однако вернемся к портрету Ермоловой! Я не случайно сказал о том, что зеркало режет фигуру. В секрете этой «резки» и монтажного сопоставления результатов этой резки и лежит, на мой взгляд, основная тайна воздействия этого портрета.
Мне неоднократно приходилось писать и говорить о том, что монтаж есть вовсе не столько последовательность ряда кусков, сколько их одновременность: в сознании воспринимающего кусок ложится на кусок и несовпадение их цвета, света, очертаний, размеров, движений и пр. и дает то ощущение динамического толчка и рывка, который служит основой ощущения движения — от восприятия простого физического движения к сложнейшим формам движения внутри понятий, когда мы имеем дело с монтажом метафорических, образных или понятийных сопоставлений.
Поэтому нас отнюдь не должны смущать последующие соображения, касающиеся одновременного слитного соприсутствия на одном холсте элементов, которые, по существу, суть последовательные фазы целого процесса.
Не должно нас смущать и то положение, что отдельные элементы одновременно 378 рассматриваются и как отдельные самостоятельные единицы и вместе с тем как неразрывные части одного целого (или отдельных групп внутри этого целого).
Мало того, как увидим ниже, самый факт этого единства одновременности и последовательности по-своему окажется средством воздействия совершенно определенного эффекта!
Однако ближе к делу.
Я сказал, что рама зеркала «режет» фигуру. Фигуру режет не только рама зеркала.
Ее режет еще и линия плинтуса, то есть линия стыка пола со стеной.
И ее же режет еще и ломаная линия карниза, то есть отраженная в зеркале линия стыка между стеной и потолком.
Собственно говоря, эти линии не режут фигуру: они, дойдя до ее контура, почтительно прерываются, и, только мысленно продолжая их, мы рассекаем фигуру по разным поясам, отделяя друг от друга низ платья, бюст и голову.
Продолжим эти линии фактически и «разрежем» ими портрет (см. вкладку).
Вкладка

В. А. Серов. Портрет М. Н. Ермоловой
При этом оказывается, что прямые линии, предметно участвующие в изображении (в качестве рамы зеркала и линий стыка между полом, стеной и потолком), в то же самое время являются как бы границами отдельных кадров.
Правда, в отличие от стандартной рамки кадра, они имеют произвольные контуры, но основные функции кадров они тем не менее выполняют в совершенстве.
Абрис первой линии охватывает фигуру в целом — «общий план в рост».
Вторая линия дает нам — «фигуру по колени».
Третья — «по пояс».
И наконец, четвертая — дает нам типичный «крупный план».
Для этого, в порядке еще большей наглядности, пойдем еще несколько дальше и физически разрежем само изображение на подобный ряд кадров.
Поставим их рядом и сличим, какие в них еще отличительные черты помимо разницы размеров.
Для этого разобщим эти «вырезки из фигуры» и займемся каждым из них в отдельности, рассматривая каждый из них как самостоятельный кадр.
Чем в основном характеризуется кадр вообще помимо размера и обреза?
Конечно, прежде всего расположением точки съемки.
Просмотрим последовательность наших «кадров» с точки зрения… точки съемки.
Откуда, если можно так выразиться, снят кадр № 1 — «общий план» в целом?
Мы видим, что на нем пол представлен не узкой полоской, а большой темно-серой плоскостью, по которой большим черным пятном расположился вокруг фигуры подол ее черного платья:
фигура явно взята с верхней точки — «съемка произведена сверху».
Кадр № 2. «Фигура по колени». Так, как она сейчас видна на рисунке, — фигура […] поставлена параллельно стене, к которой прикреплено зеркало. С точки зрения съемки это был бы кадр, взятый в лоб.
Кадр № 3. В таком освобожденном виде мы видим здесь верхнюю часть фигуры Ермоловой на фоне некоторой пространственной глубины: при данном обрезе исчезает характеристика этой глубины как отражения зеркала. Глубина зеркала действует как глубина реального пространственного фона.
Это типичный и хорошо знакомый из кинопрактики случай, когда создается условное пространственное представление средствами простого обреза кадра.
379 Но что гораздо важнее в этом случае — это то, что по взаимному соразмещению стен, потолка и фигуры — фигура в этом «кадре» уже не кажется снятой в лоб: она явственно «снята» несколько снизу (в глубине над ней виден нависающий потолок).
Кадр № 4. Крупное лицо целиком проецируется на горизонтальную плоскость, которую мы знаем в качестве потолка.
Когда возможен подобный результат в кадре? Конечно, только при резко выраженной съемке снизу.
Таким образом, мы видим, что все наши четыре последовательных условных «кадра» отличаются друг от друга не только размером изображений, но и размещением «точки съемки» (точки зрения на объект).
При этом это движение точки съемки строго вторит процессу постепенного укрупнения: по мере того как укрупняется объект съемки, точка съемки последовательно перемещается от точки съемки сверху (А) на съемку в лоб (В), отсюда к точке съемки отчасти снизу (С), чтобы закончиться в точке съемки целиком снизу [D] (см. схему — рис. 12).
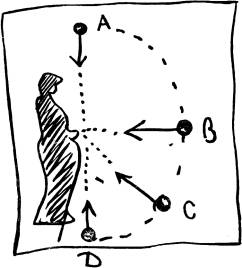
Рис. 12
Если мы теперь вообразим себе кадры 1, 2, 3, 4 монтажно собранными подряд, то глаз окажется описавшим дугу на все 180°.
Фигура окажется взятой последовательно с четырех разных точек зрения, соединение этих четырех точек даст ощущение движения.
Но движения — кого?
Мы уже имели такие примеры соединения разных фаз движения при пробеге по ним глаза в одно цельное движение объекта съемки.
Примером этому может служить монтаж трех мраморных львов, в разных последовательных позах расположенных на лестнице Алупкинского дворца. Монтажно объединенные, они дают иллюзию одного вскочившего льва.
Такой же случай как будто и здесь.
Но получается ли здесь эффект движения самой фигуры оттого, что четыре последовательных ее положения воспринимаются как четыре последовательные фазы ее движения, отчего создается этим путем иллюзия слитного движения фигуры в целом?
Этим путем создается, например, динамика фигур у Домье или Тинторетто44, где отдельные части фигуры расположены согласно с разными фазами одного и того же последовательного процесса движения; глаз, пробегая по этим отдельным фазам «разложенного» движения, невольно претерпевает скачок от одной фазы к другой и воспринимает эту цепь толчков как слитное движение.
380 Совершенно тем же путем осуществляется и основной динамический феномен в кинематографии, с той лишь разницей, что здесь сам проекционный аппарат последовательно и подряд показывает зрителю в последовательных фазах не отдельные части фигуры, но всю фигуру в целом.
Интересно отметить, что для выразительной передачи движения кинематограф не довольствуется только этим основным динамическим феноменом кинематографа.
Для выразительной и захватывающей подачи движения кино вновь прибегает к чему-то схожему по методу и с методом… Домье и Тинторетто. На этот раз — в монтажной сборке — оно снова показывает в динамике отдельные части фигуры.
Так или иначе, остается вопрос, такой же ли случай имеет место и в портрете Ермоловой или нет?
Ответ, конечно, — категорически отрицательный!
И это потому, что здесь на холсте зафиксированы не четыре последовательных положения объекта, а четыре последовательных положения наблюдающего глаза.
Поэтому эти четыре точки складываются не в поведение объекта (вскочившие львы, подвижные фигуры Домье), а в характеристику поведения зрителя.
И это поведение складывается, как мы видим, от точки зрения «свысока» к точке зрения снизу, как бы к точке… «у ног» великой актрисы!
Но поведение зрителя в отношении объекта и есть то, что мы могли бы определить как отношение зрителя.
Или, точнее: оно есть отношение, предначертанное зрителю автором, и [оно] целиком вытекает из личного отношения к объекту со стороны самого автора.
Оно-то — это авторское отношение — и заставляет прибегнуть к тому пластическому построению, которое наиболее полно выражает это отношение.
Я думаю, что если линия способна каким-то образом выражать мысль и отношение к чему-либо — а это именно так, — то линия движения точки зрения по дуге ABCD вполне отвечает той идее «преклонения», которое невольно испытываешь, глядя на портрет Ермоловой.
Но это еще не все.
Эту основную «тенденцию» в общей композиции портрета поддерживают еще два мощных средства воздействия на зрителя.
Это пространственное построение и цветовое (скорее световое) разрешение, которые также идут в ногу с укрупнением «планов» и перемещением «точки съемки» от «кадра» к «кадру».
Через последовательные кадры 1 – 2 – 3 – 4 идет непрерывное расширение пространства.
№ 2 — прижат к стенке с зеркалом.
№ 3 — проецируется на условную глубину зала, отраженного в зеркале.
№ 4 — рисуется уже на фоне пространства необъятного и неограниченного.
От кадра к кадру крупнеющий образ самой Ермоловой доминирует над все более и более расширяющимся пространством.
Но одновременно с этим от кадра к кадру — кадры еще светлеют.
№ 1 — целиком подавлен черной массой платья,
в № 2 — черная часть фигуры уже не действует самостоятельно, а скорее как бы ведет глаз к более светлому лицу,
в № 3 — остатки черного уже только оттеняют светлое лицо,
381 в № 4 — основная часть кадра просто целиком заполнена освещенным, как бы светящимся изнутри лицом.
Это нарастание степени освещенности от кадра к кадру, сливающееся в один непрерывный процесс, прочитывается как нарастающее просветление, как растущее озарение и одухотворение лица актрисы, постепенно проступающего из сумрака среды на картине.
Но, в отличие от игры перемещающейся точки съемки, — эти две черты уже относятся не к игре зрителя, а к поведению и игре самого изображения: благодаря им Ермолова кажется озаряемой нарастающим внутренним огнем и светом вдохновения, а вдохновение кажется разливающимся на все большую и большую среду восторженно ее воспринимающих.
Так сплетаются в обоюдной игре преклонение восторженного зрителя перед картиной и вдохновенная актриса на холсте — совершенно так же, как некогда сливались зрительный зал и театральные подмостки, равно охваченные магией ее игры.
Интересно, что средствами своей композиции Серов пластически выражает почти дословно то же самое, что об Ермоловой словами говорит Станиславский (я позволю себе выделить те слова, которые имеют прямое отношение к нашему разбору):
«… в каждой роли М. Н. Ермолова давала всегда особенный духовный образ, не такой, как предыдущий, не такой, как у всех!..»
Выбранный прием композиции несомненно «особенный» и «не такой, как у всех». Монтажный принцип композиции здесь глубоко оригинален и индивидуален.
А какое поражение терпит не «особенный» подход к разрешению подобной живописной задачи, мы увидим на одном примере, тоже из области портретной живописи, который мы приведем ниже.
«… Роли, созданные Ермоловой, живут в памяти самостоятельной жизнью, несмотря на то, что все они сотворены из одного и того же органического материала, из ее цельной духовной личности…».
Трудно найти более точный пластический эквивалент тому, что здесь сказано, чем то, что сделано Серовым, разбившим картину, как мы видели, на четыре самостоятельных плана, которые одновременно с этим продолжают существовать как единое неделимое органическое целое!
Отдельно взятые, эти «планы» подобны ролям, живущим «самостоятельной жизнью», в целом же они составляют единое органическое целое «общего плана» — «ее цельной духовной личности».
«… Все ее движения, слова, действия…
… были согреты изнутри теплым, мягким или пламенным, трепещущим чувством…».
Это то самое ощущение, которое с таким совершенством дает почувствовать постепенное просветление от плана к плану, которое мы отмечали выше.
«… Ермолова… для нашего поколения — это символ… силы, пафоса, искренней простоты и скромности…».
«Простота» и «скромность» — в невзыскательности «общепринятых» живописных средств, использованных в картине с удивительной сдержанностью как в самой позе актрисы, так и в цветовом разрешении самого портрета.
«Сила» — во все возрастающих от плана к плану укрупнениях лица.
И, наконец, «пафос» разрешается как единство противоположностей, внутри самого принципа композиции45.
Как единство последовательного и одновременного.
382 Как одновременность существования картины и как единого целого и как системы последовательно укрупняющихся планов, на которые распадается и из которых вновь собирается картина в целом.
Я глубоко убежден, что принцип композиции, разобранный нами, конечно, выбран не «умышленно» и возник у Серова чисто интуитивно. Но это нисколько не умаляет строгой закономерности в том, что им сделано в композиции этого портрета.
Мы превосходно знаем, как долго и как мучительно бился Серов над композицией своих портретов; как много времени уходило у него на то, чтобы пластическое разрешение поставленной им перед собой психологической задачи портрета целиком совпадало бы с тем образом, который рисовался ему при встрече или, точнее, при «столкновении» с оригиналом.
Цитирую наугад из писем:
«… Ты, кажется, знаешь, каждый портрет для меня целая болезнь…» (1887 г., жене)94*.
«… Сегодня попробую вечером набросать княгиню (Юсупову. — С. Э.) пастелью и углем. Мне кажется, я знаю, как ее нужно сделать, а впрочем — не знаю — с живописью вперед не угадаешь…» (1903).
«… а то упрешься в одного — ну хоть бы в нос Гиршмана, так и застрял в тупике» (1910).
«… Ну-с, я вроде как бы окончил свои произведения, хотя, как всегда, я мог бы работать их, пожалуй, еще столько или полстолько…» (1903).
И над всем неизменное, главное и основное:
«Как взять человека — это главное».
В этом мучительном приближении к воплощению на холсте того образа, который ослепительно и неуловимо витает перед глазами художника, и создаются в творческом порыве те удивительно сложные и строгие закономерности построений, которые потом нас поражают своей закономерностью и строгостью…
[…] Однако вернемся еще раз к чисто композиционной стороне картины, давшей нам в результате такое замечательное живое ощущение великой Ермоловой. И тут мы обнаруживаем замечательную связь с нашим исходным примером баррикады. Ведь и там в единовремении выступали две величины: изображение баррикады и некоторый прочерченный путь, который раскрывал внутренний ход или обобщенный смысл баррикады как участника борьбы. Путь и характер этой ломаной линии заставлял глаз следовать ее зигзагам, снабжая через это восприятие ощущением конфликта. Это ощущение откладывалось в сознании как представление о борьбе. Ведь всякое отклонение зигзагообразной линии (AB) от сквозной прямой (CD) может восприниматься как толчки по ней с противоположных сторон, «с попеременным успехом» ударяющие по точкам этой прямой d d1 d2 d3 d4 d5 и смещающие их в точки c c1 c2 c3 c4 c5 (см. рис[унок] 13). «Попеременность успеха» видна из приложенного столбца, читаемого как развернутая борьба двух сил.
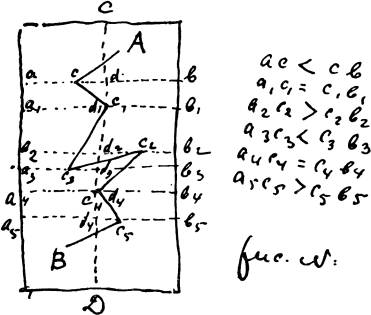
Рис. 13
В восприятие обе эти величины входят неразрывно, и результат этого — изображение баррикады, напоенное ощущением борьбы (чего нет в такой же степени в одном изображении баррикады, подобным образом необработанной).
Совершенно то же самое мы имеем и здесь, на примере с Ермоловой. С той, конечно, разницей, что выразительная нагрузка рисунка и направления линии по содержанию иная, так как и выразительная задача иная. Но разница ограничивается не только этим. Линия здесь не непосредственно прочерченная, 383 и даже не изображенная, а линия, складывающаяся из последовательных воображаемых точек расположения взгляда. Не говоря уже о том, что плоскость ее воображаемого размещения не совпадает с плоскостью самой картины, а перпендикулярна к ней (см. выше рис. 12). Но при этом линия совершенно так же обусловлена более глубоким ощущением модели, чем простая зрительная регистрация ее видимости. Это более глубокое ощущение неразрывно связано с более глубоким осмыслением изображения. Смысл же слагается из более
обстоятельного познания, но плюс индивидуальное отношение к явлению. Баррикада для старьевщика отнюдь не образ борьбы, а набор «подержанных» вещей, годных к перепродаже (кровать, кресла, вывески, бочки и т. д.), а для «туриста» — [набор] для «сувениров»!
Таким образом, мы видим в этом портрете полное повторение того же многопланного построения, которое нами отмечалось выше.
Об одном плане я сознательно не говорю, отнюдь его не забывая. Его я не разбираю, так как не о нем идет речь в нашем разборе. Напомнить о нем все же не вредно. Это, конечно, план самого первичного оформления: оформления модели не на холсте (чем мы в основном здесь заняты), а перед холстом. Я имею в виду бытовое поведение модели, а так как оно в картине неизбежно неподвижно — позу модели. Для кинематографического случая это будет относиться к вопросу поведения, мимики, жеста и голоса актера. Этой темой мы здесь не занимаемся. И по этому поводу можем лишь еще раз подчеркнуть, что вся пластическая композиция его экранного бытия должна быть в полной 384 гармонии с этим. Обе эти сферы неразрывно растут друг из друга, а вместе взятые — из идеи, темы и содержания вещи. О позе же модели приходится сказать почти теми же словами почти то же самое. Эта поза так же должна быть сквозным обобщающим образом в отношении всего многообразия положений и движений, которые привычны изображенному лицу. Мы знаем, что и в этом отношении В. Серов был очень четок и не меньше «возился» с расположением модели перед холстом, чем с расположением ее на холсте. Сличите продуманность самих «поз» супругов Грузенберг, барышни Гершельман или Ламановой. Или обратитесь к самой позе той же Ермоловой. Но конечно, и в самой позе, как и во всем, должен быть еще и второй план обобщения — не только того, что оно обобщение в бытовом плане. Это — та метафора позы и жеста, о которой мы приводили высказывания Энгеля и Грасиоле для действующего человека или актера (см. выше), или, вернее, тот образ — напр[имер], «образ героя», «образ вождя», «образ владельца» или «образ предателя», который и средствами выбранной позы и обработкой средствами живописи должен проступать сквозь простое изображение анатомической реконструкции изображенного персонажа.
Здесь, я думаю, и находится линия водораздела между двумя такими реалистами, как Серов и Репин.
Репин останавливается на точке бытового обобщения. Здесь он поистине велик; как обобщающе живы «актеры» в сцене «Пушкин на экзамене»! Более широкий образ обобщения не в его средствах. Если же он посягает на таковые, то получается либо аллегория («какой простор»), решенная опять-таки инсценировкой события, а не его живописным разрешением, либо страшные вещи вроде «просветленного» облика Толстого (тот портрет Толстого в рост, где он изображен с разведенными руками и лицом, светящимся розовым светом изнутри, как бумажные фонарики на дачных иллюминациях).
<Я имею в виду портрет Л. Н. Толстого кисти Репина, известный под названием «Толстой, отрешившийся от земной жизни». Он написан в 1912 году для Московского литературно-художественного кружка.
Здесь Репин ставил себе задачу, аналогичную той, которую себе ставил в портрете Ермоловой В. Серов.
В этом портрете он захотел показать внутреннюю просветленность, внутреннее озарение великого писателя, достигшего высших ступеней одухотворенности.
Мы видели, каким последовательным и сложным путем достигает Серов чисто композиционными и живописными средствами желаемого результата.
Не забудем еще и того, что Серов в довершение полного «аскетизма» в средствах воздействия своей картины — сковывает еще и жест Ермоловой: все направлено к тому, чтобы сконцентрировать действие картины на внутренней одухотворенности великой актрисы («неисчерпаемые душевные глубины», как пишет Станиславский).
А как последовательно достигается ощущение «внутреннего просветления» и «озаренности изнутри» на ее портрете, мы показали выше.
Не так поступает Репин: он идет «напролом» — непосредственно, «по-простецки».
Там, где Серов — у актрисы! — убрал все театральное, все, связанное со сценой, — вплоть до такого красноречивого средства выражения, как жест! — там Репин делает прежде всего упор как раз на жест; больше того, на чрезмерность жеста — на «позу». И это у кого? — У одного из самых суровых мыслителей и гонителей всего театрально-неправдоподобного, не 385 говоря уже о просто фальшивом (вспомним страницы савонароловской нетерпимости Толстого даже в отношении Шекспира!)46.
И великий старец, столько раз самим Репиным зарисованный в своей бытовой суровой монументальности, здесь на холсте в столкновении с монументальной задачей становится вдруг «блаженным» старичком с нелепо разведенными вбок руками!
Но еще страшнее то, что и тему «внутренней озаренности» Репин решает совершенно так же упрощенно, в лоб и буквально.
В результате имеем вместо головы великого старца нечто вроде китайского фонаря с подобием некоего материального источника света внутри.
Источника света, который розовыми отсветами просвечивает сквозь раскрашенное в розовый цвет лицо!
Невольно вспоминается… Чехов.
… «Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой рядом все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе: стало так тепло, светло, хорошо…
… После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато…».
(«Свидание хотя и не состоялось, но…»)
И это — портрет, написанный семь лет спустя после того, как с таким блеском была решена аналогичная задача Серовым!>
Ошибка метода здесь в том, что обобщенную тему, то есть тему, подымающуюся за пределы простого изображения, Репин хочет решать теми же изобразительными средствами. Получается страшная фальшь. Мы видели, что задача, выходящая «за пределы» изображения, — обобщение по поводу изображенного — пользуется и средствами, выходящими за пределы остальных средств. Мы это видели на примитивнейшем примере — баррикаде, где дело переходило в выразительность композиционного контура. Мы это в равной мере видели на совершенном примере — портрете Ермоловой. Перечтите еще раз о том, как там реализовано это «превознесение» актрисы; в частности, какими средствами там достигнуто то же ощущение просветленной вдохновенности лица, в отличие от репинского портрета Толстого, где это решено грубо изобразительно — плошкой, зажженной внутри опустошенной головы великого старца, с претензией на «светоч мысли». Такое решение, конечно, ничего, кроме недоумения, вызывать не может! Сравните с этим мастерство передачи только средствами рисунка и фона ощущения не менее «неуловимого» — чувства «воздушности» балерины в портрете Анны Павловой. Ведь изображена она не в момент самого полета, где воздушность была бы выражена прежде всего уже самой изобразительностью.
Так обстоит дело с предэкранной композицией (ведь экран по этой линии только более совершенный брат холста подрамника). В этом отношении «Ермолова» так же совершенна.
По основной же нас интересующей линии выразительность ее портрета складывается, повторяем, из того, что мы имеем перед собой единство портрета в монументальной неподвижности и одновременно же в целой гамме динамических перемещений. «Наезжающего» эффекта укрупняющихся планов. Возрастающего движения пространства и света. Перемещающейся точки зрения по отношению к модели.
Это сочетание противоречий в единстве тоже само по себе еще способствует тому ощущению пафоса, которое охватывает нас во всех тех случаях, 386 когда нам доводится на опыте ощутить и пережить диалектический процесс.
Интересно еще отметить, что это достигнуто вне разрыва реалистического изображения, которое сохраняет, несмотря на все это, свою изобразительную цельность. […]
К Ермоловой же мы вернемся еще один последний раз и окончательно отметим, что описанная воображаемая линия отношения, слагающаяся из последовательных точек взгляда на явление и предмет, — это «всестороннее рассмотрение» предмета, как мы отметили его в портрете Ермоловой, уже целиком является тем, что мы имеем за пределами кинематографа единой точки! Это точная картина того смысла, который лежит в монтажной разбивке явления на элементы, вновь воссоединяемые в монтажном образе этого явления. Для этого сложного двойного процесса я ввел в 1933 году термин «мизанкадр» (во всем аналогичный понятию «мизансцена»).
К этой области мы и обратимся, переходя в следующий раздел…
Остается сделать только еще одно, уже совершенно обобщающее заключение как вывод к тому феномену в целом, который мы так подробно прослеживали через все случаи первого раздела и который особенно рельефно выразился на примере с портретом Ермоловой.
Эта одновременность построения в двух планах в целом и в частях есть точный сколок с основной особенности нашего восприятия вообще. Оно обладает способностью двояко схватывать явление: целостно и в деталях, непосредственно и опосредствованно, комплексно и дифференцированно. Смотря по тому, из каких областей мы возьмем обозначения, а эти особенности человеческого восприятия в равной мере отражаются во всех областях его деятельности и мышления, неизменно пронизывая их… В разные периоды развития человечества и человека эти две способности восприятия бытуют раздельно и разобщенно. Исчерпывающе об этом сказал Энгельс в «Анти-Дюринге».
И только в нормальном возрасте своего личного бытия, бытия своего вида (социальное развитие) и бытия своего общества (диалектическая философия созревшего человечества) эта разобщенность сливается в единство нового качества. Односторонность детского комплексного мышления становится сознательным мышлением взрослого, вобрав в себя и дифференцирующее начало. Так же сознание человека, стоящего на заре культуры, становится сознанием человека развитой эпохи культуры. Так же философия из первобытного хаоса становится материалистической диалектикой.
Здесь любопытно, конечно, следующее: комплексное восприятие есть, конечно, низшая стадия восприятия (см. Энгельса), дифференцирующее — уже шаг вперед (см. там же). Рассмотрение же, которое способно обобщать, есть, конечно, наивысший случай и тип. (Оно фигурирует в науке как обобщенное понятие, в искусстве — как обобщенный образ, в равной степени принадлежа к высшему разряду духовной деятельности человека, — конечно, если то и другое направлены сознательно или интуитивно на прогрессивное развитие или преодоление социальной действительности в той, понятно, степени и в том направлении, которые допускает соц[иальная] эпоха, к которой они принадлежат.)
И здесь как будто возникает противоречие: наиболее высокое — обобщенный образ — как будто по пластическому признаку совпадает с примитивнейшим типом целостного восприятия. Но это противоречие только кажущееся. По существу же мы в этом случае имеем как раз тот «якобы возврат к старому», о котором говорит Ленин по вопросу о диалектике явлений. Дело 387 в том, что обобщение есть действительно целостное, то есть одновременно и комплексное (непосредственное) и дифференцированнее (опосредствованное) — представление явления (и представление об явлении).
Обобщение, от которого оказалось бы оторванным единично изобразительное, повисло бы в воздухе беспредметной голой абстракцией. Таковым было бы третье изображение нашей баррикады, обобщающее, лишенное, в отличие от первого, не композиционной линии, а самого изображения и сохранившее только один «образно выразительный» линейный зигзаг ее контура. Вся «образность» и «выразительность» мгновенно испарились бы тут же из картинки, а самый зигзаг сможет прочитываться и вовсе даже не как баррикада, а… как что угодно: кривая роста и падения цен, сейсмографическая запись подземных толчков и т. д. и т. д. (см. рисунок 14). И это будет прочитываться именно так до тех пор, пока эта абстракция не вернется снова в конкретную (в нашем случае изобразительную) предметность95*.
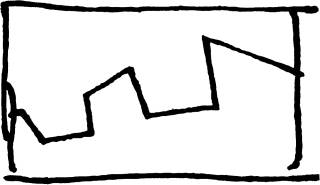
Рис. 14
В полноценном же случае так или иначе ясно основное и главное, а именно, что сила воздействия описанных образцов строится на том, что каждое крыло апеллирует к своей части восприятия, а единство их — ко всей полноте целостного сознания — «с ног до головы» вовлекая зрителя в это воздействие.
Эта же особенность нашего восприятия обусловливает, конечно, и самый факт построения и возможности именно такого построения в действительно полном и совершенном произведении.
В этой черте строй произведения является отражением черт человеческого сознания — Человека — внутри одной особенности строения формы. Это будет таким же отражением в форме произведения, как отражение Человека является первым условием живого и реального содержания произведения.
Заметив это, не забудем этого соображения и обратимся к непосредственным вопросам монтажа, ибо к высказанному положению нам придется еще вернуться.
388 [Post scriptum]
Я не люблю Репина. Но это обстоятельство совершенно в стороне от того разбора метода, который привел к такому неблагополучию упоминаемый портрет Толстого. В этой неблагоприятной оценке его я схожусь с таким пламенным поклонником репинского творчества, каким является Игорь Грабарь47. Он не разбирает условий неприглядности этой репинской работы, но вместо с тем не скупится на резкость ее осуждения. В главе, характерно названной «Под гору», Грабарь пишет: «… Но худшим из всех надо признать тот портрет, который был ему заказан в 1912 году Московским литературно-художественным кружком и который был назван автором “Толстой, отрешившийся от земной жизни…”» (Игорь Грабарь, «Репин», изд. «Искусство», 1937, том II, стр. 151).
Я думаю, что этим снимается вопрос о пристрастности моего суждения по этому портрету.
«… Здесь мы подходим к самому существенному моменту репинского творчества — отсутствию воображения — не только в “Запорожцах” и “Николае Мирликийском”, но и вообще во всем искусстве Репина. Отсутствие воображения — еще не беда для художника: достаточно сказать, что его не было ни у Веласкеса, ни у Франса Гальса48, ни у Гольбейна49. Но они, за редчайшими исключениями, и не брались за темы, не отвечавшие их дарованию и бывшие им не по силам, а Репина, как назло, они-то и притягивали: “Софья”, “Запорожцы”, “Николай”, позднее “Иди за мной, сатана” и другие. Для этих задач надо было владеть исполинским воображением Сурикова…
… Три черты репинской натуры — отсутствие воображения, страсть к задачам экспрессии и тяга к передаче сложных человеческих деяний, движений и помыслов, главным образом со стороны их физиологической видимости, — определяют все содержание его творчества…».
(Игорь Грабарь, «Репин», 1937, II [том], стр. 78).
Позволим себе взять это обозначение отсутствующей черты — «воображения» — дословно. Я думаю, что она меньше всего должна была бы читаться как «выдумка» или «фантазия». И в ней больше всего двух чтений: 1) вхождения в образ того, что изображается и 2) переложения «во образ» того, что изображаешь. Отсюда портреты Репина — поистине скорее «атлас» (Грабарь где-то называет «Запорожцев» «атласом смеха») типов и прототипов, черт и черточек, взятых с натуры как бы в пособие для актера, который бы захотел их сыграть (поэтому монографии о Репине и лежат у меня среди книг, помогающих актерам, а вовсе не в разделе живописи!), в то время как портреты Серова кажутся галереей бесподобно воплощенных, сыгранных автором образов живых людей. Ниже, в вопросе об Эль Греко50, мы еще раз встретимся с вопросом самовоплощения авторской игры в своих произведениях. Но Эль Греко станет в этом вопросе не в тот ряд, где стоит Серов — мастер абсолютного перевоплощения себя в создаваемый образ, в то время как Эль Греко «в себя» перевоплощает все многообразие того, с чем он встречается в разнообразии сюжетов и моделей. Второму же пункту, то есть способности же (и методу) того, как Серов умеет не только изобразить, но и «вообразить» изображаемое, посвящен весь этот раздел о портрете Ермоловой. Противопоставление ему Репина лишний раз подкрепляет наше положение, [подкрепляется оно и] отмеченной Грабарем чертой отсутствия «воображения» у Репина…96*.
389 … Мне бы не хотелось расставаться с Репиным, не уточнив того, что я имею в виду в связи с его творчеством. Типичности реалистических фигур, которые он изображает, отрицать не будет никто. Но дело именно в том, что его личная работа как живописца этой областью изображения и ограничивается. Типичность у Репина достигается не одновременностью изображения человека и обобщения его облика в образ. Репин делает иначе: он списывает с природы типически найденных людей. Типичность достигнута не средствами художника, а средствами природы модели, добросовестно отпечатанной живописцем. В этом смысле к термину и применима ремарка «хорошо поставлена сцена», которую мы обронили по поводу «Пушкина на экзамене», но кроме квалификации Репина как умелого театрального режиссера его можно было бы назвать еще хорошим антрепренером по мастерству подбора типичности самих исполнителей.
Трудно найти более волнительные для кинематографиста описания такой погони «за типажем», чем это относится к другому нашему реалисту — Сурикову. В частности, к случаю с тем учителем математики, который оказался совершенным «образом» для Меншикова. Но Суриков отличен от Репина тем, что и большинство средств чисто живописного порядка участвует у него в построении и создании образа человека и образа той сцены, в которую он заключен. Эта «заключенность» особенно рельефна в одной сцене, и тематически [тоже] связанной с заключением. И эта тема тем самым возвращает нас снова к Меншикову. На этот раз не к прообразу его, а к картине его ссылки в Березове.
Очень впечатляют обычно описания покойников, пересылаемых на дальние расстояния: эти заключенные друг в друга гробы — дубовый, свинцовый футляр на дубовый, футляр на свинцовый. Таковы гравюры, [изображающие] Наполеона в гробу после перевозки его тела с острова Святой Елены, когда подняты крышки всех гробов, и тело Наполеона кажется обведенным четырехкратным жирным контуром гробов от самого близкого и непосредственного до сурового внешнего ящика, охватывающего внутренние слои. Не знаю, витал ли образ Бонапарта на острове Св[ятой] Елены перед Суриковым, когда он писал картину. Но, глядя на «Меншикова в Березове», я невольно думаю об узнике Св[ятой] Елены, чей размах так же неумолимо скован стенами тесного домишка, оградой небольшого сада вокруг, упрямым контуром самого острова и необъятным водным пространством вокруг, не говоря уже о сторожевых английских судах, курсирующих вокруг. Образ живого Бонапарта, если это может быть названо жизнью, или образ мертвого Бонапарта, обведенного четверным контуром гробов! И таким же кажется мне по крайней мере Меншиков, во всей страстности несгибающегося нрава как бы заживо погребенный и закованный березовской ссылкой в четыре гроба, последовательно сжавших друг друга в объятиях. Только с той поправкой, что гробы эти не физические, не материальные, а метафорически достигаемый эффект через средства «концентрически» сжимающих друг друга прямоугольников композиции. В центре композиции резко сжатая рука. Образ воли, сковавшей порыв, которому бесцельно бросаться в бой. Ее охватывает крепко прижавшаяся друг к другу композиционно сжатая группа семьи. Сруб избы охватывает группу. В окно поблескивает достаточн[о] тусклый свет зимнего дня, чтоб ощутить избу окованной морозом, прежде чем дать глазу упереться в неумолимые перекладины рамы, сжавшей картину в целом, как того знаменитого узника Людовика XI, который на долгие годы был окован железной клеткой, не дававшей ни встать ему, ни разогнуться. У Сурикова это чувство 390 охватывает даже больше, чем одну картину. У него чувство проступает за пределы ее холста. И Меншиков в центре целого цикла с «Боярыней Морозовой» и «Утром стрелецкой казня», в отличие от цикла, соединившего в единстве темы «Взятие [снежного] городка», «Покорение Сибири», «Переход Суворова через Альпы».
У Репина мы аналогичного не найдем. Типичность в его картинах достигается иным путем. Мы старались указать, каким именно. Типическое как одновременный показ и явления и вывода (обобщения) по данному явлению, типическое, решаемое полным образом, равно обнявшим и предметное изображение и обобщенный образ, не в средствах Репина. И потому, быть может, как раз он чисто изобразительно силен и так популярен у тех, кто ищет изображений прежде всего. И, может быть, здесь секрет той противоположности эффектов от двух выставок. В одной и той же Третьяковской галерее. Одной в [1934] году. Другой в [1935] году. Одной — репинской. Другой — серовской. Общие впечатления от выставок в целом, в обратном порядке повторивших черты сличения произведений в отдельности. Каждая картина Серова по размаху типичности, по nec plus ultra97* выраженности характера превосходит Репина. Ансамбль репинской выставки — сводным, комплексным «лицом эпохи» — оставляет позади неповторимую галерею серовских лиц, через каждое из коих в отдельности говорит эпоха. В чем дело? Я думаю, именно в том, что обобщение внутри картины, то есть то, что выходит за пределы изображения, недоступно Репину. Что каждое изображение, как чистый тон или чистый цвет, — природно непосредственно. Обобщающее опосредствование на холсте не получается. И только в сонме (безудержное обилие живописи Репина позволит воспользоваться этим архаизмом для обозначения ее количества!) их сочетания способно возникнуть само обобщение, для облика коего каждое частное изображение оказывается не больше черты. Того же не получается у Серова: у Серова каждый портрет, каждая картина — свой мир, сумевший собрать в себе идею во всех ее измерениях. И «Похищение Европы» рядом с «Гиршманами», «Ламанова» рядом с «Петром» остаются самостоятельными, не сливающимися мирами. В то время как «Крестный ход» стыкается с «Иоанном Грозным» и ничто не мешает «Св[ятому] Николаю [Мирликийскому]» сочетаться с портретом Рубинштейна и «Протодьяконом» и складываться в общую физиономию эпохи. Таково положение со всем opus’ом Репина.
Интересно, что то же самое происходит и с циклами внутри его. Здесь циклы не суриковского типа — циклы, [не] образно объединенные (как приводилось выше). Здесь циклы собираются по признаку единства изображаемого. Интереснее всего в связи с этим случай с одной из репинских последних работ, где цикл составлен из отдельных изображений, рассчитанных фигурировать в одном общем изображении. Эти изображения существуют и как цикл, и как само изображение, вобравшее их. И удивительно, в то время как сонм этих единичных изображений производит замечательнейшее впечатление — само собравшее их в себя общее изображение оставляет нас совсем равнодушными. В чем же секрет? А в том, что объединение их оказалось именно собранностью, склейкой в одно общее изображение, а не обобщением в одно целое. Раскроем [то], что я имею в виду: это — его «Государственный совет», демонстрируемый зрителю в двух видах. И как законченная картина. И как набор превосходных отдельных портретных эскизов — зарисовок 391 к большой картине. Первая оставляет нас более чем равнодушными, не только темой! — но в основном композиционно-живописными своими качествами или, вернее, если хотите, полным их отсутствием. Вторые, когда пробегаешь глазом по их многообразию, производят впечатление изумительное. Настолько сильное, что я до сих пор помню впечатление, которое они на меня произвели в первый раз, когда я их увидел, а было это давно — до войны, на той выставке у Марсова поля в Петербурге, где и сами они впервые были показаны публике. Предоставляю судить о моем собственном возрасте и расстоянии по времени! Вторично я увидел эти эскизы на репинской выставке [1934] года, на этот раз даже рядом с цельной картиной. Я проверил свое впечатление и не только убедился в правильности его, но думаю, что и определил секрет столь разного впечатления. Дело в том, что при пробеге глазом по отдельным портретам у зрителя складывается обобщенный образ — лик Государственного совета, и лик настолько яркий в лицах его членов, что сквозь них проступает лик той власти, верховными исполнителями коей они служат. Ничего подобного от картины в целом не получается. Образы и облики пересажены в нее с отдельных портретов, как публика в зрительном зале по билетам, по признаку рангов, статутов и уложений — правительственных, а не художественных.
Почему же здесь не может произойти того же объединения в коллективный облик? Потому что в картине этот обобщающий облик и образ должен даваться самим художником. Если же он не дает его, то зритель уже дезориентирован, и для того, чтобы по-своему собрать элементы картины в свое представление, в свой обобщающий образ, ему надо разъять готовую картину, разбить ее на фрагменты и снова в сознании ее собирать, то есть «дешевле» обратиться к… подготовительным портретам, где авторский узко изобразительный способ сочетания их, не подымающийся выше рассадки персонажей! — по крайней мере не мешает собственному образному сочетанию его персонажей! Вывод отсюда таков, что изобразительное соединение отдельных изображений не только не дает нового обобщающего их чтения, но лишает и их самих той выразительной силы, которая в каждом разрозненном экземпляре возрастала от условий охвата каждого в монтажном сочетании их всех между собой. Этого-то композиционного монтажа, этого охвата единым действием и соподчинения его ритму как пределу обобщения темы этого действия художник Репин и не проделал. Прошу не думать, что здесь дело в «левацком» требовании, противоречащем реализму: обвинения, вроде вышеизложенных, не предъявишь ни Сурикову (массовая «Морозова»), ни Ал[ександру] Иванову (массовое «Явление Христа народу»), ни Леонардо да Винчи (массовая «Тайная вечеря»). Характерно, что «Явление Христа народу», тоже открытое для публики как собрание голов и как цельная картина, никак не дает того же эффекта, который мы имеем в случае Репина. Там отдельные головы — так отдельными головами остаются, читаются как разрозненные портреты, поражая тем, что Христос списан [с] Аполлона. Но зато подлинная мощь динамического образа проступает тогда, когда они в неумолимых руках живописца заставляют зрителя вычитывать его в том непреложном композиционном строе, которым он их образно выразительно связал. Весь размах именно композиционного мастерства Иванова особенно ярко проступает в его эскизах к священной истории, где есть просто незабываемые разрешения вроде «Побиения камнями» и других. Так или иначе, обобщение у Репина следует искать не внутри картины, а в сочетании ряда картин между собой, деланном не руками самого художника, записывающего их на одно полотно. 392 Оно или просто не получается («Государственный совет»), или с ним случается то, что произошло в описанном портрете с Толстым.
Так, как описано выше, по-видимому, прочитываю «Государственный совет» не один я. Вот что пишет Н. Радлов по совсем иному поводу, разбираясь в вопросах живописной техники Репина и указывая «на ту группу произведений, в… которых черты дарования Репина проявились с наибольшей чистотой и очевидностью. Таковыми…» ему кажутся «… этюды его (Репина) к картине “Государственный совет”»:
«… И по целям, и по средствам изображения эта работа исключительно отвечает таланту и силе Репина. Это — ряд характеристик, схваченных непосредственно и в упор, как этого требовала краткость сеансов, и лишенных поэтому каких бы то ни было попыток типизации или теоретических выводов. И прием, которым пользуется здесь художник, — упрощенные тональные определения без каких бы то ни было притязаний на колорит и выработанность рисунка…» (Н. Э. Радлов, «От Репина до Григорьева», 1923).
«Талант и сила» Репина, таким образом, в изобразительной «непосредственности» того, что он схватывает. Рисунки его, освобожденные от «типизации» и «выводов», то есть обобщений художественными средствами, наиболее отвечают его «таланту и силе». Отмечаемые же дальше черты упрощенной тональности, отсутствие претензий на колорит и невыработанность рисунка — сами по себе делают этюды не только по функциям создавания обобщенного образа, но и по внутритехническим признакам типичными «монтажными» кусками.
Но, впрочем, то, что написано здесь и далее, уже целиком выходит за рамки первого раздела, и для полного уяснения этого места не вредно перечесть его еще раз в сопоставлении с разъяснениями, которые даются мною во втором разделе, [где я касаюсь] того, как создается монтажный образ. Для самого же второго раздела отмеченное здесь само послужит добавочной иллюстрацией.
Здесь же мы можем окончить наш разбор Репина последним соображением. Тот обобщенный облик Толстого, достойный методов Серова, который Репину не удался в разбираемом портрете, — все же существует в репинской кисти. Но где? — В монтажно слагающемся сквозном и обобщающем облике и образе Толстого, который возникает из всей той серии любовных и проникновенных зарисовок и картин, в которых Репин чисто изобразительно закрепил великого старика в отдельных моментах. В этих бесчисленных картинах и зарисовках Репин схватывал чисто изобразительно по одной черте, по одной характерности Толстого в каждой картине, в каждой зарисовке. Изобразителю большее и не дано. То это динамическая настойчивость в развевающейся бороде пашущего Толстого, то это его смирение «толстовца» в босом портрете в «толстовке», то это толстовская мощь в почти микеланджеловском жесте оригинала, с которым Толстой, лежа на земле, держит на расстоянии читаемую книгу, то Толстой — труженик в бесчисленных портретах за письменным столом. Везде схвачена одна фацета, одна грань. И только в сочетании картин толстовского цикла в «галерею» складывается общее представление о Толстом. Репин изобразил его во всех возможных единичных проявлениях, но нигде не сумел на поверхности единого холста дать синтетический и объединяющий портрет, равный по полноте обобщенного облика портрету Ермоловой кисти Серова.
393 РАЗДЕЛ II
Монтаж в кинематографе сменяющейся точки
съемки
Период кинематографа сменяющейся точки съемки теперь принято называть периодом «монтажного кинематографа». Это вульгарно по форме и просто неверно по существу: всякий кинематограф есть монтажный кинематограф. По той простой причине, что самый основной кинофеномен — подвижность фотографии — есть явление монтажное. Действительно, в чем состоит этот феномен подвижности фотоизображения на кино?
Делается ряд неподвижных снимков с разных фаз одного и того же движения. Подучается ряд того, что называется «кадрики».
Монтажное сцепление их друг с другом при пропускании с известной скоростью через проекционный аппарат сводит их в единый процесс, который прочитывается восприятием как движение.
Можно было бы это назвать стадией микромонтажа, ибо закономерность в этом явлении та же, и сочетание монтажных кусков в порядке ощущения движения высшей интенсивности (монтаж в видах на усиление «темпа») или высшего порядка (достижения внутренней динамики средствами умелого мизанкадра) есть повторение того же явления на более высокой ступени развития. Ведь можно говорить даже о макромонтаже. В нем имеет место уже не композиционная сборка куска (микромонтаж как сочетание клеток) или сборка кусков (монтаж как сочетание монтажных единиц), а композиционное сочетание отдельных сцен, целых частей полного произведения.
Монтаж, таким образом, пронизывает все «разряды» кинопроизведения, начиная с основного кинофеномена, через «собственно монтаж», до композиционной цельности кинопроизведения в целом.
До сих пор мы касались вопроса кадра не как монтажной цепи «кадриков». Теперь даже неподвижный кадр ощущается нами как монтажный процесс — как самое первое звено сквозной монтажной цепи, которая проходит сквозь все произведение.
До сих пор мы и рассматривали кадр только как пластическую единицу, ничем не отличную от элемента живописи. Неподвижный и подвижный кадр мы могли унифицировать в вопросе композиции тем, что в первом случае мы имели дело с закрепленным контуром, а во втором случае — со следом движения. Принципиальной же композиционной разницы в чисто пластическом отношении это не представляло. Теперь нам надо бегло взглянуть на этот единичный кадр как на монтажный комплекс и посмотреть, как в нем закреплены рудименты того, что с исчерпывающей полнотой развивается на второй стадии монтажной формы.
Как всегда — начнем с «предков». Для вопросов пластической композиции кадра мы нашли их в живописи. […] Спрашивается, нет ли и для «основного феномена» кино предков на стадиях, ему предшествующих. То есть не известно ли и другим искусствам это необыкновенное положение, в силу которого два неподвижных вида предмета, схваченные в двух последовательных фазах движения, имеют свойство, сталкиваясь, рождать явление нового качества, нового измерения, то есть «сливаться» в представление о процессе движения?
Несомненно — да. И, конечно, в первую очередь лезут в память футуристические рисунки людей «об осьми ногах», зарисованных в восьми разных фазах движения ног. Но по поводу них не лишне отметить, что ощущения движения ног из этого не растет: эта чисто умозрительная, логическая игра «обнажает 394 прием», разрушая этим «тонкий обман», который мог бы создавать иллюзию, если бы он был решен тоньше (а образцы на это — смотри ниже). Кроме того, и это, как большинство «измов», есть не более как регресс к этапам прошлого, когда подобные же этапы проходились в прогрессивном движении вперед, в стремлении овладеть действительностью, а не бежать от нее. Так, на очень ранних миниатюрах (века XI – XIII) можно найти совершенно то же явление. Художник еще не умеет схватить динамику движения в динамике рисунка. И что же он делает? Он раскладывает движение на две фазы, иногда на три и одной фигуре придает ряд последовательных положений, через которые проходит движение. Рис[унок] изображает такое «движение руки», данное через «два положения руки». В связи с этим у меня давнишнее подозрение на многоруких индусских богов — не есть ли и там момент «последовательности» в основе изображения числа рук? Ведь еще в древности Лукиан51 занимался подобным же развенчиванием, например, Протея52. Его «оборотничество» и способность менять облики и личины Лукиан толкует ни более и ни менее как актерское искусство с его умением перевоплощаться в многообразие сценических образов. «Моментальный снимок» с фазы движения, заставляющий этот фрагмент движения казаться неподвижным, отнюдь не связан с фотографией. И чтобы так, в мгновенности, схватывать неподвижный «осколок» процесса движения, человечеству не нужно было дожидаться изобретения фотокамер с выдержкой в двадцать пять, сто или тысячу долей секунды.
Вспомним хотя бы наблюдение Толстого над бегом лошадей ночью, при вспышках молнии (в «Детстве и отрочестве»).
Ощущение фазности и распадения движения на фазы могло расти из большого количества наблюдений схожего типа. На первых порах передача движения шла таким резким, «топорным» путем, с разрывом единства формы, с нарушением бытовой реальности изображения, но самый прием изображения последовательности фаз для передачи ощущения движения плотно гнездился в тех образцах живописи, которые нас особенно поражают своей подвижностью и в то же время не рвут ткани единства изображаемого предмета, человека, явления. Таковы в равной мере, например, литографии Домье и плафоны Тинторетто. «Трюк» необычайной подвижности изображаемых ими фигур — чисто кинематографичен. Но, в отличие от средневековья, они последовательные по времени фазы движения придают не одному члену, несколько раз изображаемому, а делают разверстку этих фаз по разным последовательным сочленениям. Так, ступня еще в положении А, колено уже в стадии А + а, торс в стадии A + 2а, шея А + 3а, поднятая рука A + 4а, голова A + 5а и т. д. По закону «pars pro toto»98* к положению ноги достраиваешь мысленно все положение, в котором в этот момент должна быть вся фигура. То же по колену. То же по шее. То же по голове. И, по существу, так нарисованная фигура прочитывается как шесть последовательных «кадриков» этой же фигуры в разных последовательных фазах движения. Последовательность наложения их друг на друга заставляет их прочитываться «движением» совершенно так же, как это имеет место на кино.
Это в равной мере имеет место и у Домье и у Тинторетто.
Мастерство обоих заключается в том, что они, несмотря на эту разницу стадий движения в отдельных сочленениях, ухитряются сохранить цельность от общего впечатления фигуры в целом. «Разлом» фигуры случается очень редко, и я нарочно выбираю из литографического opus’а Домье такой редкий 396 случай, где случился подобный «разлом»53. Он особенно нагляден, и от него легче перейти к рассматриванию и расшифровке тех случаев, где цельность фигуры сохранена. Резкость истерического отворота кавалера дана в очень резком разрыве фаз, в котором находятся, с одной стороны, корпус и фигура его в настоящем положении и, с другой стороны, — рука по локоть, сохранившая положение, предшествовавшее этому резкому отвороту. Совершенно очевидно, что на самом рисунке рука «анатомически» в локте — сломана. Большим подспорьем в достижении эффекта цельности, несмотря на дробленость в благополучных случаях — а их количество подавляюще, — является сам характер рисунков Домье — рваный штрих, характер наброска, только в известных пунктах закругляющегося в «дописанные» цельные формы. Тинторетто достигает того же своими, живописными средствами. Если таков метод в живописном изображении движения «на себе» — жеста, то такова же последовательная традиция изображения последовательности больших комплексов поступков.
Здесь дело кишит примерами. На одной и той же картинке средневековья блудный сын уходит из дома отца, рядом же предается беспутству, тут же, разоренный, ест из корыта со свиньями, чтобы в противоположном началу углу снова вернуться в отцовские объятия. Классическим примером может служить Мемлинг54, который выстраивает живописью целый город Иерусалим и в последовательных домиках и уличках шаг за шагом изображает одновременно все последовательные фазы событий страстной седмицы. Тут очевидна тройная традиция: 1) архитектурная, как она изложена выше; 2) церковная, где практиковалось и практикуется прохождение через двенадцать стадий страданий Христа по собору или священной дороге в гору с поминанием на каждой из них той фазы страстей, через которые прошел Христос; 3) театральная, поскольку средневековая сцена совершенно так же выгораживала целый город с разными местами действия от ада и до рая «по флангам» этого города, через которые и одновременно и последовательно могло виться действие.
Путь от этого примитива концепции к более реалистическим образцам идет совершенно аналогично тому, что мы отметили на примере Домье — Тинторетто: фазы сцены развертываются между группами действующих лиц, которые, по существу, изображают последовательные стадии одного и того же акта, одного и того же поступка. Классическим примером этого может служить «Путешествие на остров Цитеры» Ватто55 так, как его описал и расшифровал Роден.
Характерно, что именно скульптору принадлежит подобный разбор: скульптура пользуется этим приемом еще шире, чем живопись. «Эскизность» незаконченных форм принадлежит ей меньше, хотя как раз сам Роден в фигуре Бальзака, как бы вылепленной штрихами Домье, целиком следует и методу Домье. Торс, голова и детали — все в разных фазах, откуда колоссальная динамика этого памятника, только благодаря правительству Народного фронта пережившего все интриги и дожившего до того, чтобы быть наконец водруженным на площади. Буйность лепки как бы незаконченных форм сливает эти фазы в единую изобразительную цельность. Но так же поступает Микеланджело. Анатомическая деформация и гипертрофия форм человеческого тела скрывают под собой и этот же прием. Динамическую расшифровку движения огорченной брезгливости из, казалось бы, неподвижной позы Моисея в отношении поклоняющихся золотому тельцу очень искусно выводит… Фрейд.
В маленькой работе, еще ничего общего с психоанализом не имеющей и ограничивающейся рассмотрени[ем] соотношений поворота торса, положения 397 бороды и схватившей ее руки, Фрейд путем анализа старается воссоздать движение, породившее такое соотношение, и прочесть его психологически.
[…] Интересно отметить, что в портрете Горького работы В. Серова есть такая же динамика. Это произошло оттого, что Серов в портрете Горького воспроизвел композицию, взятую с… мадонны Микеланджело во Флоренции.
Аналогом к «Путешествию на остров Цитеры» помимо «Граждан [города] Кале» того же Родена, где в скульптуре закреплена последовательная гамма внутреннего движения — эмоции горя через последовательных скульптурных ее носителей, по линии непосредственного движения может служить очень древний пример: статуя Лаокоона. Здесь совершенный образец и на фазе внешнего движения — наступления двух змей — и на фазе нарастания темы страдания, решенной через градацию поведения персонажей. Самое же, однако, любопытное в группе Лаокоона — это голова центрального персонажа; самое любопытное в ней то, что живое выражение человеческого страдания в ней достигнуто через иллюзию подвижности, а эта иллюзия подвижности достигнута тем, что складки страдания изображены так, как одновременно они сорасполагаться не могут. Черты искаженного страданием лица представлены в двух разных фазах физически возможного выражения лица. Этим наблюдением мы обязаны Дюшену99* 56, известному своими опытами электрического раздражения отдельных мышц.
Это он докопался до того, что одновременное сокращение всех лицевых мышц Лаокоона физически невозможно. В своей книге он дает рядом с изображением головы греческого Лаокоона — головку анатомически «исправленного» Лаокоона. То есть Лаокоона с тем искажением черт лица, которое анатомически возможно. И что же? В «анатомически возможном» Лаокооне нет и доли той динамики страдания, которая, достигнутая киноприемом, сделала Лаокоона бессмертным в веках!
На литературе мы останавливаться не будем. Укажем разве на то, что и в ней есть примеры на столкновение фаз поступков вместо изображения процесса. Конечно, это надо искать в образцах ранних. Мы здесь ограничимся двумя примерами: одной японской танки (короткий стих) и тремя строчками из «Слова о полку Игореве». Вот они:
Бабочка летает.
Бабочка уснула…
и
… Игорь спит.
Игорь бдит.
Игорь мыслию поля мерит…
Лапидарная мощь второго примера и ощущение эфемерной мимолетности полета бабочки, в равной степени свежести и непосредственности достигнутые одним и тем же приемом, — несомненны.
Здесь же к месту сказать и о том, что не только фазам движения свойственно в нашем сознании соединяться в движение, что не только отдельным выражениям горя — сливаться в общее ощущение горестности («симфония горя»), но и вообще ряду характерных фрагментов — сочетаться в представлении об этом явлении. В качестве примера на это я ограничусь тем, что приведу совсем любопытного и курьезного предка монтажа. Он принадлежит изобретательности 398 [Джона] Феникса (Phoenix), американского юмориста середины XIX века, и взят из его пародии 1855 года на газетные сенсации — из пародийной газеты [«Феникс-журнал» — «Phoenix Picturial»].
Составленное из традиционных типографских знаков-изображений — то есть невидоизменяемых кадров — это уморительное сопоставление с полным правом может считаться и праотцом и пародией на киномонтаж, рожденный на многие, многие десятилетия позже!
Если «Ограбление железнодорожного поезда»57 принято считать за предка кинофильм[ов], то пародийное страшное «Крушение железнодорожного поезда» Феникса можно с успехом зачислить в серию предков монтажа кинофильмов!

В этом направлении кино — только более совершенный в своих возможностях аппарат. И вполне естественно, что поле деятельности здесь соответственно грандиознее: от приложения этого момента к самому принципу кино, через нормальные монтажные функции (о которых сейчас же ниже) вплоть до монтажных курьезов. До тех случаев, когда кино, пользуясь нашей склонностью к такому «воссоединению» в образ или понятие умело подставленных фрагментов, их и подставляло зрительскому восприятию. Вспомним здесь львов из «Потемкина», где три разных скульптурных льва, находящихся в трех разных позах, монтажом были соединены в одного «вскочившего льва». Или «парад богов» из «Октября», где шеренга богов от пышного Христа барокко, через всякие божественные образцы опускалась до чукотского деревянного божка. Смонтированные в ряд, они прочитывались как своеобразное ироническое развенчивание образа бога и через него самого понятия о боге. Последний образец много лет спустя возродился веселой страницей Жана Кокто58, посвященной другому божеству — парижской моде. И эта страничка лишний раз подчеркивает, сколь свойственно нашему сознанию и глазу объединять в единое движение умело подобранную шеренгу или серию элементов!
«… Il faudrait filmer de la sorte les époques lentes et les modes qui se succèdent. Alors, ce serait vraiment saisissant de voir, à toute vitesse les robes s’allonger, se raccourcir et se rallonger, les manches, se gonfler, se dégonfler, se regonfler, les chapeaux s’enfoncer et se retrousser, et se jucher, et s’aplatir, et s’empanacher, et se désempanacher, les poitrines grossir et maigrir, provoquer et avoir honte, les tailles changer de place entre les seins et les genoux, la houle des hanches et des croupes, les ventres qui avancent et qui reculent, los dessous qui collent et qui écument, les linges qui disparaissent et réapparaissent, les joues qui se creusent et qui s’enflent, et pâlissent, et rougissent, et repâlissent, les cheveux qui s’allongent, qui disparaissent, qui repoussent, qui frisent, se tirent et moussent, et bouffent, et se dressent, et se tordent, et se détordent, et se hérissent de peignes et d’épingles, et les abandonnent, et les réadoptent, les souliers qui cachent les orteils ou les dénudent, les soutaches qui se nouent sur les laines piquantes, et la soie vaincre la laine, et la laine vaincre la soie, et le tulle flotter, et le 399 velours peser, et les paillettes étinceler, et les satins se casser, et les fourrures glisser sur les robes et autour des cous et montant, et descendant, et bordant, et s’enroulant avec la nervosité folle des bêtes qu’on en dépouille…» (Jean Cocteau, «Portraits — souvenirs. 1900 – 1914», Paris, 1935, p. 100 – 102)100*.
Таким образом мы видим, что принцип кино не есть нечто явившееся человечеству с неба, а что он растет из недр и глубин человеческой культуры. И этот принцип самого кинофеномена нам кажется растущим и развивающимся внутри самой кинематографии, где все формы и разновидности кинописьма, определяемые социальным развитием того общества, которое создает кинопроизведения, в достижениях самого высокого социального строя — нашего — приходят и к наиболее совершенной картине эстетики этой области. А именно — к тому ее пониманию, когда все достижения ее развития и разветвления являют обогащенный образ тех же принципов, которые лежат в самой основе ее феномена. В этом она отражает сущность нашего строя, где общество построено на том, чтобы быть совершеннейшим обобщением той маленькой первичной единицы, из которой оно слагается, — человека. Обществом предельной человечности, подлинным и единственно возможным видом человеческого общества и является наш строй, как бы пронизанный образом Человека, ради которого этот строй и создан. В эстетике, я думаю, это отражается принципиально в том, что принципы искусства максимально приближаются в своих сложнейших достижениях к самым первичным принципам самого искусства. Гениальные провидцы могли по этой линии забегать вперед против тех социальных формаций, которые были призваны породить подобный строй. Их гениальные прозрения неизбежно были искажены и смяты непосредственным отражением в сознании того строя, которому они шли сознательно наперекор, но из отражения коего их сознанию вырваться не было возможным.
Таков, я думаю, случай Скрябина для музыки. То, что мы здесь выставляем как единую цепь и единый путь внутри кино по линии кадрик — кадр — монтаж — тонфильм, целиком перекликается с тем, что делала концепция Скрябина в музыке. Но если там это было единичным прозрением и воплотилось в индивидуальную манеру и стиль единичного гениального дарования, то для нас, я думаю, это вопрос не единичного стиля или направления, а результат коллективно достигаемого понимания принципов целой области культуры или, вернее, целой линии внутри одной области культуры — кино. Это уточнение необходимо потому, чтобы снова меня не побивали бы каменьями за игнорирование других неразрывных с ней линий, из которых ткется ткань 400 цельного и целостного произведения кино. […] Ибо по каждой составной части кинопроизведения мы обнаружим тот же признак отражения в целом принципа его мельчайшего слагаемого (в соответствующем качественном виде), как и в конце работы мы увидим, что и кино в целом есть не только в изображении, но и в принципе полной своей композиции, то есть в форме, — отражени[е] одного и того же — Человека.
Но вот то место о Скрябине, которое мы имеем в виду:
«… Основная черта гармонического материала, с которым оперирует Скрябин, — это их (гармоний. — С. Э.) “ультрахроматическая природа”… В структуре их Скрябин интуитивно провидел отражение структуры звука вообще как комплекса единовременно звучащих тонов, составляющих части единого акустического целого. Иногда это — гармонические организмы, созданные по принципу структуры простого “музыкального” звука, который, как известно, заключает в себе ряды призвуков или верхних обертонов, как бы являющих фактическую реализацию этих обертонов. Иногда это — отражение и интуитивное воссоздание тех несравненно более сложных звучностей, которые являются нам в виде тембров колоколов и других подобных звучащих тел…
… Этою связью своей структуры со структурой тембров, этим интуитивно провиденным Скрябиным методом воссоздания гармонических комплексов “по образу и подобию” тембров, устанавливается мост между двумя акустически уже давно сливающимися понятиями — между комплексами звуков, сливающимися в одном впечатлении “звукотембра”, и между комплексами звуков, слитых в понятии гармонии…»
(Л. Сабанеев, «Скрябин», ГИЗ, 1923, стр. 93 – 94).
Разница здесь же неизбежна еще и в том, что именно взято за эту первичную ячейку «прообраза» структуры произведения.
Характерно для Скрябина, что им взята за эту основу «структура звука вообще» (см. выше). То есть взят элемент природы как таковой, а не элемент природы, хотя бы первично освоенный сознанием. Если мы говорим о том, что в основе структур внутри киноэстетики как бы сохраняется особенность первичного кинофеномена: образование движения из столкновения двух неподвижностей, то тут дело касается не физического природного явления, а присутствует явление, связанное с деятельностью сознания. Это не только первичный феномен кинематографической техники — это скорее прежде всего первичный феномен сознания в его образотворческой способности.
Ибо, строго говоря, не движение получается в этом случае, а наше сознание обнаруживает при этом способность два разобщенных явления сводить в обобщенный образ: две неподвижные фазы сводить в образ движения.
<Иное толкование отправного кинофеномена (и соответствующих из него выводов) было [бы] не только фактически неправильным, но, кроме того, было бы еще и чисто импрессионистическим. Доминирование сетчатки глаза, то есть изобразительного отпечатка, над мозговыми центрами, то есть над образным отражением, было тенденцией именно этого направления. Именно по этому тезису их бил исторически сменявший их кубизм. Кубизм, достаточно нагрешивший собственной односторонностью, однако, это положение ухватил совершенно верно, хотя и воплотил его в формах, звучавших отчетливее распадом, чем искусством «воссоединений». Впрочем, здесь еще вина и на том, что средство выражения его — неподвижность живописи — не было в состоянии выполнить ту задачу, которую предлагалось ей воплощать. Обвинять Глеза и Метценже59 по этому пункту почти звучало бы так же, 401 как ставить в упрек Леонардо да Винчи, что он возился с птицами вместо того, чтобы для своих летных выкладок пользоваться совершенным опытом «АНТ-25»! Но вот что пишут оба эти автора об импрессионизме. (Цитирую по брошюре Г. В. Шапошникова «Эстетика числа и циркуля» о неоклассицизме, названной парафразой на подзаголовок книги Джино Северини60 «От кубизма к классицизму». «Эстетика циркуля и числа». Москва, ГАХН, 1926.)
Сперва, однако, кратенько напомним об импрессионизме. Импрессионизм «… стремится к тому, чтобы мгновенное впечатление проникало в художественное произведение во всей свежести и чистоте. Импрессионисты отвергают все привнесенное, основывающееся на прежних и повторяющихся наблюдениях, то есть все то, что не получено от непосредственного и единичного зрительного впечатления. Импрессионисты не допускают исправления зрительных впечатлений на основании опыта или воспоминания, так как при этом терялась бы подлинность впечатлений, а вместе с ней и истина, и выступало бы расплывчато нечто среднее между правильным наблюдением и мысленным истолкованием. Художник, изображающий глаз, вазу, дом, дерево, а не световые и цветовые впечатления, впадает, по мнению импрессионистов, в подобное заблуждение. Он мыслит вместо того, чтобы видеть. В таком мышлении импрессионизм видит величайшее прегрешение художника…» (стр. 25).
А теперь о критике импрессионизма кубистами.
«… Уже кубисты, полемизируя с импрессионистами, указывали последним, что они рабы самых дурных зрительных условностей, что они и не подозревают о том, что видимый мир становится реальным миром только благодаря работе мысли и что предметы, поражающие нас с наибольшей силой, не всегда наиболее пластически богатые. Только чтобы оправдать преобладание сетчатой оболочки над разумом (vide! — С. Э.), импрессионисты прославляют несовместимость интеллектуальных способностей с художественным чувством. Кубисты утверждают, что для распознания формы необходимо, кроме зрительной функции и способности двигаться, привлечь к делу некоторое развитие ума, так как распознать форму — значит проверить ее при свете существовавшей раньше идеи…» (стр. 25). А теперь по существу положений обоих отрывков. Мыслить — это прежде всего, конечно, обобщать. И общеизвестная платформа импрессионизма, которую мы здесь напоминаем, есть пример на предел гегемонии изобразительности, окончательно «заглатывающей» обобщенный «образ» — если это перевести на ту терминологию, которую мы установили для данной работы.
Каков же «выход» для импрессиониста, пожелавшего, однако, дать полный образ явления, а не изображение единичного впечатления от него? По-видимому, только один: сделать серию впечатлений от предмета. И у праотцев французского импрессионизма — у японцев — такая практика именно и заведена: чтобы назвать только самые популярные примеры, вспомним «100 видов Фудзи» Хокусаи и «[36] видов Фудзи»… его же. Суммарное впечатление-вывод в таком случае дает полный образ-представление о Фудзи. Если импрессионизм делал ошибку, ставя упор на единичности, то критиковавший его кубизм делал ошибку на другом, ставя упор на суммарности внутри одного холста. Знаменитая «Эйфелева башня» Делоне61 есть, по существу, «100 видов башни Эйфеля», втиснутых в одно ее изображение! Как видим, в условиях обнажения проблемы (я подчеркиваю — «в условиях 402 обнажения проблемы», ибо в синтетической цельности типическая обобщенность, подвижность фигуры или образность изображения имеют сотни примеров и классических образцов внутри искусств, предшествовавших XIX веку и не думавших обнажать эти проблемы, выделяя и выдирая отдельные проблемы из цельной выразительной и, прежде всего, идейно устремленной полноты картины) до конца разрешить ее не могло ни одно направление живописи. Выход и разрешение для обоих был бы в динамическом объединении в пролетающую перед зрителем цепь этих ста видов Эйфелевой башни или Фудзиямы. Но это есть как раз та возможность, которая лежит за пределами живописи. То не хватающее звено для выхода ее в стадию благополучия по этому разделу. (По другой статье — по фазной передаче динамики движения — другое «обнажающее» направление — футуризм — в равной мере добивается определенных достижений, [направление], совершенно так же летящее насмарку от непосильности воплотить внутри рамок искусства живописи эту задачу. Неоклассицизм как раз и является реакцией на это, последовательно отказываясь от реализации задач, стоящих за пределами живописи. Отсюда тяготение неоклассиков к «… монументальной, устойчивой композиции форм…», дающее им право… повторить стих Бодлера: «Я ненавижу движение, которое смещает линии».) Но это как раз и есть та возможность, с которой начинается следующий после качественного скачка этап живописи, ставшей кинематографом в его единстве кадра и монтажа>.
Любопытно отметить здесь, что в этом смысле принцип кино есть не более как переложенное на пленку, метр, кадр и темп проекции отражение неизбежного и глубокопервичного психологического процесса, свойственного каждому сознанию с первых же шагов его освоения действительности. Я имею в виду так называемую эйдетику62.
Действ[ительность] сущ[ествует] для нас как ряд ракурсов и образов. Без эйдетики мы никогда не могли бы свести в единый образ все эти «моментальные фотографии» частных видимостей явлений. […]
Отсюда и разница практических выводов из того, что отличает путь и метод Скрябина внутри музыки от того, что определит метод и путь в кинематографии. Это не только отличие индивидуального стиля в первом случае и предпосылок к эстетике киноформы — во втором. Это еще и то, что второй случай призван орудовать человеческим объемом, охватом человеческого масштаба, пределами человеческого сознания и чувства, не выходя, как в случае Скрябина, за пределы человека — не в человечество, а в космос, в сверхчувственность и сверхсознание, где оно неизбежно граничит с мистикой и солипсизмом63. Таким образом, почти незаметная разница в определении исходной точки, развиваясь, ведет к полярной противоположности программы и систем.
Всмотримся подробнее в выставленную нами «ячейку» кинопроизведения так, как мы ее сейчас понимаем. Чем она характерна? В ней совершенно очевидно присутствуют две функции. Одна из них приходится на изображение, другая — на отношение к этим изображениям, вернее, [к] ряду изображений в [монтажном] ряд[у]. Первая лежит целиком на пленке, вторая — в зрительском восприятии. Первая дает серию неподвижных фотографий, вторая — устанавливает образ движения, сквозной для этой серии. Что дело [обстоит] именно так, подтверждает хотя бы простейшее требование условий восприятия, без которых ощущения нормального движения не получается. Собака, кошка, рысь или лань могут перед нами двигаться в любых темпах и ритмах — для нас их деятельность всегда будет читаться реальным движением. Но стоит 403 киноаппарату отойти от двадцатичетырехклеточного темпа, как восприятие реального образа движения разрушится: оно может распасться на фазы, магией времени не сводимые в единство процесса, — мультипликаторные толчки или может при съедании ощутимости интервалов между клеток перестать прочитываться движением через другую крайность (представьте себе суперрапидную камеру фантастической скорости, снимающею медленный подъем рука на десять сантиметров!).
При этом деформируется не само явление, а оформление этого явления темпом аппарата, вследствие чего оно прочитывается как другой образ явления в нашем сознании. На области пластического изображения еще как будто можно спорить с этим: замедленное движение способно прочитываться как «нормальное» (то есть нормальный образ движения), «поставленное в ненормальные условия» — сам термин «замедленность» предполагает наличие в нашем сознании темповой нормы, от которой оно [движение] отступило. Вот почему, например, смешны убыстренные движения на экране, скажем, в хронике. Но по этой же самой причине они же и не смешны, когда они имеют место, например, в каком-либо эпизоде повышенной активности массовой сцены. То есть там, где их образное искажение против простых условий реальности как раз образно более соответствует теме, чем простая изобразительная реальность. (Каждый из нас знает, насколько убедительнее куски кавалерийской атаки, заснятые медленнее, а следовательно, мчащиеся по экрану быстрее.)
Интересно, что тот же фактор темпа в звуке оказывается гораздо более решительным по видоизменению именно образа. Всем известно, что замедление или ускорение проекции звука вызывает явление, не аналогичное в случае ускорения или замедления изображения. Произносимые слова становятся не более быстро или более медленно произносимыми. Произносимые слова становятся выше или ниже по тону. Этим видоизменен образ явления в значительно более решительной степени, чем в случае изображения.
Тенор, скользнувший в бас, для нашего восприятия значительно большее образное искажение, чем замедленное движение прыжка. Замедленное движение прыжка прочитывается как прыжок в других условиях показа… Бас же вместо тенора прочтется как другой голос! Не следует вместе с тем думать, что это образное искажение только субъективное, то есть только в восприятии нашего сознания. Темп и объективно перестраивает образ произведения, хотя элементы изображения остаются неизменными (в случае измененной проекции).
Но очевидно, что стоит отступить условиям времени от единственно возможной нормы, в которой психологический феномен кинодвижения может иметь место для условий нашего сознания, как феномен этого движения распадается.
Так что два кадрика, стоящие рядом, работают на две функции: на собственно изображение и на обобщение этих изображений в образ движения. Это имеет место на первой ступени кино, которую мы здесь описываем. Здесь оно и не регистрируется сознанием. Оно «проглатывается», и нет такого усилия, которым в условиях нормальной проекции можно было бы заставить себя разъято прочесть этот процесс. Первое условие двух функций сохраняется и на втором шаге внутри киномонтажа. То есть в том случае, когда мы имеем дело не с двумя кадриками, образующими кадр, а с двумя (и более) кадрами, конструирующими монтажное движение.
Скачущие копыта, мчащаяся голова лошади, убегающая лошадиная спина. Это три изображения. И только в сочетании их в сознании возникает образное 404 ощущение лошадиного скача. Интересно, что и здесь для «рядового зрителя», как говорят, эти куски тоже слиты воедино. Оказывается, что «видеть» сцену сменой монтажных кусков для непрофессионала почти невозможно и требует особого и определенного тренинга. Я сам помню, каких трудов в начале моей кинокарьеры мне самому стоило научиться на экране увидеть, скажем, сцену, где Фербенкс тушит папиросу, не как единое действие, а — профессионально, то есть «во все три монтажных куска»: 1) средне — вынул папиросу изо рта, 2) крупно — рука тушит папиросу о пепельницу и 3) по колени — бросив папиросу, Дуглас отходит от стола! Однако здесь уже при сравнительно небольшом усилии возможно дифференцировать обе эти функции: можно прочесть три последовательных изображения… последовательно, и можно воспринять всю полноту образа происходящего. Интересно, что здесь принципиально никакого отличия от того, что мы говорили о «манере» Домье, — нет. Каждый крупный план по закономерности pars pro toto дает представление о полном действии предмета. И, по существу, три упомянутых фрагмента коня (копыта, морда, спина) на повышенном качественном разряде как бы повторяют то, что было бы с тремя последовательными кадриками, закрепившими три последовательных фазы бега лошади общим планом. Но такое же качественное повышение происходит и в интенсивности восприятия: больший подъем интенсивности психической работы от того, что здесь не трояко разные позы лошади сходятся в одно движение лошади, а с трех разных деталей вызванные три различных образа лошадиного скока сливаются в единый образ скачущей лошади. Фактор времени и здесь решающий. Не только темп куска внутри, но и длительность самого куска играют решающую роль. Но и время здесь не «роковое», а время, находящееся относительно в наших руках. Есть пределы, внутри которых осуществляется феномен слияния монтажных кусков в образ движения. И здесь это тоже точно кадрики под микроскопом!
На третьей фазе мы имеем еще более резкое положение. Если мы за пример возьмем «Ужасную железнодорожную катастрофу» Джона Феникса (см. выше), переложенную в кинокадры — фальшивые зубы крупно, перевернутый вагон, вставший «на попа» паровоз, — то мы увидим, что здесь, пожалуй, обратная крайность: здесь уже требуется некоторое усилие сознания, чтобы свести эти элементы воедино и не только в ощущениях постигнуть образ, как было со скачущей лошадью, но воспринять из этих трех фрагментов целый образ катастрофы! «Темп» здесь почти не играет роли. Распадение же в два процесса почти что очевиднее, чем слияние в одном! Совершенно очевидно, что так же дело будет идти и дальше. Отдельные монтажные сцены эпизодов боя — каждая — образ схватки, но как изображение части боя в целом [они] будут, складываясь, давать обобщенное представление, обобщенный образ боя. Через элементы изобразимого будет вставать перед зрителем большее и неизобразимое ощущение — обобщенный образ, представление, обобщение. Выходя по своему содержанию за пределы изображения события в условия обобщенного ощущения и представления события, оно и в средствах донесения до зрителя, в средствах формы произведения тоже выходит за пределы своего основного измерения.
Мы говорили об этом применительно к пластической композиции. Там это сводилось к чему? Там это вело к выходу за пределы изображения и еще к надстроечному тенденциозному композиционному пространственному «соразмещению предметов изображения» (или цвета, или объемов и т. д.) в любой степени обобщенности метафоры (см. историю с вывеской — кренделем) и к 405 пронизывающей их графически обобщенной схеме содержания в композиционном контуре. Здесь это, не ограничиваясь внутрикадровым «изображением», ведет еще и к продуманному композиционному «соразмещению» этих кадров, то есть монтажных кусков, по времени.
Противопоставление пространственности первого случая и временности второго совершенно ни к чему. Ибо пространственное размещение в картине, не рассчитанное на определенную последовательность восприятия, к композиции отношения не имеет. С другой стороны, монтажная последовательность, не конструирующая в то же время ощущения пространственности и среды, столь же далека от того, что можно назвать композицией в кино. (Это верно и для тех случаев, когда монтажная композиция не территориально едина по своим кускам.)
<Беспрецедентно ли кино по этому признаку?
Конечно, нет. И не столько для подтверждения этого положения, сколько для добавочного разъяснения этих соображений обратимся к тому же самому явлению, но в той форме, в какой оно имеет место в рисунке, пример мы поищем, конечно, прежде всего среди таких образцов изобразительного искусства, где остро выражена тематика и идейная агрессия. Здесь оно будет наиболее полно и остро представлено! Здесь в условиях целенаправленной сознательности наиболее четко проступят и черты метода. Игру и форму мышц легче и лучше видеть в напряженном и целенаправленном действии тела, чем в состоянии покоя. Игру метода лучше искать в образцах творчески оформленной агрессии и боевого выпада. Такой образец мы можем найти в номере первом журнала «Жупел» за 1905 год. В одном из прекрасных образцов воинствующей сатиры тех годов — в знаменитой «Октябрьской идиллии» Добужинского64, разоблачающего все предательство и лживость «манифеста 17 октября».
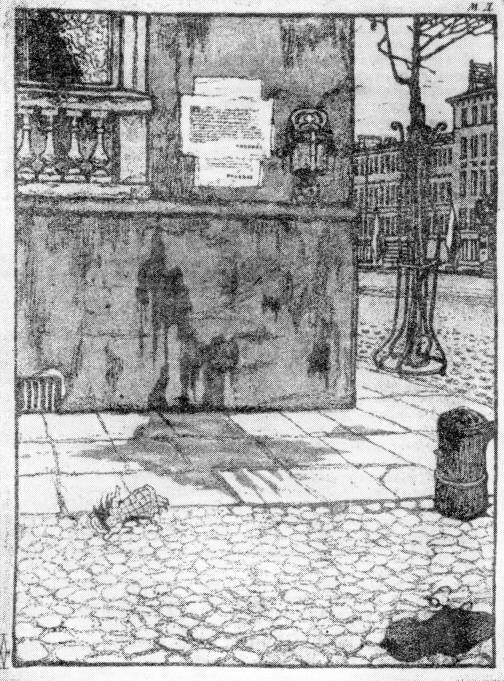
Постараемся восстановить процесс восприятия рисунка и то, как слагается образ драматизма того, чему сама картинка служит эпилогом. Тысячи людей по-разному приходили и приходят к переживанию эмоционального эффекта от этого рисунка. Я не претендую на всеобщность или закономерность именно такого пути, какой я излагаю ниже, но, излагая его, я примерно придерживаюсь того пути, по которому, мне кажется, слагается образ самого явления из деталей его следа для меня.
1. Глаз прежде всего прикован лужей крови в центре рисунка.
2. Обегая ее контур, глаз наталкивается на куклу. Кукла и мостовая. Почему? Глаз шарит по мостовой, ища объяснения. Его резко привлекает калоша в правом нижнем углу. Рядом очки.
3. Глаз в тех же поисках ключа стремится охватить ансамбль. Калоша и лужа гонят его по той линии, которая их соединяет. Это диагональ справа снизу — влево вверх. Глаз двигается по диагонали. Перед ним окно. В окне дырка от пробившей его пули.
4. Интерес обостряется. Глаз скользит мимо белых листов, наклеенных на стене, и кружки, как будто пока ничего общего не имеющих «со следами преступления», а детали к этому моменту уже читаются таковыми. И по признаку окровавленности останавливается на тумбе. Тумба — дерево чисто пластическим приемом ведет глаз вглубь — за угол дома. Упирается в глубину улицы. Упирается по ней в трехцветные знамена. Улица пуста.
5. Глаз видит пустую улицу и царские флаги. Для 1905 года — это как бы «негатив» улицы. И сознание немедленно дорисовывает в сознании недостающий «позитив»: переполненную улицу и… красные флаги.
406 6. С этого момента лужа крови — это уже образ разгона демонстрации. Кукла и калоша с очками — это уже образ крайних полюсов состава безжалостно разгоняемых: это уже «старики и дети», между которыми рисуются взрослые, подростки, женщины. Пуля в окне — это образ неповинности и мирного характера демонстрации, поверившей манифесту о «свободах». Это перекличка с расстрелом мирной демонстрации 9 Января. Лужа крови — уже образ расстрела.
7. И внезапно белые листы над лужей прочитываются прежде всего своим контуром: это крест. Типичный контур надгробного креста — памятника. (Наводит на прочитывание контура таким образом маленький аналогичный белый крест над кружкой. В этом, я думаю, основной ее композиционный смысл помимо очевидных тематических ассоциаций церковной кружки в подобном контексте).
8. Вчитываешься в «надгробие»: на нем слова пресловутого манифеста. Слова — это видимость манифеста — дарование свобод. Форма крестом наклеенных объявлений — его сущность — кладбище свобод, крест над «безумными мечтаниями».
9. Улица заселяется движущейся массой. Сценой разгона. Сценой расправы. Сценой стариков и детей. Сценой мирного населения, пулями отогнанного от окон. Разгаром «уличных беспорядков», как писали бы об этом буржуазные газеты. Сценой, наплывом переходящей в общий план идиллии такой, какой мы ее видим. И сценой, завершающейся надвигающимся на аппарат надмогильным крестом тех свобод, добытых ценой крови, как надвигается в сознание и память весь ужас разгула реакции, последовавшей за пресловутым провокационным манифестом.
Так шаг за шагом, деталь за деталью рождают образ за образом. Образы населяют рамку картины. Образы вступают в действие. Образы вступают во взаимодействие. Рождают новый, общий, обобщающий образ. И мы пережили в картинке не то, что она изображает, а борьбу тех образов, которые умелым подбором деталей автор сумел вызвать в нашем воображении, сознании и чувствах.
Как видим, путь и метод ничем не отличный от того, как слагаются образы в сознании и чувствах кинозрителя.
Воображаемый (и, думаю, не столь уже далекий от истины) путь глаза — это монтажный ход.
Детали — крупные планы.
Задержки на них — метраж.
Возникающие образы и их взаимодействие — то же самое, что происходит при восприятии кинематографическом в том виде, как это разобрано нами выше.
О характерности этого метода для Добужинского вообще можно прочесть в сборнике «Мастера современной гравюры и графики» (ГИЗ, 1928, стр. 34):
«… Уже неоднократно говорилось о том, что Добужинский прежде всего — изобразитель города…
… Особенно в работах последних лет проявляется стремление к передаче архитектурных форм, их ансамблей самих по себе. Но в конечном счете нашему художнику все же важнее всего показать саму жизнь, что течет и в этих каменных или деревянных обиталищах человека и вокруг них. Перед нами не обычные архитектурные пейзажи, а скорее изображения “души города”, его внутреннего бытия. Так всегда. Восстанавливает ли Добужинский, 408 следуя общему увлечению прошлым, захудалый русский городишко тридцатых годов XIX века или грезит о гигантских постройках будущего, где на фоне бесконечных стен сплетаются щупальцы чудовищных машин… Всюду здания, машины, люди, животные, мельчайшие подробности быта воспринимаются как органическое целое, как единство не их внешних форм, а тех ассоциаций, которые возникают по поводу их. Художественное переживание зрителя определяется преимущественно теми образами, воспоминаниями, настроениями, которые связываются с предметами, изображенными на картине или рисунке. Таким образом, огромное значение приобретают “характерные детали”, столь выразительные не нагромождением их, а удачным сопоставлением… Конечно, не всегда в своей основной теме “Город” Добужинский повествует. Но всегда он скорее иллюстратор поэтических образов (разрядка не моя. — С. Э.), живущих в его сознании, чем воплотитель того, что дает ему его зрительный опыт…»
Последнее утверждение не совсем верно. Это отвечало бы скорее тому, что, по словам Шкловского, когда-то собиралась сделать Ходасевич65: иллюстрировать отступления Пушкина, а не события в пушкинских произведениях.
О Добужинском следовало бы сказать точнее. Зрительный его опыт, далекий от непосредственности и пронизанный литературными и историческими реминисценциями, рождает в нем образы. И Добужинский с предельным умением знает, в какие именно реальные детали, протокольно точные и документальные в себе, разложить подобный образ с тем, чтобы две-три из них умели бы вызвать в зрителе столь же конкретный образ (индивидуально оттененный), каким был тот образ, который витал перед художником. Образцы того же порядка из литературы мы дадим ниже. Сейчас же в порядке перехода к ним еще раз вспомним, еще раз сформулируем и отточим эти основные положения.
1. Монтажный кусок (особенно крупный план) представляет собой часть (pars).
2. По закону pars pro toto эта часть вызывает в сознании достройку некоего целого.
3. Это верно для каждой частности, для каждого отдельного куска.
4. Таким образом, монтажное сочетание ряда монтажных кусков в сознании прочитывается не как некая последовательность деталей, а как некая последовательность целых сцен. Сцен, при этом не изображенных, а образно возникающих в сознании. Ибо pars pro toto есть тоже средство заставить возникнуть в сознании образ явления, а не изображать явление.
5. Этим самым монтажные куски между собой точно воспроизводят тот же процесс, который имеет место внутри каждого куска между отдельными кадриками. Движение (на данной стадии — перемещение) и там слагается из сопоставления изображений. От столкновения двух изображений, двух последовательных фаз движения возникает образ движения. (Движение, которое фактически не изображено, а дано двумя неподвижностями.) На переходе от сочетания кадриков к сочетанию кадров метод и феномен остаются теми же, подымаясь при этом, однако, на следующую качественную ступень. Pars (часть) в монтажном куске вызывает образ toto (некоего целого). Т[аким] о[бразом], в сознании это уже образ целой картины. И далее — ряда целых картин — воображаемых изображений. И каждое такое, воображаемое изображение с соседним вступает в такие же отношения 409 как физическое изображение кадрика с физическим изображением соседнего: они также рождают образ.
Но разница здесь при этом же огромна. Дело в том, что кадрик — фактически изображен. Он продукт чужой воли, он — предписан зрителю режиссером-оператором.
В монтажном же куске — в нашем pars — изображение целого воображаемое, то есть на основе заданного pars — индивидуально в каждом зрителе по-своему увиденное, по-своему создаваемое, по-своему созданное [toto]. Совершенно ясно, что степень интенсивности переживания такого образа гораздо сильнее, чем изображение, которое выполнено и создано кем-то другим. В данном случае будет вовлечен весь творчески воображающий аппарат зрителя.
Мы ниже подробно остановимся на разборе того, каким образом правильно вызывать эмоцию и переживание в актере. Мы покажем это на разборе системы Станиславского. Там же мы покажем, что в основе того, что в ней делается, лежит этот же принцип монтажа. Сейчас же мы обнаружили, [что] принцип монтажа есть важнейший фактор и условие для творческого восприятия явления, то есть правильное средство вызывать эмоцию и переживание в зрителе. Монтажность метода есть то, что ставит знак равенства между техникой эмоционального феномена внутри актера в его наиболее совершенной школе и техникой эмоционального феномена внутри зрителя>.
Объединяющим «контуром», который дает обобщенную — я бы сказал, обобщеннейшую — схему, предел переносного чтения содержания и темы, в нашем случае будет «мизансцена» смены точек зрения на явления. На примере портрета Ермоловой мы уже имели соединительный мостик по этой линии между пластической композицией и композицией монтажной. Мы видели, что всякая мизансцена может быть двоякой: изобразительной и метафорической. Сейчас мы орудовали только вопросом предметов и их показа: ни о порядке, ни о длительности, ни о последовательности мы еще не говорили. Мы были только «сюжетны», только предметны. О монтажной форме мы еще не говорили. И поэтому мы вправе сказать, что до сих пор мы орудуем с изобразительным кадром и с не менее изобразительным монтажом, хотя изобразительн[ый] монтаж уже правильнее называть повествовательным, рассказывающим: рассказ есть тоже изображение события, только изложенного в последовательности.
Мы видели, что даже изобразительный (рассказывающий) монтаж уже является условием обобщения в отношении кадра, будучи элементом другого измерения.
Но ведь и сама природа монтажа должна допускать в себе подобную же возможность еще больших обобщений. И, собственно, только с этого момента можно говорить о проблеме монтажной формы. То есть об образном строе монтажа.
Возьмем пример весьма наглядный и достаточно памятный. Возьмем расстрел на Одесской лестнице из «Броненосца “Потемкин”». Эта сцена врезалась в свое время в сознание и эмоции зрителя — можно сказать, почти всего немного шара — не потому, что длительно, обстоятельно или «непревзойденно» по кровожадности показан расстрел солдатами революционно настроенного населения. Не деталям мизансцен расстрела или мизансцене пробега киноаппарата по гуще расстрела обязана эта сцена своим запоминающимся эффектом. Если мы просмотрим горы того, что на всех языках написано о 410 фильме, и об этой сцене в частности, то мы увидим, что сила этой сцены была и оказалась в том обобщающем ощущении угнетающего режима, которое подымается во весь рост из одного частного случая расстрела одной шеренгой стреляющих солдат пятисот человек, сбегающих и скатывающихся с одной высокой лестницы в одном приморском городе. Это ощущение, возникая из изображения, выходит за пределы его. И в средствах своей реализации оно также выходит за пределы изобразительности. За пределы отдельных сцен — кадров, но и за пределы рассказывающей функции монтажа, услужливо показывающей зрителю то один уголок драмы, то другой, то вдруг обрушивая на него общим планом весь масштаб кровавой расправы на лестнице. Ощущение обобщения, образ угнетающего тупого мертвящего режима вырастает из средств воздействия не менее обобщенной природы, берущей на свои плечи само «наводящее» изображение события. Обобщение — выходящее за пределы изображения — не может не прибегнуть и к средствам, из ряда вон выходящим. Ведь даже такой реалистический театр, как МХАТ им. Горького, не мог не ощутить этой необходимости выйти за пределы изображения, когда во всей полноте обобщающего смысла захотел воплотить в «Ревизоре» сентенцию Гоголя в устах городничего: «Над кем смеетесь? — Над собой смеетесь!» Раздвинув смысл ее обращения за пределы, группы персонажей окружения городничего, театр не мог оставить ее произнесение внутри пределов той среды, где он развертывал действие пьесы. В реалистическом Художественном театре артист Москвин66, чтобы произнести эту фразу, выходит за пределы действия: он бросает эти слова в зрительный зал, став ногой на суфлерскую будку!!!
Чем же достигнут эффект выноса обобщения за пределы изображения в нашем примере? Вернее, что из комплекса средств воздействия на нашем примере несет функцию этого последнего и предельного обобщения?101*
Не рассказ монтажом, а ритм монтажа. Ибо, конечно, ритм сцены есть последнее и предельное обобщение, которое способна претерпеть тема, сохраняя кровную связь с событием и вместе с тем предельно из него выделяясь, не разрывая его ткани, но подымая его до доступных пределов конкретного обобщения (без выплеска в «космические абстракции»).
Ритм как предельно обобщенное изображение процесса внутри тени, как график смены фаз противоречий внутри ее единства.
Этого мы уже вскользь коснулись в предыдущем разделе, когда внутри самого контура установили разделение его на две функции — на обобщенность изображения и ритм, которым прочерчивалось отношение к обобщаемому. Если «мизансцена», нанизывавшая на себя монтажные куски, была как бы в новом качестве возникающая линия абриса, то и ритм одной, как и ритм другой, в равной и одинаковой мере служат пределом образного обобщения воплощенной в изображении идеи. Ведь и сама эта линия — «контур» в одном случае, «путь хода монтажных кусков» в другом — есть последняя стадия обобщения по соразмещению кусков.
В соразмещении кусков линию прочерчивает предуказанный путь зрительского восприятия. В линии — этот путь просто прочерчен. И в том и в другом случае налицо все три стадии, которые возможны. И линия может быть чисто изобразительной — характерный профиль предмета! И линяя может быть полуизобразительна — метафорична. Как метафорична вывеска 411 кренделя, «поверженная в прах» композиционной метафорой. И линия может быть «чистым» выражением динамики темы — через ритм своих изломов.
От метафоры, то есть изобразительности соразмещения, двигаясь к ритму соразмещения, то есть обобщению. Ведь ритм соразмещения элементов есть основное, через что гораздо полнее скажет себя обобщение и в линии и в предметной композиции, чем держа[ние] за смешанное переходное звено метафоры, того гляди норовящее поскользнуться в аллегорию или распластаться в символ!
<Я взял пример «Одесской лестницы». Пример давний. Я мог бы взять другой пример, более свежий. Пример, непременно ассоциирующийся с «Одесской лестницей». И не напрасно. Здесь не только преемственность. Здесь и как бы ответ. Как когда-то романсы «У камина» и «Позабудь про камин»67. Бездушная машина царской власти и тут и там. Ведет она себя одинаково и тут и там. Только в первом случае стреляет она. А во втором — стреляют по ней. В первом случае уничтожает она. Во втором — уничтожают ее. Я имею в виду «Психическую атаку» из «Чапаева» бр[атьев] Васильевых. Но этот пример не подходит по признаку. «Чапаев» — произведение звуковое. И мы знаем «Психическую атаку» в звуке. Казалось бы, что же проще? Обратиться к немому варианту! И тут-то открывается любопытнейшая вещь: в немом варианте обобщающей мощи образа наступления «Психической атаки» и разгрома ее не получается. И не получается потому, что ритмом монтажа эта сцена не поднята до выражения обобщения, как это сделано хотя бы в «Одесской лестнице». Мы были бы комичным школьным учителем, классным наставником и педантом, если бы мы стали осуждать или развенчивать на этом основании достижения бр[атьев] Васильевых. Мы были бы смешным Бекмессером из «Нюрнбергских мастеров пения»68, педантично гоняющимся за отдельными ошибками письма, упуская захват целого. Однако в чем же дело? Ведь, с другой стороны, надо быть слепцом, чтобы не увидеть, что пластически «Психическая атака» и в звуковом варианте смонтирована более чем скромно. Настолько, что в беззвучном варианте не только обобщения, но даже темпа и напряжения почти не получается. Неподведенность к выкрику: «Да стреляйте же!» композиционно есть и в том варианте.
Ответ, конечно, готов: «Гаврик вывез!», имея в виду неумолимый ритм музыки Гавриила Попова69 к этой сцене. Избавив этот выкрик от его пошлости и оскорбительности для творчества режиссеров, мы, однако, вычитаем в нем действительную сущность того, что случилось в этом примере.
Действительно, ритмическая, то есть образно обобщающая роль, которая в «монтажном кино», в лучших его образцах, ложилась на монтаж, здесь с монтажа снята, вынесена в звук, передана композитору и его стихии звуков. Здесь «вина» режиссеров, не смонтировавших должным образом пластическое изображение, искупилась тем, что они попали в природу тонфильма, допускающую и во многом требующую выноса обобщения не только за пределы кадра в монтаж, но и за пределы монтажа — в звук. Об этом, однако, ниже. (Это не снимает вместе с тем с авторов вины в том, что ими не реализован по такому блестящему поводу тот звукозрительный контрапункт, о котором мы мечтаем с двадцать восьмого года и реализация коего погибла в катастрофе «Бежина луга».)>
Итак, мы видим, что совершенно идентично тому, как из сочетания неподвижных меток рождался образ движения, так из сочетания фрагментарных изображений в ритме их монтажного сочетания рождается тот оттенок обобщения, которое делает автор, тот образ, который его творческая воля придает 412 явлению, воля того социального коллектива, выразителем которого он является102*.
Об этом основном смысле «монтажного акта» как акта тенденциозного и социально волевого прежде всего, как акта пересоздания отражения действительности в интересах переделки и пересоздания ее самой я писал еще в статье «За кадром» (1928 – 1929 г.).
(Некоторые наивные чудаки решили по этой статье, что я будто бы «игнорирую» внутрикадровое содержание, хотя как раз в этой же статье делаются первые попытки обоснования единой закономерности, идущей через все элементы кино, то есть то, что в подробно развернутом виде делает настоящая работа.)
И здесь, в искусстве, как всегда и во всем, это есть не более чем обычное и свойственное всякому поведению явление, лишь поднятое по линии большей интенсивности и поставленное в условия творческой целеустремленности. Полная объективность в передаче явления, особенно как-либо аффективно нас задевшего, в человеческой природе не имеет места. Каждое восприятие по-своему переставляет акценты и ударения на элементах явления (выделяя свои «крупные планы», в отличие от соседа), доходя в этом до того, что выкидывает целые элементы явления, целые звенья процесса. Достаточно сопоставить показания нескольких свидетелей одного и того же события, чтобы убедиться в том, что выбор кадров из события и монтажная сборка их в целую картину события у каждого окажется не только своей, отличной от других, но часто и противоречащей им! Ходкое выражение «врет, как очевидец» родится именно отсюда. На этом строится один занятный рассказ из посмертного сборника новелл Ж. К. Честертона «Парадоксы м-ра Понда» (G. K. Chesterton, «The paradoxes of mr. Pond», London, 1937).
Человека уличают тем, что трем женщинам он в тот же вечер дал совершенно разные сведения о том, где он собирается провести время. М-р Понд способствует в установлении его невинности, доказав, что его алиби имеет силу, так как он всем трем женщинам сказал абсолютно одно и то же. Но из его фразы каждая женщина выслушала свою, мы бы сказали, «монтажную концепцию». И эти три разные концепции определились тем, какой и которой частью его фразы аффективно была задета та, другая или третья женщина. («The Crime of captain Gahagan»).
Как неправилен перегиб отсюда в сторону переоценки в искусстве индивидуального отношения и сведение всего только к нему в тех случаях, когда это уже не только феномен психологического поведения, а предпосылка к формотворчеству! […]
Но здесь же мы кладем палец на основной нерв, — почему возникла и развилась система монтажного мышления в соприкосновении с кино.
Об этом я писал в самом начале своей киноработы (1924), стараясь осмыслить этот феномен для себя. Его я прощупывал еще на театре (об этом см. статью мою «Средняя из трех» в юбилейном номере «Советского кино», 1935 г.). О нем я очень подробно говорил на докладе в Иельском университете в США (летом 1930 г.)70.
В чем эта тайна? Где этот нерв?
Дело именно в том, что в кино мы имеем дело не [с] событием, а с образом события.
413 Событие, снятое с одной точки, всегда будет изображением события, а не ощущением события, способного во всей полноте вызвать сопереживание с ним.
На театре, например, пусть условно, пусть относительно, «фактически» перед зрителем развертывается все же хотя бы физически реальное событие. Это все же люди, а не тени. Голоса, пусть актерские, в претензии быть голосами представляемых действующих лиц. Действия — действия.
Не так в кино: там все не физическая реальность, а серая тень ее отображения.
И [для того чтобы] возместить отсутствие главного — живого и непосредственного общения человека в зрительном зале с человеком на сцене, приходится искать иных путей, иных средств, чем те, [которые] в театре.
И тут оказывается, что «по-театральному» взятое событие на экране беспомощно. Если взять киноаппарат, разыграть перед ним идеально сцену и затем эту сцену показать на экране, то ничего не получится. Это, конечно, относительно и сравнительно по интенсивности с тем, чем это же явилось в условиях игры живых людей, а не их экранных отображений. Пусть это была сцена убийства. Снятая «общим планом», она давала двадцать пять процентов того эффекта, который она же давала на сцене. В чем же дело?
Попробуем ее представить иначе. Разобьем ее на крупные и средние планы. На всю эту общепринятую серию «рук, схватывающих горло», «глаз, вылезающих из орбит», «пальцев, вытягивающих нож из-за пояса», «гнева в одних глазах», «испуга в других» и т. д. и т. д. «Ловко» смонтированные, умело насаженные на нужный темп, изобразительно сопоставленные, они в целом могут дать совершенно те же сто процентов эффекта того, что давало слитное действие их на сцене и чего никак не давало изображение этой схватки, снятое с одной точки «общим планом».
В чем же тут разница? Еще в [19]24 году я писал, что кино было бы бесцельно бегать за воспроизведением театра. Что свое ограничение в этом направлении оно должно преодолевать своими путями.
Драка, снятая с одной точки «общим планом», всегда останется изображением драки и не станет ощущением драки, то есть тем, с чем можно непосредственно сопереживать, как мы сопереживаем драку с двумя реально перед нами (хотя бы и нарочно) дерущимися живыми людьми. Чем же отличается драка, которая состоит из нескольких кусков, тоже изображающих драку если не в целом, то по частям?!
А в том, что эти отдельные куски работают не как изображения, а как раздражители, провоцирующие ассоциации. Этому сугубо способствует условие их частичности, вызывающей достройку воображением и через это чрезвычайную активизацию работы чувств и ума зрителя.
И в результате на зрителя обрушивается не цепь обломков людей и событий, а рой реальных событий и людей, вызванных к жизни в нашем воображении и в наших чувствах умело подобранными наводящими деталями.
В отношении же хода самого события вы вовлечены в последовательность хода, в развертывание его, в процесс его становления — в отличие от результативного восприятия сцены, которая дается общим планом изображения, вместо того чтобы развертывать перед нами процесс стано[вления].
В простейшем своем виде это может быть наглядно показано, например, хотя бы на двух типах «ввода» в самое действие и на различии между ними. Допустим, что мы имеем сцену, предшествующую нашей драке. Вводную сцену, где драка — еще только спор. Ввести эту сцену спора можно двояко. Или 414 общим планом. Или монтажным путем. В первом случае вы даете общий план: двое спорят, вырывая пакет из рук в руки. В этом случае все дано — вы сразу же в условиях восприятия полной картины спора как такового. Вы видите изображение спора. Иное дело, если спор вводится в ваше восприятие монтажно: 1) пакет; 2) руки с пакетом; 3) вторые руки схватывают его; 4) один человек; 5) второй человек; 6) руки, рвущие пакет друг к другу; 7) два человека, рвущих пакет один у другого; 8) общий вид комнаты с двумя спорящими за пакет людьми — вся сцена.
Здесь вы втянуты в полный процесс становления всей сцены, и восьмой кусок подводит итоговую формулировку тому, что, возникая, переживалось вами через семь предыдущих. В них складывался весь образ сцены: и акт-спора, и облики спорящих (4, 5), еще неизвестных к моменту, когда на третьем куске вам уже понятно, что кто-то у кого-то хочет отнять пакет, и т. д. и т. д.
Вы не видите изображение спора, а в вас возникает образ спора, вы участвуете в процессе становления образа спора, и этим вы втянуты как третий соучастник развертывающегося спора! (Пример этот особенно нагляден потому, что здесь становление действия совпадает с началом возникновения действия. Но любой кусок внутри любого действия имеет совершенно столь же по-своему очерченную картину становления, будучи промежуточным, а не начальным звеном.)
Вы скажете: но ведь в театре-то общий план? Ведь в театре такая же непосредственная данность всей сцены сразу, как в общем плане? В театре вы тоже охватываете, что дерутся, и перед вами не происходит того становления драки, которое вам удается достигнуть хитроумными путями кино?! Почему же там все-таки драка, не предстающая перед вами процессом становления, тем не менее действует? Тем более что реальность драки на театре ведь тоже относительная реальность, никак не сравнимая с настоящей дракой в действительной жизни?
На это я отвечу: есть драка и есть драка. Есть драка заученная и репетируемая, где движение за движением и действие за действием выбранной прописи разматываются так, как она заучена. И эта драка так же мертвенна, бездейственна, неправдива и незахватывающа в чувствах, как изображение драки «общим планом» на экране. И есть драка, где каждая фаза ее «возникает» перед зрителем. Столько же строго прочерченная по линии того, что ей композиционно предначертано, она тем не менее шаг за шагом создается, рождается кок действие из той цепи эмоций, растущих из задач, которые последовательно себе ставят актеры, переходя из фазы в фазу предначертанной им действием игры. Такая драка, диалог, спор или объяснение в любви, несмотря на писаные декорации, клееные бороды и расписанные гримом лица, будет сопереживаться как реальный и истинный процесс. Будет так же отличаться своим воздействием, как драка, решенная в кадре и монтаже, от драки, изображенной одним общим планом с одной точки. В кинематографе монтажное письмо — не аналогия, а точно то же самое, что будет в сценической игре актера, если он будет играть не результат, а если его игра будет процессом, внутри которого шаг за шагом будут рождаться в своем становлении подлинные в этих условиях сценические чувства.
Сюда относится учение Станиславского, обращенное к актеру, о том, что надо воссоздавать в игре процесс, а не играть результаты. Его слова о том, что «ошибки большинства актеров состоят в том, что они думают не о действии, а лишь о результате его. Минуя самое действие, они тянется к результату 415 прямым путем. Получается наигрыш результатов, насилие, которое способно привести только к ремеслу»103*.
Это себе ставит как задачу Скрябин:
«… Ему нужен был не рассказ об акте, не представление акта, а самый акт…» (Л. Сабанеев, «Скрябин», ГИЗ, 1923, стр. 66).
Этого, как никто иной, достигает Скрябин. Даже больше того. Сквозь акт становления творения у него еще осязается становление акта самого творчества.
«… Скрябина привлекает динамика самого творческого приема и ее воплощение в искусстве. В этом отношении он напоминает Родена, который дерзнул попытаться передать в скульптуре не только движение форм, но и самое их образование. Римский-Корсаков в “Садко” дает нам образ художника, который исполняет готовое произведение или импровизирует, то же мы видим у Листа в “Орфее”, но никто, кроме Скрябина, не раскрывает перед слушателем самую лабораторию музыкального творчества. Мы посвящаемся, слушая его, в муки творчества, это можно сказать о “Божественной поэме” и “Экстазе”…» (И. Лапшин, «Заветные думы Скрябина», стр. 37 – 38).
И это же звучит в монтаже как в методе того искусства, внутри которого в синтезе суждено слиться Станиславскому со Скрябиным, как нигде и никогда соединив в единстве действующего человека с музыкой действенной формы, раскрывающей его в пластике и звуках.
Приведя пример с актером, мы указали путь и место монтажу и внутри мастерства актера. Не только во внешних его проявлениях, где он очевиден в контрапункте выразительных ракурсов, сценических переходов и произнесений слов, растущих из единого чувства и раскрывающих это чувство зрителю, заражая и вовлекая его.
По этой линии я всегда яростно восстаю против тех, кто утверждает, что «крупный план» рожден кинематографом и что, следовательно, различие размеров изображения и игра на смене этих размеров возникли только с приходом кино. Такой человек либо ничего не понимает в искусстве театральной композиции, либо никогда не видел мало-мальски грамотно скомпонованной сцены!
Как крупный план, так и смена планов, так и игра на смене размеров и планов — не произвольная игра, а средство композиционного воплощения образа замысла режиссера — целиком гнездится уже внутри театра. И всякий театральный режиссер, если он не сапожник, в известной степени этим владеет, этим пользуется. Правда, менее совершенно, чем кинорежиссер, хотя более утонченно, но вместе с тем и менее сознательно, так как он не вынужден «брать кадр», беря каждый раз в кадр лишь то, что для данной фазы хода сцены единственно нужно. Но это выделение единственно нужного в данный момент столь же обязательно и для его построения на сцене. Здесь он лишен, правда, возможности физически отсечь все остальное, что делает на кино рамка кадра. И здесь ему не предоставлена возможность соответственно укрупнять существенное. Но это значит только, что тем изощреннее он должен быть в орудовании специфическими средствами мизансцены, чтобы так же безошибочно вводить в поле внимания зрителя, погружая все остальное за пределы восприятия, то одного человека, то другого, то одну группу, то другую, то двух человек, глядящих друг на друга, — вместе, то последовательно 416 каждого порознь, то всех двести пятьдесят человек массовой сцены как единое целое, то только игру глаз и бровей протагониста, стоящего на фоне этих двухсот пятидесяти человек104*.
Кино в этом смысле является лишь технически более совершенным и вооруженным искусством. Воспитываться же монтажное построение лучше всего может в «Vorschule»105* театра. Изучать же образцы — даже далеко за пределами обоих. Например, хотя бы в литературе. Действительно, с какой громадной пользой начинающий кинорежиссер мог бы проследить под этим углом зрения смену планов, игру крупных планов деталей, фрагменты поведения героя, эпизодических персонажей, типажа и общих планов массовок, слагающихся в грандиозное полотно Бородинского боя в «Войне и мире» Толстого.
И дело здесь, конечно, не в специфике кино или специфике искусства вообще и не в спецификах вовсе, а в том, что монтажный выхват отдельных групп материала и сопоставление их в умышленных сочетаниях есть в основе всякого сознательного и волевого отношения к действительности.
Проверкой именно этого качества, без которого невозможна никакая творческая деятельность, понимая значительно шире, чем только художественная, проверкой этого качества служило введенное мною с 1932 года для экзаменов во ВГИКе следующее испытание.
Испытуемому предлагалась картинка, обычно весьма драматическая и сюжетная, а потому чаще из произведений «передвижников».
Предлагалось ее условно разрезать, то есть сделать по ней список частей ее и деталей и установить их последовательность в таком сочетании, чтобы они в целом прочитывались как определенная композиционная трактовка изображенного сюжета. Например, брался «Крестный ход» Репина и предлагалось скомпоновать его монтажной разрезкой и сборкой в [этюды]: «Палочный режим», или «Русь нищая и Русь богатая», или более беспредметно «Жара», как, например, по «Запорожцам» — «Нарастание смеха». Более сложные задания касались переложения темы, эмоции и ритма сцены в соответствующий драматически вторящий монтажный лист («Меншиков в ссылке», «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни»).
С таким же успехом это могли быть серии крупных полотен или гравюр Хогарта, Ватто или Грёза71, Делакруа и «драматические» композиции Энгра72. […]
Сейчас же речь идет не об этом.
Сейчас речь идет о том, чтобы принцип монтажа, этот, казалось бы, «узкокинематографический» элемент, проследить еще внутри одной деликатнейшей области главного действующего лица кинематографии — актера. Не только [так], как это показано на ансамблевой и сольной игре его внешних проявлений, где он очевиден, но и по той области, где он едва подозреваем, то есть внутри самой «святая святых» его творческого акта. В той тайне, [благодаря] котор[ой] актер достигает через средства произвольные, управляемые и нарочитые тех проявлений живой эмоции и подлинности чувств, которым «приказать нельзя», которые можно только вызвать, которые такие же самовозникающие, как гармония из сочетания мелодий, как «сверхпредметен» 417 ритмический образ обобщения, рождающийся из сочетания конкретных, материальных, предметных кадров в монтаже.
И примечательно, что метод этого [творческого акта] в области актерской работы совершенно так же монтажен, как и на кино.
Покажем это на материале той техники актерской работы, которую создал Станиславский и которая сейчас — наиболее полное и подробное учение по этому вопросу, к тому же еще и практикой апробированное по наибольшему приближению к реализму.
Какую себе задачу ставит всякая система актерского искусства? Задачу вызвать в чувствах полную правду сценического переживания того, что по ситуации предложено автором. Это то, что соответствует обобщенному ощущению, в отличие от изображения, как мы разбирали их на примере пластической композиции и монтажа. Действительно, школы подлинного театрального искусства прежде всего и злее всего клеймят изображение чувства там, где требуется ощущение и переживание чувства. Но совершенно так же, как мы показали на примере из пластической композиции, здесь тоже не годится та крайность, при которой переживание сценического чувства лишилось бы своих естественных проявлений, то есть обозримой картины этих переживаемых ощущений.
Каков же метод этого первого, основного и главного, чем должен быть пронизан, актер в творческом акте лицедействия? И оказывается, что метод этот совершенно идентичен тому, что делает монтаж на кинематографе, тоже задаваясь целью из элементов одного измерения вызвать к жизни и бытию явление иного, нового, высшего измерения, притом такого, которое непосредственным показом не изобразимо. На кино это было ощущением «режима» сквозь поведение расстреливающих [солдат] и топчущих казаков.
На театре — в работе актера — это рождение живого чувства, реального чувства сценической правды из условий искусственного и условного текста предписанных слов, расписных декораций, переодетых и размалеванных актеров. Метод оказывается тем же и поступает так же, как и мы поступаем на кино. Не «изображенными», но переживаемыми в полной и подлинной полноте являлись там не отдельные изобразительные куски-кадры, а то полное и подлинное ощущение и переживание, которое возникало из соединения и слияния тех эмоций, которые возбуждали умело подобранные наводящие фрагменты.
Совершенно так же протекает процесс «выманивания» искусственно не изобразимого, не воспроизводимого, а подлинно бытующего состояния, в которое «приходит» артист.
Ведь сама задача там совершенно идентична той, которой мы добиваемся здесь. Здесь из искусственного сочетания нескольких метров целлулоидной ленты, покрытой проявленным слоем бромистого серебра с мелькающим на нем изображением серых теней событий, — надо создать эмоциональное потрясение зрителя, заставить его жить и чувствовать тем, чем задался автор. Там, в окружении крашеных холстов, неровных досок подмостков, запаха [красок] и пыли, заставить исполнителя поверить в реальность своих воображаемых сценических чувств и полной правдой своих чувств воплотить авторский замысел. И этим потрясти зрителя. Зрителя, которого можно потрясти только этим.
И тут и там надо создать из нереальных объектов — реальное амоциональное переживание. Здесь зрителя, а там актера на тех же путях эмоциональной зарядки того же зрителя.
418 И тут и там в основе метод один и тот же.
Для кино мы показали его.
Остается привести данные о том, что совершенно точно таковы же в принципе, а потому и одинаковы методы техники достижения того же в на сей день признанной наилучшей системе достижения правды сценических чувств, в системе Станиславского. В самом основном лозунге системы уже звучит этот метод получения из сочетания искусственно, сознательно и произвольно созданных условий результатов, превосходящих их и качеством и измерением: «Стоит вспомнить основной принцип нашего направления: “подсознательное через сознательное”»106*.
Он «дает возможность выполнять одну из главных основ нашего направления искусства: через сознательную психотехнику создавать подсознательное творчество артиста»107*.
Так в отношении принципов системы.
Так и по всем областям творческого ее приложения. Начиная с высших.
Вдохновение.
«… “Система” не фабрикует вдохновения. Она лишь подготовляет ему благоприятную почву… Вам же посоветую на будущее время не гоняться за призраком вдохновения. Предоставьте этот вопрос волшебнице-природе, а сами займитесь тем, что доступно человеческому сознанию…
… основная задача психотехники: подвести актера к такому самочувствию, при котором в артисте зарождается подсознательный творческий процесс самой органической природы…
… Но никогда не думайте и не стремитесь прямым путем к вдохновению, ради самого вдохновения…
… Думайте же о том, что возбуждает наши двигатели психической жизни, думайте о внутреннем сценическом самочувствии, о сверхзадаче и сквозном действии, словом, обо всем, что доступно сознанию. С их помощью учитесь создавать благоприятную почву для подсознательной работы нашей артистической природы.
… Она [сознательная психотехника] умеет создавать приемы и благоприятные условия для творческой работы природы и ее подсознания…»108*, Это же верно и по технически подсобным дисциплинам системы.
Эмоциональная память.
«… Нельзя выжимать из себя чувства, нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви, страдания… Поэтому при выборе действия оставьте чувство в покое. Оно явится само собой от чего-то предыдущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. Вот об этом предыдущем думайте усердно и создавайте его вокруг себя. О результате же не заботьтесь»109*.
419 Предлагаемые обстоятельства.
«… “если бы” дает толчок дремлющему воображению, а “предлагаемые обстоятельства” делают обоснованным само “если бы”. Они вместе и порознь помогают созданию внутреннего сдвига…»110*.
«Секрет этого процесса в том, чтобы совсем не насиловать своего чувства — не думать об “истине страстей”… Они не поддаются ни приказу, ни насилию.
Пусть все внимание артиста направится на “предлагаемые обстоятельства”»111*.
И нужное чувство возникнет и приложится.
Наконец, не забудем, что это же имеет место и [в] основной технике распланировки и построения действия по заданной роли. Я имею в виду метод «разбивки на куски». Разбивки, неизменно снабженной оглядкой на целое.
И, наконец, самую теорию «сквозного действия», которое внутри роли призвано служить той же функции, что наш «обнимающий контур» в изображении, или «монтажный ход сквозь куски», или, наконец, ход самого действия сквозь звенья эпизодов. Здесь аналогия — вернее, единство — менее неожиданна и удивительна.
Наиболее интересно оно [единство], конечно, по линии специфики внутренней работы актерского творчества, в наиболее сокровенных путях создания души в роли и душевных состояний и переживаний ее. И здесь мы обнаружим полное совпадение методов.
В определенном моменте книги Станиславский подводит читателя и к этой задаче:
«… Теперь же мы сталкиваемся с логикой, последовательностью неуловимых, невидимых… внутренних чувствований…»112*.
И для разнообразия и наглядности приведем по этому поводу не формулировку, а описание соответствующего упражнения, сделанное самим К[онстантином] С[ергеевичем]. В этом этюде кассир подсчитывает дома казенные деньги. Его внезапно вызывает жена в соседнюю комнату. Ее брат, идиот-горбун, в это время бросает деньги в камин. Кассир возвращается. Видит. В ярости кассир бросается на горбуна. В схватке его убивает. На крик вбегает жена. Тем временем ребенок захлебывается в ванне. Кассир в отчаянии. Здесь, и особенно на этом ультрамелодраматич[еском] примере, еще отчетливее проступает этот метод нагромождения отдельных кусков, элементов и соображений по поводу объекта, который должен вызвать правдивое чувство и вытекающие из него правдивые поступки, действия. И показано, как через процесс их сопоставления и возникает то самое правдивое чувство, прямой подступ к которому возбраняется системой («нельзя выжимать из себя чувства, нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви, страдания…»).
Я выношу каждый раз в «столбики» и снабжаю номерами те элементы, которые в данной сцене, внутри метода Станиславского, отвечают сопоставлению и нанизыванию монтажных кусков в тех же установках и с той же целью, как это делаем мы на кино.
«Сегодня Аркадий Николаевич опять заставил меня… сыграть этюд 420 “сжигания денег”… При счете денег я случайно взглянул на горбуна — Вьюнцова, и тут в первый раз передо мной встал вопрос, кто он и почему постоянно торчит перед глазами? До выяснения моих взаимоотношений с горбуном стало невозможным продолжать этюд.
Вот вымысел, который я с помощью Аркадия Николаевича придумал для оправдания взаимоотношений с партнером.
1) Красота и здоровье моей жены куплены ценой уродства ее брата-кретина.
2) Дело в том, что они близнецы. При их появлении на свет жизни их матери угрожала опасность; акушеру пришлось прибегнуть к операции и рисковать жизнью одного ребенка ради спасения жизни другого и самой родильницы.
3) Все остались живы, но мальчик пострадал: он рос идиотом и горбатым.
4) Здоровым казалось, что какая-то вина легла на семью и постоянно вопиет о себе.
Этот вымысел произвел сдвиг и переменил мое отношение к несчастному кретину. Я исполнился искренней нежности к нему, начал смотреть на урода иными глазами и даже почувствовал что-то вроде угрызения совести за прошлое»113*.
Костя, от лица коего пишется книга, таким образом, проходит три этапа.
Ему нужно установить отношение, вызвать определенные человеческие чувства к брату своей жены. Прямо, непосредственно, «по заказу» он этого достигнуть не может.
Тогда он прибегает к нагромождению ряда кусков, из которых может сложиться отношение (таких кусков, из которых и в жизни слагается то или иное отношение к человеку).
Он мысленно, в чувствах пробегает по этим кускам (из них здесь перечислено четыре), и в процессе этого у него возникает искреннее человеческое отношение к брату жены. То самое чувство, которое «по заказу» могло возникнуть лишь механически, «изобразительно», как «изображение чувства», а не как чувство.
Подлинность этого чувства рождает у Кости целую сцену между ним и горбуном: «Создалась совсем иная сцена: уютная, живая, теплая, веселая. Она поминутно вызывала отклики в зрительном зале…»114*. То есть из правильного переживания выросла целая сценка, давшая правильный заразительный образ отношений кассира и брата его жены (здесь уже эффект целиком совпадает не только по методу, но и по результатам с тем, что делает монтаж на кино).
Но дальше:
«Но вот пришел момент идти в столовую. К кому? К жене? А кто она? Сам собой вырос передо мной новый вопрос.
На этот раз также стало невозможно играть дальше, пока не выяснится вопрос — кто моя жена. Я придумал чрезвычайно сентиментальный вымысел… Тем не менее он волновал и заставлял верить, что если бы все было так, как рисовало мое воображение, то жена и сын стали бы мне бесконечно дороги»115*.
То же самое. И наконец:
421 «Возвращение к столу с бумагами сделалось понятным и нужным. Ведь я работал для жены, для сына и для горбуна!
После того как я познал свое прошлое, сжигание общественных денег получило совсем иное значение. Стоило мне теперь сказать себе: “Что бы ты сделал, если бы все это происходило в действительности”, и тотчас же от беспомощности сердце начинало биться сильнее. Каким страшным представилось мне ближайшее будущее, надвигавшееся на меня…
Поставив факты на места, надо было понять, к чему они приводят, что ждет меня впереди, какие улики встают против меня.
Первая из них — большая, хорошая квартира. Она намекает на жизнь не по средствам, которая привела к растрате.
Полное отсутствие денег в кассе и наполовину сожженные оправдательные документы; мертвый кретин, и ни одного свидетеля моей невиновности; утонувший сын. Эта новая улика говорит о подготовляемом побеге, в котором грудной младенец и кретин-горбун явились бы большой помехой…
Смерть сына затягивает в преступное дело не только меня, но и жену. Кроме того, из-за убийства ее брата у нас неизбежно произойдет осложнение в личных отношениях… Нельзя не признать замечательным прием Торцова. Но мне казалось, что успех его основан на действии магического “если бы” и на предлагаемых обстоятельствах. Они произвели во мне сдвиг»116*.
На последнем образце дело уже вовсе наглядно по полному совпадению. Каждый из пяти этих номеров есть сам по себе как бы общий образный чувственный вывод из совершенно отчетливой монтажной группы конкретных переживаемых ситуационных кусков. Вся цепь их есть как бы маленький фильм из пяти монтажных эпизодов, мгновенно проносящийся в сознании и чувствах исполнителя!
То есть закономерность метода продолжается и действует и внутри их. Возьмем хотя бы № 4. Он складывается, видимо, из сценок того, как злосчастного кассира не принимают в когда-то знакомые дома, как ему отказывают в службе, как даже заступничество сердобольных покровителей не может ему помочь и т. д. Особенно характерно здесь — и это я уже добавляю из собственного опыта — что форма, в которой проносятся такие ситуации в сознании, целиком схожа с характерностью крупных планов на кино. А именно: в недосказанности намека. Каждая из этих вспомогательных ситуаций видится только с одной какой-то стороны, только одной какой-либо наиболее резко характерной чертой. Чрезмерная расписанность каждого такого куска (чрезмерная длина метража) вела бы к созерцательной остановке и распаду целого, вместо того чтобы, как клеточки кадриков, как фрагментарные крупные планы, гнать к сборке, к соединению и слиянию этих отдельностей в единую цельность.
Сейчас, когда я записываю рисующиеся мне слагаемые куска № 4117*, я каждое из них так и вижу. Это — то сгорбленная фигура, крадущаяся вниз 422 по лестнице от двери с надписью фирмы, при этом я не вижу ни тех, кто отказал, ни самой сцены отказа. То, наоборот, я вижу супружескую пару, «где-то» надменно отворачивающуюся, при этом без кассира (слитого сейчас со мной, что не мешает мне то видеть «себя — кассира» перед собой, то ощущать его только «в себе» — в воображении это происходит так же, как во сне, где ухитряешься одновременно бывать и наблюдаемым и наблюдающим!). То это — одно печальное лицо и избегающие взгляда глаза неудачливого благодетеля (почему-то еще с поднятым пальцем). То это вдруг — одна намокшая, дырявая подметка, отставшая от сапога, которую пытаются поправить посиневшие от холода пальцы, и т. д. и т. д. Отличием, но, конечно, никак не принципиальным, будет еще то, что часть этого предстает передо мной не зрительными явлениями, а содроганием собственных моих плеч и уходом в них головы вместо целой сцены выслушивания отказа, прерывистостью дыхания вместо общей картины взбега на лестницу, приливом крови к щекам вместо сцены унижения при встрече с бывшими знакомыми и т. д. и т. д.
В мои цели отнюдь не входит излагать систему Станиславского или отдельные слагающие ее дисциплины. Но я позволяю себе такое количество цитат лишь для того, чтобы показать по линии совсем иной области внутри нашей специальности наличие подобных же базисных принципов и положений, как нами давно уж установлено по линии монтажа. (К тому же объединяющих формулировок по этому принципу книга «Работа актера над собой» сама не делает).
Таким образом, мы видим полное соответствие в основном звене создания непосредственно и искусственно не создаваемого главного внутри системы кино и системы работы актера.
По этому поводу мы можем сказать, что здесь мы установили единство метода не только между кадром и монтажом, между монтажом и методом тонфильма (что мы уточним дальше), но еще один наиважнейший пункт единства метода. Единство метода во всех разделах кинодисциплин с тем методом, которым живо основное ядро содержания фильма — действующий актер — человек.
Но если система органична в себе, то следует предположить, что, качественно видоизменяясь, она принципиально одинаково будет проходить тем же методом, темп же закономерностями и сквозь композиционные и структурные элементы. И в них отображая через метод основную особенность первичного феномена.
Феномен этот здесь совершенно идентичен первичному феномену кино.
Из двух неподвижных клеток рождалось движение.
Из ряда выбранных предлагаемых обстоятельств здесь родится движение души — эмоция (emotion от корня motio — двигаюсь).
Там движение не фактическое, но образ движения.
И здесь чувство не фактическое, а особое чувство правды, чувство сценической правды. На размежевание его от житейской правды у Станиславского уходит много страниц. Я думаю, что размежевание здесь одно и очевидное. Скажем о нем по-своему, что сценическое чувство есть не подлинное чувство, а образ подлинного чувства, подобно тому как на сцене движется не подлинный человек Лир, Макбет или Отелло, а образ Отелло, Макбета или Лира. Образ в обоих случаях со всей своей не непосредственной и не предметной реальностью, но зато со всем своим диапазоном обобщения [выходит] далеко за пределы и измерения частного изображения.
Основной кинофеномен обогащение повторялся на первых же шагах 423 композиционной формы на кино — на первых же шагах и на самом принципе композиции, на монтаже.
Целое событие раскладывалось на куски. Куски не самостоятельные, но в установке на определенную роль этих кусков в определенно выбранной форме их сочетания, в видах на ход, через них определенный.
Для творчества актера — это уже фаза работы над ролью. Я эта фаза целиком в новом качестве и в новой обогащенности воспроизводит основной феномен появления подлинного сценического чувства.
Роль расчленяется в куски. Куски определяются задачами. Куски сочетаются по линии сквозного действия, которое выстраивается из выполнения задач последовательных кусков.
Мертвая страница пьесы распалась, чтобы вновь возродиться в единстве творческого переживания ее в чувствах.
Мертвый общий план распался в монтажные куски, чтобы воссоединить их в новое единство живого через них переживания процесса события в чувствах и ощущениях.
Почти что образ зерна, которому надлежит погибнуть — распасться, — чтобы возродиться новым живым растением!
И, во всяком случае, принцип, не только обнимающий, как мы видели, все статьи внутри кинопроизведения: актера, роль, кадр, монтаж, вещь в целом.
Но принцип, охватывающий искусство и за пределами кино.
Принцип, и за пределами искусства имеющий свой знаменательный охват.
Но прежде, однако, покажем, что не только кино и театр (система Станиславского создавалась для театра и как достижение опыта театра входит в общую среду дисциплин кино, и мы впервые здесь прочитываем ее в единстве с кинотерминологией и методами кинематографа) следуют этому принципу. Таков же и метод литературы с большей или меньшей степенью выдержанности и отсюда — с большей или меньшей степенью наглядности.
Так, для начала возьмем пример предельной разительной очевидности.
Его мы поищем среди образцов наиболее напряженных произведений — произведений пафоса.
И его мы найдем в наиболее чистом виде у одного из величайших патетиков литературы — у Уолта Уитмена.
Подойдем по-деловому, по-рабочему, без белых перчаток. Уитмену надо воспеть Америку. Америку пионеров. Воспеть он ее хочет в эмблеме первого орудия труда пионера — в топоре. Он это делает в «Песне о топоре». Но топор есть топор. А топор-эмблема есть топор-эмблема. Надо сделать Топор с большой буквы, Топор-эмблему, из топора с маленькой буквы, из топора-предмета. Как же поступает Уитмен? Как истый монтажер. «Общий план» предметного топора он раскалывает в многообразие «монтажных фрагментов» того, что может сделать топор, что можно сделать топором. Возникает бесконечное перечисление хитро сопоставленных единичных возможностей, оно порождает и вызывает к жизни море ассоциаций. Они нанизываются на мощный ритм воплощения идеи. И этот бесконечный ряд внутри восприятия читателя вновь собирается в единство. Но собирается уже не в топор-предмет, ограниченное изображение, но в новое качество топора, в Топор-эмблему, в Топор-образ, охватывающий размахом своего обобщения заключенный в него образ молодой американской демократии, пролагавшей тысячей топоров путь к 424 своему могуществу через гущу непроходимых лесов Северной Америки, созидая свое государство118*.
Вот несколько фрагментов из «Песни о топоре», особенно наглядных для метода поэмы, метода Уитмена и монтажного метода в искусстве вообще. (Переводы К. Бальмонта, 1911 г.)
Виденья встают.
Виденья всяческих применений топоров
и тех, что топор
применяют, и всего,
что с ними в
соседстве…
Таков метод построения.
А таковы образцы.
Некоторые из них — простое перечисление предметов, изготовленных при участии топора.
Некоторые из них — целые ситуации вокруг того, что создано с помощью топора. (Иногда это участие очень отдаленное, разве что в заготовке первичного [материала] фабрики — леса!)
1. Скачет топор.
Плотный лес дает отзвук текучий,
Катятся, мчатся вперед выражения эти,
встают в очертаниях
Хижина, шатер, пристань, вехи,
Цеп, плуг, мотыга, лом, лопата,
Гонт, брусок, подпорка, стенная обшивка,
косяк, планки,
панель, щипец,
Крепость, потолок, зал, академия, оргáн, дом,
выставки,
библиотека,
Карниз, решетка, колонна четырехугольная,
балкон, окно,
башенка, портик,
Кирка, грабли, вилы, карандаш, повозка, посох, пила,
рубанок, деревянный
молот, клин,
рукоятка печатного
станка,
Стул, бочка, обруч, стол, калитка, флюгер, оконница,
Рабочий ящик, сундук, струнный инструмент,
лодка, сруб и чего
еще нет,
Капитолий Штатов и капитолий народа Штатов,
Длинные стройные ряды построении в аллеях,
прибежища для сирот
или бедных и больных,
Пароходы и клиппер Мангаттана, измеряющие все моря.
Виденья встают… и т. д.
2. Виденья встают.
Виденье того, что измеряют, пилят, стругают,
соединяют,
раскрашивают,
Видение гроба для мертвого, что будет лежать
там в саване,
Виденье того, что колонками стало, колонки кроватей,
колонки кровати
супруги едва лишь обвенчанной,
Виденье корыта малого, виденье доски для качанья
колыбели
младенческой,
425 Виденье полов, половиц под ногой
плясунов,
Виденье половиц семейного дома, домов, исполненных
дружбы, детей и
родителей,
Виденье кровли дома счастливых двоих,
молодого мужчины и
женщины, кровля
над счастливо
обвенчанными молодым
мужчиной и
женщиной,
Кровля над ужином, что радостно приготовлен
целомудренной женой
и радостно
съеден
целомудренным мужем, довольным
после работы дня.
Виденья встают.
Видение места того, где находится узник в
суде, и того, кто
сидит на том месте,
она или он.
Видение стойки кабацкой, оперлись о которую
юный пьяница вместе
с пьяницей старым,
Видение лестниц, пристыженных и гневающихся
оттого, что
ползучие ступают по ним шаги,
Виденье лукавой кушетки, и на ней нездоровая
пара прелюбодейная,
Виденье стола игрального с его дьявольскими
выигрышами и
проигрышами,
Виденье ступенек, по которым восходит изобличенный
и осужденный
убийца, сам убийца с
диким лицом и с
руками окованными,
Шериф и при нем помощники, безмолвный
народ, побледневшие
губы толпы, качанье веревки…
Помимо самого метода здесь бросается в глаза для отдельных звеньев тот же принцип крупного плана, стоящего на месте целой сцены, тот же pars pro toto («побледневшие губы толпы», «качанье веревки», «игральный стол», «лукавая кушетка», «пристыженные и гневающиеся лестницы», «кабацкая стойка», «половицы», «корыто», «доска», «колыбель»).
Когда один из предметов, слагающих общий образ поэмы, нуждается в том, чтобы тоже выйти за пределы простого изображения, то поэт прибегает к тому же методу и в отношении этого предмета — отдельного слагаемого.
3. Виденья встают.
Виденья дверей, что дают много входов и выходов,
Дверь, чрез которую быстро входит друг после долгой разлуки.
Дверь, что впускает добрые вести и вести злые,
Дверь, чрез которую выйдя, сын оставляет дом свой
родной, спесивый и
полный надежд,
Дверь, чрез которую входит он, после долгого
бесславного
отсутствия, сломленный, больной,
без средств и без
прежней невинности…
Как видим, и в целом и в отдельных звеньях метод тут один и тот же.
Подобный метод особенно ярко представлен у Уитмена. Но это вовсе не означает, что он характерен только для него и только им применяется. Для тех, кто хотел бы отрицать наличие этого метода за пределами творчества этого неожиданного и необычайного поэта, хотя и не обязательно «юродствующего апостола новой демократической религии», как называл его Илья Ефимович Репин, для тех можно привести аналогичный пример с совершенно другого крайнего полюса. Из творчества никак уж для обывателя не «подозрительного» писателя. Здесь этот метод выступает не так гипертрофированно, но в момент пафоса к нему уже прибегает и такой «антипод» Уитмена, как 426 наш… А. Н. Островский. Вот отрывок из его драмы «Козьма Минин Сухорук» (1862 года. Действие II, сц[ена] вторая, явление третье. Монолог Минина, в котором он решается на подвиг; соответствующие строки много выделены разрядкой):
Вон огоньки зажглись по берегам.
Бурлаки, труд тяжелый забывая,
Убогую себе готовят пищу.
Вон песню затянули. Нет, не радость
Сложила эту песню, а неволя,
Неволя тяжкая и труд безмерный,
Разгром войны, пожары деревень,
Житье без кровли, ночи без ночлега.
О, пойте! Громче пойте! Соберите
Все слезы с матушки широкой Руси,
Новогородские, псковские слезы,
С Оки и с Клязьмы, с Дона и с Москвы,
От Волхова и до широкой Камы.
Пусть все они в одну сольются песню,
И рвут мне сердце, душу жгут огнем,
И слабый дух на подвиг утверждают…
Я думаю, что незачем нагромождать примеры и можно ограничиться этими двумя крайними представителями литературных направлений.
Может, целесообразно припомнить мимоходом, что в нашей кинематографии трижды появлялись (два раза в титрах и один раз в диалоге) перепевы того же мотива Островского, где идея «всея Руси» возникает из перечисления губерний, на которые дробилась царская Россия, и национальных центров, из которых слагается Советский Союз. Два раза это делалось патетически. «Конец Санкт-Петербурга» в повторяющихся перечислениях о солдатах — русском народе на войне: вятские, псковские и пр. «Аэроград» в финале, где перечисляются национальные авиаэскадрильи, сливающиеся в единый образ всесоюзной мощи нашей авиации… Один раз этот же прием применен иронически в «Юности Максима»73, когда жандармский полковник сообщает выпускаемому из тюрьмы Максиму, что он свободен и волен жить где угодно, кроме «[губерний: Санкт-Петербургской и Московской, и губерний: Тверской, Оренбургской, Рязанской, Казанской…]» и т. д. и т. д., перечисляя все внесибирскне части империи, этим приемом складывая в сознании слушателя и Максима образ всего государства Российского, где, за исключением сибирских окраин, воспрещается жить Максиму.
В заключение приведем еще аналогичный пример из жизни. Пример того, как «образ бури» собран в ощущении зрителя из умело составленной последовательности изображений, касающихся бури.
На этот раз автором монтажных листов выступает… Леонардо да Винчи74.
У читателя, мало чуткого к тому, чтобы у него рождался из деталей образ, то есть у читателя не артистического склада, а скорее бухгалтерского, у читателя, для которого детали суммируются в сведения о предмете, а не родят образ предмета или явления, — может естественно возникнуть вопрос: при чем тут монтаж? При чем тут «наводящие» детали? Изложенное — не больше как характерная для добросовестности да Винчи «инвентаризация» деталей. Это просто протокол деталей, каталог деталей, коллекция эталонов. Очевидно, что такое обвинение может быть брошено, исходя из той предпосылки, что сам читатель лишен способности образного охвата деталей, как предположено выше. Но несправедливо будет отрицать и то, что не всякое «перечисление» 427 есть перечисление, способное выжать обобщающий образ, что детали небезразличны и что, следовательно, не любая россыпь крупных и средних планов по своему содержанию есть уже набор монтажных кусков. Столь же очевидно, что характеристикой монтажного куска в основном является его сюгжестивность119*, то есть те его черты, которые способны вызывать ощущение цельности представления. Мы уже отмечали этот элемент выше. Мы можем здесь еще добавить к этому же пределы, внутри которых ему удастся этого достигнуть.
Ищущие в моей работе эталонов и рецептов будут разочарованы. Характеристика монтажного куска должна, естественно, отвечать двум требованиям и одному предпосылочному условию. Монтажная деталь должна быть как бы экстракцией той части события или явления, которую она представляет: плотью от плоти и кровью от крови его реальности — типичной деталью. При этой кусок (вернее, деталь) должен быть и достаточно неожиданным и необычным, чтобы приковывать внимание и стимулировать воображение, и вместе с тем недостаточно неожиданным и необычным, чтобы порывать с обычным представлением о явлении. Так, например, слишком крупные планы лиц, бывшие одно время в моде, разрывали представление о лице размерами глаз, губ и носа, допуская такую неожиданность взгляда лица, что исчезало само ощущение лица как такового в тех случаях, когда именно оно-то и было нужно как монтажная составляющая («за глазами лица не видно»). То же относится и к выбору характерной детали из самого события.
Я сам «вваливался» на подобных случаях неоднократно. Наиболее, пожалуй, отчетливый пример из собственной практики я помню в картине «Старое и новое». Для содержания первой части этого фильма, говорившей о собственнической тенденции в старом крестьянстве, особенно отчетливо проступавшей в дроблении сравнительно крупных хозяйств при семейных разделах на ряд малых хозяйств, экономически уже бессмысленных, мне нужны были особенно ярко впечатляющие детали подобных разделов. Они должны были быть максимально впечатляющими и вместе с тем «целиком взятыми из жизни». Более ярких деталей, чем мы нашли в действительном быту Пензенской губернии, даже и придумать невозможно. При дележе имущества там избы просто пилят пополам. Не разбирают срубы «по венцам», а каждое бревно режут надвое. Принципиально собственническое «пополам» утверждает себя буквально, совершенно не считаясь с хозяйственным идиотизмом такого подхода. Так или иначе — это факт, «фактичнейший» факт, и какая при этом наглядность образа и неожиданность! И, погнавшись за яркостью, сняв подобный эпизод, мы не заметили и не учли того, что эта деталь и образ настолько далеки от привычной для нас логики (как и атавизм самой этой практики от нашей эпохи!), что этот эпизод вырвался из «типичности» и никак в строй нужного нам образа не уложился. Из эпизода, монтажно с другими вместе слагающего образ собственнического инстинкта, доходящего до полной бессмысленности, он стал самостоятельным эпизодом. Притом даже эпизодом, воспринимавшимся не бытово: одни относились подозрительно к его бытовой достоверности, в чем пропадал весь смысл его и интерес, державшийся на том, что это именно факт, другие воспринимали дело еще хуже — полагая эту сцену надуманной аллегорией. Впрочем, что им оставалось делать, если в сознании не могла уложиться такая в те годы еще не изжитая дикость!
Если мы с этих позиций взглянем на «каталог» Леонардо, то мы увидим, 428 что это вовсе не «номенклатурный список» деталей потопа, а замечательный набор элементов, целиком подобранных так, чтобы сообща родить грандиозный образ потопа.
Его детали остры по неожиданности, не порывая, однако, с представлениями вероятности, возможности и убедительности (раздувшиеся трупы животных, всплывающие и сталкивающиеся вместе).
Тривиальные элементы, то есть самоочевидные детали, настолько рельефно и выразительно «взяты аппаратом», что приковывают к себе воображение как самые неожиданные вещи. (Перипетии животных и людей, оставшихся в живых.) Таково же положение на кино, для которого в такой же степени верно, чтобы тривиальное оживлялось художественными средствами, напр[имер] композицией кадра, а при необычности самого явления умолкали бы неожиданности средств обработки. Я, кроме того, нахожу, что они даже композиционно весьма мудро скреплены. И что они даже не только «пропись» для живописной картины, а своеобразная самостоятельная драматическая поэма. Чего стоит хотя бы вся звуковая гамма потопа, весьма мало непосредственно дающая живописцу, но как раз колоссально наводящая по своей эмоциональной роли. И как тонко проведено общее движение акцентов внутри всей картины, то уходящих в звуки, то вновь погружающихся в изображения, строя весьма изысканную партитуру звукозрительного контрапункта. Уитмен в приведенных примерах давал как бы примеры пластических монтажных листов, если в «Salut au monde» он давал разобщенно в последовательности монтажные листы звукового построения и построения пластического. Леонардо же здесь дает нам, на мой взгляд, изумительный образец полной партитуры звукозрительного построения, звукозрительного контрапункта. Это наглядный урок не только молодым живописцам, но и не одному, пожалуй, и матерому кинорежиссеру!
Сама же качественная разница того, что годится в детали, способные порождать обобщающий образ, и в детали, на это не способные, весьма существенна. Она очень тонка, но резко принципиальна.
Смотрите, как щедр, напр[имер], Станиславский в нагромождении внутри своей области и своих заданий частных монтажных кусков, наводящих на возникновение обобщающего ощущения, напр[имер], «материнской любви»120*.
Но смотрите, как он же жесток и педантичен в отборе и отметании того, что качественно по природе выбранных слов или лишено наводящих функций, или обладает наводящими функциями, направляющими в другие сферы и задачи. Заметим здесь вскользь, что специфической природой слов, наводящих на то, что ему нужно, — на действия человека и движения его души, — является глагол.
429 […] Отметим, с какой настойчивостью он отметает все неглагольное по своей природе или даже полуглагольное. По существу же монтажного куска, по существу же признаков, которые мы требуем от монтажного куска, он здесь прав и исходя из монтажного метода в целом. Актеру нужно дать в целом ощущение материнства.
Станиславский не дает ему играть «материнство». Это уже нам не ново — это нерв системы, и его мы излагали выше. Интересна здесь практика: материнство как обобщение, как образ сливается и в нашем сознании как результат бесчисленных конкретных актов и действий материнства. И эти отдельные действия, свойственные матери, поведение или отношение к ребенку суть такие же монтажные фрагменты единого обобщающего образа материнства как для играющего (что здесь на первом плане), так и для воспринимающего (что на первом плане там), совершенно в той же степени, как образы лошадиного скока, сочетающиеся в образ скачущего коня.
Существительное «материнство» в фрагментах своих должно быть в глагольных проявлениях: этих как бы существительных в фазе становления121*. Как видим лишний раз — метод всеобъемлющ.
Такую же тонкую разницу в качестве приводимых и перечисляемых черт по качественному признаку их способности обобщаться в образ так, как мы их здесь познавали, знали, впрочем, и более древние времена. Их уже знал и очень тонко анализировал Лессинг в «Лаокооне»:
«… Вообще описания материальных предметов могут иметь место там, где нет и речи о поэтическом очаровании, где писатель имеет дело лишь с рассудком читателей и старается лишь о сообщении им ясных и по возможности более полных понятий. Ими может пользоваться с большим успехом не только прозаик, но и дидактический поэт (ибо там, где он занимается дидактикой, он уже не поэт).
Вергилий в своих “Георгиках”75 изображает, например, корову, годную для приплода, так:
Отменна
корова.
Дикая стать, с головой безобразной, с могучею выей,
Если до самых колен из-под морды подгрудок свисает.
Меры не знают бока; в ней все огромно: и ноги,
И подле гнутых рогов большие шершавые уши.
Очень мне по душе и пятнистая с белой звездою,
Или та, что ярму упорным противится рогом,
Схожая мордой с волом, и та крутобокой породы,
Что хвостом на ходу следы на земле заметает…
(Вергилий, “Георг[ики]”, III, 51 – 59)
Вергилий же так изображает, например, и красивого жеребенка:
С
головою красивой,
С шеей крутой, с животом коротким и крупом тяжелым;
Мышцами крепкая грудь кичится.
Кто не видит, что поэт заботится здесь больше об изображении самих частностей, чем о целостном впечатлении? Он хочет перечислить нам признаки хорошего жеребенка или хорошей коровы для того, чтобы дать возможность самим судить о достоинстве этих животных, если бы пришлось делать выбор; 430 но ему нет дела до того, сочетаются ли эти признаки в живой образ или нет…» («Лаокоон», XVII).
Эта цитата дает нам хороший «монтажный» переход к «Лаокоону» Лессинга вообще. Тому, что нас интересует, там посвящено немало страниц. Больше того, сам лессинговский «Лаокоон» мне кажется лежащим целиком внутри нашей темы. Ибо, конечно, в основном у него речь идет не столько о конфликте двух областей — живописи и поэзии, — сколько о конфликте двух методов. И именно тех двух методов, о которых мы говорили выше. О методе изображения как методе данности и результата, и о методе образа как методе становления и процесса. Живопись и поэзия у него скорее представительствуют просто двум случаям, из которых в одном превалирует один метод, а в другом — другой. И, несмотря на суровый окрик Лессинга, как тот, так и другой метод имеют место внутри каждой области. Повторяю, по обеим раздельным областям они имеют только преимущественное и непосредственно наглядное превалирование.
Думаю, что эта строгость разграничения в несводимые противоположности объясняется тем, что ко времени Лессинга Люмьер и Эдисон еще не снабдили его совершеннейшим аппаратом эстетических исследований и пересмотра принципов искусства — кинематографом.
«Итак, остается незыблемым следующее положение: временная последовательность — область поэта, пространство — область живописца», — пишет Лессинг.
И в поле его рассуждений не хватает того совершенного искусства, которое сумело синтетически вобрать в новое качество, в кинематографию — оба этих начала.
Поэтому он каждую сферу видит в отдельности, только изнутри ее собственных законов, а не с высоты синтетического достижения обеих, [когда] обратным ходом освеща[ются] внутри каждой из них рядом со своей спецификой и рудименты противоположной специфики — не как [нечто] чуждое, а как потенциальные данные для следующей синтетической ступени.
Поэтому для живописи он отмечает совершенно тот же феномен, которого мы касались в вопросах рудиментов кино внутри ее. Но, не видя перспектив выхода за ее пределы и слияния их обоих в новой сфере, которая пришла более чем через сто лет спустя, Лессинг… осуждает его:
«… Изображать на одной картине два отстоящих друг от друга во времени момента, как это делал, например, Фр. Маццуоли76, давая на одной картине похищение сабинянок и примирение их мужей с их родственниками, или как Тициан77, рисующий целую историю блудного сына (его развратную жизнь, бедственное положение и раскаяние), — значит для живописца вторгаться в чуждую ему область поэзии, чего здравый вкус не потерпит никогда.
Перечислять читателю одну за другой различные детали или вещи, которые в действительности необходимо увидеть разом, для того чтобы создать себе образ целого; думать, что таким путем можно дать читателю полный и живой образ описываемой вещи, — значит для поэта вторгаться в область живописца, тратя при этом понапрасну много воображения…» («Лаокоон», XVIII).
Как видим, Лессинг строг и строго осуждает.
Он мог бы этого не делать. Ведь перед его глазами было то же «Путешествие на остров Цитеры», которое до «торжества» кино подсказало Родену возможности последовательного драматизма даже в скульптуре, не смущаясь 431 двумя «Похищениями Европы», достойными Фр. Маццуоли, как мы приводили выше. Или это невнимание объясняется тем, что покровителем именно Ватто был тот самый Кайлюс78, против которого полемически заострен «Лаокоон»?
По существу же, ведь и картина — не картина в пластике, если в ней не соблюдена предпосылка, которую Лессинг ставит непременным условием для картины в поэзии: такой метод, «при котором сосуществующее превращается в последовательно образующееся». Мы видели, что даже на театре, где действие и реальная последовательность действий в центре всего, это условие должно соблюдаться, без чего даже динамический по своей природе театр оказывается такой же статической безжизненностью, как мертва картина в одном случае и жива — в другом. Отрешившись от живописных примеров типа Маццуоли и Тициана, совершенно не обязательно восходить к футуристам или кубистам, ценой разрушения формы достигавшим эффекта становления форм, в отличие от мертвого бытия форм, скажем, в академической живописи (или становления цвета, рождаемого рассыпанностью пятен чистых тонов в reductio ad absurdum’е122* метода у пуантилистов)79, в оправдывать Лессинга тем, что все это имело место несколько позже. Ведь между двумя этими крайностями лежит неисчерпаемая область нормальной композиции. Сама композиция на зрелом этапе развития берет на себя функцию ведения действия, не нуждаясь уже в последовательных изображениях стадий события, но воплощая в их виде и композиционных разрешениях то пересечение прошедшего и будущего, которым является картина в тонких определениях самого Лессинга. Впрочем, эта роль композиции, абстрагирующая в себе более раннюю фазу, где понятия пути и действия еще не отделимы от «шествующего» или «действующего» представляющего человека, в XVIII [веке] познается значительно меньше. Там менее отчетливо воспринимается тот факт, что сама композиция в живописи есть во многом прежде всего целево предначертанная мизансцена глаза зрителя, то есть совершенно точно предназначенный путь последовательности восприятия того, что должно собираться, складываться в общую картину. Взять хотя бы наглядность этого в «спиральной» мизансцене композиции «Явления Христа народу» Иванова, не говоря уже о всех перипетиях, которым подвергается и в последовательности и в одновременности зрительский глаз «в руках» такого виртуоза, как Серов.
В этом восприятии, понимании и ощущении единства единовремонности и последовательности, конечно, весь корень проблемы. Как в понимании ее, так и в конкретном ее приложении. В вопросе звукозрительного единства нам приходится еще не так сталкиваться с этой проблемой.
И тем не менее мне хочется все-таки прочитывать «Лаокоона» в нашей установке: как сопоставление не столько областей, сколько методов. И я думаю, что Лессинг дает к этому сам все основания.
Разрезав принадлежность методов по сферам, он все же оставляет лазейку для сближения этих противоположностей:
«… Но все равно как два дружелюбных соседа, не позволяя себе неприличного самоуправства один во владениях другого, оказывают в то же время друг другу в смежных областях своих владений взаимное снисхождение и мирно вознаграждают один другого, если кого-либо обстоятельства заставляют нарушить право собственности, так же точно должны относиться друг к другу поэзия и живопись…» («Л[аокоон]», XVIII).
432 Больше того, он сам приводит точку слияния и перехода друг в друга самих областей, когда они примыкают к единому совершенно[му] методу изложения события в становлении.
«… Настоящее оправдание в подобных случаях как живописца, так и поэта я вывожу, впрочем, не из приведенного выше сравнения их с двумя дружелюбными соседями. Простое сравнение не доказывает и не оправдывает. Но вот в чем настоящее их оправдание. Подобно тому как У живописца два различных момента… следуют так близко и непосредственно один за другим, что без натяжки можно принять их за один, точно так же у поэта… многие черты, изображающие различные части и качества в пространстве, следуют друг за другом во времени настолько стремительно, что мы их как будто слышим все одним разом…» («Лаокоон», XVIII).
Наиболее же близкое указание на подобное прочитывание «Лаокоона» Лессинг, конечно, дает в последнем абзаце собственного предисловия к нему:
«… Считаю, наконец, нужным заметить, что под именем живописи я понимаю вообще изобразительное искусство; точно так же не отрицаю я и того, что под именем поэзии я, в известной мере, понимаю и остальные искусства, более действенные по характеру подражания…» («Лаокоон», предисловие).
Это обобщение — уже почти признание в том, что вопрос идет об изобразительности и образности внутри метода искусства вообще.
Даже и без этого подтверждения ясно, что именно об этом, по существу, идет речь с явной и боевой установкой на метод образного становления, в отличие от изобразительного бытия.
Политически это было [так], как формулирует это дело предисловие к русскому переводу 1933 г.:
«Основная тема “Лаокоона” — это на первый взгляд определение границы между поэзией и живописью или, точнее, между искусствами изобразительными и искусствами временными…
Но на самом деле речь идет о границе между двумя диаметрально противоположными взглядами на искусство: аристократически-придворное мировоззрение сталкивается с буржуазно-демократическим…»
Исторически наши взгляды, конечно, являются третьей стадией по существу самого вопроса. Противники Лессинга, с которыми он спорит, — английский антиквар Спенс, глава английского классицизма Поп и критик-меценат Кайлюс — в основном защищают одно и то же «… основное положение: законы поэзии те же, что и живописи, и скульптуры. Первейшая обязанность поэта — стремиться к рельефности и картинности, к подробному описанию всех черт вещественной формы предметов и явлений…» (цитирую по русскому предисловию).
Другими словами, они защищают примат изобразительности и данности, распространяемый даже на области динамические, то есть органически противоречащие этому. Лессинг разделяет вопрос на два метода, локализуя эти методы по областям, где они более наглядно свойственны, снимает этим с поэзии порабощающую ее функцию изобразительного и выделяет принцип динамического становления, не выпуская его за пределы поэзии и только оставляя «лазейки» для объединения обеих областей единым динамическим методом.
Наконец, нам сейчас на базе опыта кинематографа приходится сказать, что мы хотим понимать самую проблему шире: как сопоставление возможностей двух методов — метода изображения и метода образного становления, в предпосылке, что в любом искусстве возможны оба, что ведущим является 433 второй, что дело в их единстве, что каждому отводится должное и весьма почтенное место и что, наконец, узурпация всех функций одним или другим во всякой области ведет дело к несостоятельности и краху123*.
Провозглашение же Лессингом метода становления в поэзии есть, конечно, привычное в истории искусств предвосхищение искусством принципа, которому суждено почти одновременно формулироваться в философии. Обе области ведь в равной мере воплощают отображенное в сознании соотношение классовых сил, борьбу их и порожденную этим картину социальных формаций. Но ощущение ее искусством способно опережать формулировку ее в понятиях философии. Именно таким мне кажется бой Лессинга за принцип становления в искусстве рядом с Гегелем, придавшим принципу становления всеобъемлющее философское значение [и] покончив[шим] с метафизикой «данности» […]80
Пушкин — монтажер
I. Бой с печенегами и «Полтава»
Мы уже указывали на тот факт, что в монтаже складываются, по существу, не детали, а бесчисленные общие представления о предмете или явлении, которые по закону pars pro toto возникают от деталей. И поэтому мы имеем в монтажном сочетании не просто сумму деталей, в которую складываются элементы, образуя одно суммарно-статическое целое, а значительно большее. Это будет не сумма пяти деталей, складывающихся в одно целое. Это будет пять целых, каждое взятое под другим углом зрения, в другом аспекте, и все совмещающиеся друг в друге. В динамике это будет тем же, чем в статике (и, конечно, неудачно!) были гальтоновские «коллективные фотографии». (В них находились «типические черты» для группы лиц путем последовательного наложения фотографического лица на лицо каждого члена этой группы. От этого проступало обобщенное лицо, не совпадающее ни с одним из слагающих, но вобравшее в себя наиболее часто и рельефно выступающие черты, отодвигающие на задний план менее частые, менее характерные, случайные черты отдельных лиц, не типичные для группы.)
Обязательным условием для композиции монтажного куска, таким образом, будет то, чтобы он был не просто любой деталью, а деталью, элементом, обладающим свойством через свой «pars» максимально полно вызывать ощущение «toto». Правильно выбранная в этом смысле деталь дает колоссальную экономию средств выражения. Вот где воистину шестью рыбками можно накормить шесть тысяч человек! Шестью правильно выбранными деталями дать ощущение грандиозного по масштабу события.
Большим мастером на этот счет является Пушкин в батальных сценах. По остроте подбора деталей, и именно деталей того порядка, о которых я говорю выше, его превосходит разве что Леонардо да Винчи в приведенных отрывках81. Детали боев кажутся прямо взятыми из этих фрагментов.
Я приведу здесь только два отрывка.
Один из «Руслана». Другой из «Полтавы». Один — бой с печенегами. Другой — со шведами. Пушкин очень внимательно монтирует. Чередование 434 «планов» и «размеров» у него чрезвычайно обстоятельно взвешено и продумано. Причем для Пушкина весьма характерно, что эти планы и размеры выступают группами. Это не «общий план», к которому приставлен внезапно «крупный», при таком стыке обычно никак «не монтирующийся» с ним, то есть не дающий возможности объединиться в одно общее восприятие (это, кстати сказать, ошибка очень частая у тех, кто, органически не поняв сущности монтажа, лезет в угоду моде или принятости резать сцены в куски и склеивать их124*).
У Пушкина, как отмечено, «размеры кадров» идут группами. При этом неизменно с возрастанием действия. К моменту, когда на первый план выдвигается не описание боя, а драматизм действия боя, когда наступает то, что Пушкин называет «и смерть и ад со всех сторон» («Полтава»), у него складывается группа крупных планов. При этом крупных планов резко выраженной однозначности при условии чрезвычайной чистоты и типичности того, что в них происходит. Это всегда единичный случай того, что в таком же виде на поле битвы повторяется сотни раз в каждом углу поля сражения.
Возьмем первый отрывок.
Это «бой с печенегами» из шестой песни «Руслана и Людмилы».
1. Сошлись — и заварился бой.
2. Почуя смерть, взыграли кони,
3. Пошли стучать мечи о брони;
4. Со свистом туча стрел взвилась,
5. Равнина кровью залилась;
6. Стремглав наездники помчались,
7. Дружины конные смешались;
8. Сомкнутой, дружною стеной
9. Там рубится со строем строй;
10. Со всадником там пеший бьется;
11. Там конь испуганный несется;
12. Там клики битвы, там побег;
13. Там русский пал, там печенег;
14. Тот опрокинут булавою;
15. Тот легкой поражен стрелою;
16. Другой, придавленный щитом,
17. Растоптан бешеным конем.
Строка первая. «И заварился бой» — типичный титр.
Строка вторая. Типичное разрешение начала сцены крупными планами «предварительного действия». Крупные планы «взыгравших коней». Это как бы Vorschlag125* ритму и действию самой картины.
Строка третья. То же самое в звуке. «Мечи о брони» — зрительно крупный план. Звуково — задание основной звуковой тональности на всю сцену. «Крупный план» того звукотембра, который явится основным несущим всей картины звука. Это, конечно, еще не столько схватка, [сколько] бой, лишь усиленный ударами мечей по собственным щитам.
435 Строка четвертая. Из звука в звук. Глухой лязг металла взвивается свистом стрел вверх. Как бы брошенная перчатка. Или ответ на вызов предыдущего лязга. Изображение «туча стрел» — конечно, общий план. Строка пятая. Из звука в изображение. Менее общий план. Вниз. «Стрелы попали». Равнина заливается кровью. Первый попавший удар. Первая пролившаяся кровь.
Строка шестая. Резкая реакция. Общий план конницы, срывающейся с места.
Строка седьмая. Конница врезается в конницу, мчащуюся навстречу.
Строка восьмая. Сомкнувшись рядами. Строка девятая. Рубятся.
Вторая — третья, четвертая — пятая, шестая — седьмая — восьмая — девятая — все отчетливые группы, крепко тематически спаянные внутри и не менее крепко связанные логикой действия между собой.
Первая — девятая, взятые вместе, — это как бы вводная общая картина боя (функция общего плана).
Десятая — семнадцатая — восемь крупных планов. Перечислять их и выписывать отдельно — ни к чему. Это уже сделано Пушкиным.
Отметим только, что двенадцатая — [это] перерезающие их более общие планы (один звуковой, другой зрительный). Они как бы не дают оторваться этой группе крупных планов от общей картины боя. Они как бы напоминание о том, что эта группа есть элемент внутри целого битвы. (Тоже обязательное условие в монтаже. И тоже типовая ошибка, так как очень часто не соблюдается. Очень немного картин выдерживают «искус» по этой «статье»!) Этот ряд крупных планов чрезвычайно любопытен вот чем. Он не только набор именно таких деталей, которые сотнями в одно и то же время происходят во всех концах поля, как мы говорили выше (напр[имер], «Там русский пал, там печенег»). Крайне примечательны не только они сами как детали, но примечательно еще и то, как сделано сюжетное скрепление этих, казалось бы, совершенно хаотически из всех углов нахватанных элементов боя. Если мы всмотримся внимательно в эти [восемь] строк [10 – 17], то мы увидим, что они явно двупланны: это одновременно элементы и картина одного общего боя и в то же время картина одной единичной схватки. То есть, другими словами, эти [восемь] строк сделаны так, что они одновременно и единичный частный случай и сквозящий сквозь нее общий образ боя. То есть эти [восемь] строк собираются в такой образ, который как бы частный случай, но настолько собирательный, что он же и вся, целая картина боя. Действительно: Начало группы кусков дается № 10:
Со всадником там пеший бьется…
Конец группы кусков — № 16, 17
… Другой, придавленный щитом,
Растоптан бешеным конем…
Хотя «действующие лица» из № 10 и № 16, 17, по-видимому, и разные, но читаются они как начало и финал одного действия: пеший бьется со всадником (№ 10). Пеший раздавлен конем (№ 16, 17). Оба куска соединены не единством персонажей, но единством действия. Возможно, конечно, решать это и теми же персонажами. Бой тогда будет более «фабульным», по существу же ничего не меняется.
436 Посмотрим теперь на то, что происходит между этими кусками (№ 11 – 15. Что держит в спайке и единстве те куски, которые внутри охвата их первой строкой и двумя последними, которые суть начальное и конечное звено одной и той же драмы. Оказывается, что всех их держат в единстве именно эти два крайних куска.
Совершенно очевидно, что № 14 и 15 есть не что иное, как необходимые куски разгона к окончательному удару: к упавшему, которого дробят копыта бешеного коня. Один «опрокинут» (№ 14), другой «поражен» (№ 15), третий — «растоптан» (№ 17). Единство фигуры из этих трех «убиений» держится еще на том, что они строго внутренне сцеплены еще игрой мощности той разящей силы, которая их уничтожает.
Первый — «булавою» (№ 14), второй — «стрелою» (№ 15), третий — «бешеным конем» (№ 17).
Эти три орудия смерти находятся в самом правильном соотношении сил. Стрела — наиболее легкая. Булава — тяжелая. Копыта коня — наиболее грузные. И размещены они не в порядке простой линии прямого нарастания: А — стрела, В — булава, С — копыта, а в соразмещении наиболее впечатляющей игры:
В — средняя (булава), А — самая легкая (стрела), С — самая тяжелая (конь).
Действительно, если для исчисления интервалов изобразить дело условно графически, то получим следующее (приняв булаву за среднее между стрелой и конем):
A B C
A B
B C
B A
A C
В первом случае мы имели бы при последовательности А — В — С следующую игру интервалов: AB и BC. Интервалы малые и одинаковые. Во втором случае игра интервалов при последовательности А — С — В давала бы ВА и AC. Интервалы не одинаковые, и один из них, AC, самый большой из возможных. Расстояние же от первого элемента ряда до последнего в первом случае А — В — С, то есть AC.
Во втором же случае: В — А — С, то есть полтора АС! Наиболее мощный охват. Если же изобразить графически самую игру интервалов, то дело приобретает уже абсолютную наглядность (см. рис[унок] 15)126*.
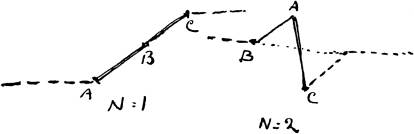
Рис. 15
Таким образом мы видим, что № 14, 15 и 17 тесно связаны и № 14, 15 служат вводом к «подаче» гибели пешего под копытами коня (этот пеший может, конечно, быть или сошедшим, или свалившимся с коня). Распространяется 437 ли подобная связь и на остальные строчки? Рассмотрим две аналогичные строки, примыкающие к другому концу (№ 11 и 13).
Если в только что разобранных примерах мы имели пример связи кусков через непосредственное действие, то и здесь мы имеем такую же связь через действие, но более сложного (опосредствованного) порядка. Здесь куски № 13 и 11 находятся в несколько иной связи с № 10, чем № 14 и 15 с № 17. № 13 и 11 как бы альтернативы, перспективы, прообразы возможных исходов схватки двух персонажей.
Действительно, № 13 буквально так и ставит дело, показывая: «Там русский пал, там печенег», она [строка] рисует одинаковые шансы гибели для одного и для другого. Но любопытнее № 11 — там явно выражена, «предначертана» гибель всадника («Там конь испуганный несется» — явно без всадника). Но если мы сличим это «предзнаменование» с действительным ходом действия, то мы видим, что оно — ложно: гибнет ведь пеший под копытами коня! И в этом построении мы улавливаем опять ту же черту «отказности», то есть отвлечения предположения в другую сторону от того, что имеет сбыться или случиться. Своеобразная «петля» интриги, искусственный толчок к ложному предположению исхода. Как бы кусочек приподнятой завесы того, что случится, после чего сразу же идет совершенно «нейтральное» заявление (№ 13); однако шансы в общем у печенега и русского совершенно равны! Этим еще больше подчеркивается удар № 16 – 17. Думаешь, что судьба третьего окажется противоположной судьбе первого (№ 14) и второго (№ 15). А оказывается, что и он гибнет, а подсказка (№ 11) была умышленным введением в заблуждение.
№ 12 — типичное монтажное «напоминание» сцены в целом внутри группы крупных планов. Напоминание и звуковое («Там клики битвы»), и зрительное («там побег»). Это то включение общих планов, которое всегда следует полнить, дабы группа крупных не утеряла связи и не вырвалась бы из общего ансамбля сцены.
Еще надо отметить, что даже внутри группы того, что мы обозначили крупными планами (не по размерам, а по детальности действий), Пушкин делает по мере возрастания действия все большее и большее приближение. Я имею в виду игру пяти «там» (№ 11, 12, 13), двух «тот» (№ 14, 15) и окончательного «другой» (№ 16). Совершенно очевидно, что это тоже есть игра на приближение и на вовлечение зрителя внутрь действия. «Там» — описательно, изобразительно, повествовательно — отдаленно. «Тот» — лично, игрово — приближенно.
438 «Другой» — видимо, несколько отдаленнее, чем «тот» (№ 14, 15 и 16), с тем чтобы № 17 мог обрушиться крупными копытами на того, кто под ног[ами] лошади показывается в № 16. Но эти копыта (№ 17) замыкают уже всю сцену в целом вообще: не забудем, что зрительное начало всей сцены № 2 начинается той же крупной игрой коней!
Как видим, композиция этих семнадцати строк, рассмотренная только со своей изобразительно-«игровой» стороны, монтажно разработана со всей драматической рафинированностью целой драмы. Вот откуда такое сильное воздействие из, казалось бы, случайного сочетания случайно выхваченных деталей. Вот чем продиктованы детали, вот что определяет их сверстку и вот откуда их необычайное монтажное воздействие.
Приведенный пример лишний [раз] подтверждает мое положение, последний раз высказанное в моем докладе на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 8 – 13 января 1935 года (см. стенограмму [в книге] «За большое киноискусство», Кинофотоиздат, 1935, стр. 24):
«Я делил так: 1924 – 1929 годы идут под ведущим знаком типажных и монтажных устремлений. Следующий этап — с 1929 по конец 1934 года. Этот этап шел главным образом под знаком приближения к проблемам характера и драмы. При этом как признак характера, так и признак драмы, по существу, являются следующей ступенью развития того, что эмбрионально в предыдущем периоде фигурировало как типаж и как монтаж.
… “Молекулярная драма” столкновений монтажных кусков разрастается в полноценное столкновение страстей участников драмы…» (там же, стр. 28).
Здесь это соображение изложено в порядке обрисовки особенностей отдельных периодов нашего кино. Но главное здесь, конечно, мысль о том, что принцип драматургии пронизывает киновещь в целом, в равной мере определяя как соотношения актов драмы, так и мельчайший монтажный стык «молекулярной драмы» столкновения монтажных кусков. Приведенный пример из «Руслана», я думаю, является предельно наглядной иллюстрацией этой мысли.
Второй наш пример — знаменитый отрывок из Полтавского боя («Полтава»).
1. Тяжкой тучей
2. Отряды конницы летучей
3. Браздами, саблями звуча,
4. Сшибаясь, рубятся сплеча.
5. Бросая груды тал на груду,
6. Шары чугунные повсюду
7. Меж ними прыгают, разят,
8. Прах роют и в крови шипят.
9. Швед, русский — колет, рубит, режет.
10. Бой барабанный, клики, скрежет,
11. Гром пушек, топот, ржанье, стон,
12. И смерть и ад со всех сторон.
Сцена взята в значительно большем драматизме и напряжении, чем бой с печенегами в «Руслане». И с точки зрения монтажа мы сейчас же обнаруживаем совершенно иной темп и ритм монтажной резки. Вступает «короткий монтаж». Мало того. Здесь естественно и нагрузка кадра часто сводится уже не только к однозначному действию, не просто к одному однозначному движению: к одному глаголу? что в словесном арсенале отвечает изображению одного движения в кадре.
В «Руслане» мы имели один кусок в два стиха (№ 16, 17), четыре куска в стих (№ 10, 11, 14, 15) и четыре куска в полстиха (№ 12, 13).
439 В «Полтаве» на кусок приходится до четверти стиха и до пяти сцен на один стих!
6 – 1 кусок
7 – 2 куска
8 – 2 куска
9 – 5 кусков
10 – 3 куска
11 – 4 куска.
Интересно еще сличить оба отрывка по другому признаку. Звуковые элементы во втором значительно превосходят количеством звуковые элементы первого. Можно было ограничиться бутадой, что Пушкин тоже начинал с… немого кино («Руслан» — 1817 – 1820), а затем перешел на звуковое («Полтава», 1828). Но гораздо важнее отметить здесь другое: а именно, что количество звуковых образов у Пушкина (по крайней [мере] в сличении этих двух сцен) возрастает с возрастанием драматической напряженности и темпа действия. Можно сказать, что при нарастающем напряжении изображение переходит в звук как более интенсивное средство воздействия. Это вводит нас в унифицированное восприятие изображений и звуков, дает нам картину перехода этих «противоположных» сфер друг в друга и тем самым помогает нам прокладывать пути к третьей части нашей работы, где будет идти речь о звуке и изображении и связи их между собой.
Совершенно такое же явление мы можем проследить и на другой смежной области искусства — в живописи. И здесь можно добиться тех же результатов через малое количество персонажей, но [через] правильный их подбор. И здесь этот выбор также определится тем, чтобы они были не только типичными в себе, но были бы еще и такими, чтобы в сочетании друг с другом выстраивать обобщенный образ для всей сцены, для всего действия (я имею в виду примеры драматической и сюжетной живописи в первую очередь). Этим объясняется и то явление, которое заметил начальник Комитета по делам искусств тов. Керженцев84 [в] одной из своих выступлений в Доме кино (зимой 1936/37 года). Дело касалось картины Сурикова «Утро стрелецкой казни». Тов. Керженцев правильно обратил внимание на то, что эффект массовой казни достигнут, по существу, «игрой» стрельцов. Получается этот эффект и это ощущение Казни с большой буквы, конечно, в силу тех соображений о монтажно возникающем из двух-трех изображений образе, о которых мы говорим все время. И надо отдать справедливость Сурикову, что с этой точки зрения как облики самих стрельцов, так и отдельные элементы поведения, которыми они снабжены художником, именно таковы, чтобы дать ощущение коллективного образа мятежного стрельца и стрелецкой слободы, не доросшей до понимания государственной мудрости дела Петрова, и бунтовавшей против него, и верной делу отсталости и реакции.
II. Шары чугунные
Остановимся на мгновение на замечательных строчках:
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят…
Тут имеются две примечательные черты. Рассматривая эти строки как сочетание последовательных кадров, мы обнаруживаем одну любопытную 440 черту. Это черта подачи предмета или действующего лица. В данном случае чугунные шары — предметы — одновременно как раз являются и действующими лицами.
Что характерно здесь в «подаче» этих предметов — действующих лиц? Характерно то, что здесь сперва дается картина того, что делается, а затем лишь раскрывается, кем это делается, то есть кто это делает. Сперва — действие, а затем действующий, действующее лицо.
1) «Бросая груды тел на груду…», а затем лишь 2) «шары чугунные».
Это совершенно наглядно, как только мы подставим под образы действия конкретные картинки: очевидно, что первая строчка есть кадр (точнее, сочетание нескольких кадров на одну и ту же тему), в котором видно падение «груды тел на груду», но еще без того, чтобы была показана причина их падения. И причина эта — чугунные шары — раскрывается лишь во второй серии кадров, в новой монтажной фразе, начинающейся словами: «Шары чугунные повсюду»; эту строку надо зрительно читать так, чтобы было такое же падение тел, но с чугунными шарами на первом плане, в центре внимания.
Третья строка дает груды тел (падающих людей) и чугунные шары в равноправном взаимодействии: шары в столкновении с людскими телами. Грубо говоря, первая строка — это люди на переднем плане и незримые шары, бьющие в них из глубины (люди, видимо, спиной к аппарату). Люди валятся друг на друга.
Вторая строка — это шары, сыплющиеся в кадр на передний план (видимо, перелетая через аппарат и ударяясь в место действия). Отскакивают, бьют в людей (общим планом). «Меж ними прыгают» — средний план человеческих фигур, между которыми прыгают шары, ударяясь в них. «Разят» — типичный крупный план попадания чугунного шара в человека. Соответственно этому им отведен и «метраж» строки: «Меж ними прыгают» — шесть слогов, «разят» — два слога. То есть под то, что мы читаем средним планом, отпущено (по той же теме!) в три раза больше метража, чем на то, что мы читаем как крупный план.
Характерно, что следующая строка («Прах роют и в крови шипят») дает новую игру размеров кадра. Здесь два отчетливых кадра: «Прах роют», «в крови шипят». По четыре слога на каждый, то есть как метражом (длиной), так и нагрузкой действия эти два кадра стоят между средним планом и совсем крупным предыдущей строки; если считать «разят» за кадр, имеющий нагрузкой одно действие, то «прах роют» и «в крови шипят» надо рассматривать как кадры, имеющие по крайней мере по два действия («прах роют», напр[имер], — 441 попадание ядра в землю и столб пыли, выбрасывающийся из земли; «в крови шипят» — лужа крови, брызги от попадающего в нее ядра, брызги опали, и в луже крови шипит ядро). «Меж ними прыгают» — средний план с тремя акцентированными движениями и отыгрышами их.
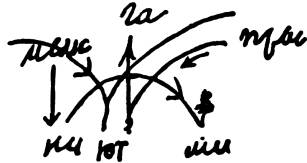
Рис. 16
Не следует думать, что количества действий в кадре отсчитываются количеством слов в фразе.
Они определяются ритмическим ощущением куска. И если мы захотим подыскать пластический эквивалент такой строке или фразе, то как раз ритмический момент сыграет здесь решающую роль.
Попробуем вслушаться в пластический рисунок звучания стихов и попробуем вывести из него траектории движений, которые они подсказывают. Мне они рисуются так: «меж ними» — ударение не на первом слоге, стало быть, движение синкопично. «Ни» — как короткий удар. Безударное «ми» — как эхо. Первое — попадание, второе — отскок.
Движение в кадре рисуется мне так: кадр начинается не вместе с движением, а раньше. «Меж» — диктует неподвижный кадр, в который ударяет ядро. Не сразу со вступлением кадра, а синкопически:
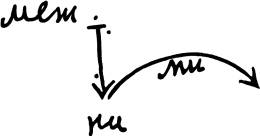
Рис. 17
«Прыгают» мне слышится в другом рисунке. Это не прямолинейный короткий влет сверху — это влет ядра по склоняющейся траектории. «Га» — короткий отскок вверх. «Ют» мне слышится как глухой удар, траекторией влетевший и траекторией вылетевший, то есть опять синкопой — / — (a b c), где a и c — паузы, введенные волей режиссера внутрь слова.
442 (NB. Эти схемы отнюдь не суть схемы для читки стихов — это схемы для графически чувственного видения действия внутри стиха. Оба эти ряда не могут совпадать. Основная отправная моторика переходит в читку или изображение своими несоизмеримыми графиками, объединяющимися через единый моторный образ, который лежит под обоими, но не прямо друг с другом:
|
|
|
МОТОРИКА |
|
|
|
|
|
|
||
|
ЧИТКА |
ПЛАСТ[ИЧЕСКИЙ] РИСУНОК). |
|||
Если мы теперь сложим обе схемы («меж ними» и «прыгают») вместе, то получим такую схему движения для данного среднего плана:
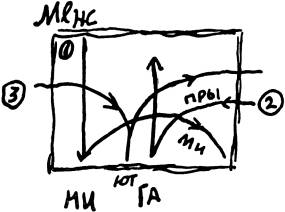
Рис. 19
Такова примерная дань ритму этой фразы. Теперь отдадим должное ее изобразительности. «Меж ними». Образ «между» легче всего дать через две фигуры, между которыми неминуем промежуток. Значит, видимо, надо поставить две фигуры на передний план кадра. Две фигуры при трех движениях ядер дают прекрасное сочетание «чет-нечет», решаемое к тому же по разным измерениям: чет решается статически (две фигуры), нечет — динамически (три акцента движения).
Поставив две фигуры в кадр, как на рисунке 20, мы удовлетворим образу «между» только наполовину: только в условиях плоскости.

Рис. 20
Чтобы образ «между» зазвучал во всей своей трехмерности, на[до] фигуры поставить 443 еще [в] разных планах глубины с таким расчетом, чтобы плоскость кривых проходила бы между плоскостями каждой из фигур.
Мало того, и самую плоскость траектории ядер тоже надо разделить на три плоскости: по одной плоскости на каждое движение.
Таким образом, получим пять планов действия для данного среднего плана размера сцены.
Возникает вопрос, как их соразмещать? Первое, что, конечно, напрашивается, — это простое плетение: а — плоскости людей, в — плоскости траекторий (схема I).
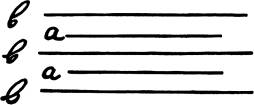
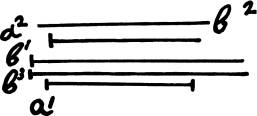
Схема I Схема II
Но будет ли это верно? Думаю, что нет, ибо это противоречит указаниям на ситуацию «меж ними прыгают», имея в виду, что ядра прыгают между людьми. На схеме имеем прямо противоположную картину: люди между ядрами. Это тоже абсолютно возможная картина боя. Если бы мы имели ситуацию, [в которой] люди «шли сквозь ураган ядер», схема I целиком бы ей пластически отвечала. Нам же задана обратная этому картина. И поэтому соразмещение должно быть другого типа, напр[имер] такое, как на схеме II. Оно отнюдь не обязательно [должно быть] именно таким. Вариантов может быть сколько угодно. Но все варианты в равной мере, как и этот, должны отвечать условию: ядра прыгают между людьми. Хотя в схеме условие соблюдается уже тем, что между a1 и a2 находятся две плоскости в1 и в3, но и положение в2 за пределами а1 и а2 не противоречит делу, ибо там за в2 будут расположены фигуры фона.
444 В грубой схеме, таким образом, композиция вырисуется так (рис. 21).

или по фазам

Рис. 21
На этой схеме неприятно, что полет 2 не связывается с фигурой (фаза II). Напрашивается решение, повторяющее некоторыми чертами фазу I (общее требование ритма) и, кроме того, режущее фигуру пластически (требование образное): прочерчивание траектории ядра по фигуре — «зачеркивание» ее — отвечает образному ощущению того, что ядра вычеркивают людей из строя. Кроме того, это есть пластическое прочерчивание темы уничтожения ядром, которая в последующем крупном плане («разят») уже прорисуется фактическим действием.
Как же быть? Очень просто: ведь совершенно неестественно, чтобы фигуры стояли как вкопанные и только махали бы руками. Несомненно, что фигура А1 шарахнется в сторону от места попадания ядра X. Ей совершенно естественно податься с переходом из фазы I в фазу II — из правого края кадра в левый. Максимальное пластическое подчеркивание, то есть максимальный акцент на то, что фигура не перешла, а шарахнулась, даст, как и всегда дает в таких случаях, простейший прием «противодвижения» по другому плану глубины, то есть путем одновременной переброски фигуры А2 из левого угла в правый. То есть фаза II в момент полета ядра 2 примет вид (рис. 22).
Для фазы III можно было бы снова вернуть их на прежние места. Но можно этого и не делать. При возвращении выиграло бы левое крыло траектории 3, но была бы суетня. Оставляя же фигуры в фазе III, как они были в фазе II, мы выигрываем в отношении… следующего монтажного куска («разят»). (Все же, что может служить пластической связью кадра с кадром, всегда есть ценнейший элемент внутри композиции кадра.)
Действительно, следующий кадр есть попадание ядра, видимо, в фигуру A1 (более крупную и близкую зрителю), после того как ядра трижды 445 ее щадили. Теме попадания для резкого ее оттенения естественно предшествует тема непопадания127*, с тем чтобы попадание тем резче «попало» в точку, тем резче ударило.
С этой точки зрения фаза III второго типа удачнее: она дает ощущение непопадания острее, чем в фазе III первого типа (там она прочерчивала вторым крылом, то есть явственно, свой путь через фигуру A1, то есть делала то, чего мы добивались для А2 и для чего перекомпоновали целую фазу).
Здесь именно это бы и мешало. Предначертание попадания ядра было прорисовано для A1 в фазе I. (Фаза II есть ритмический повтор той же темы в обратном рисунке на второй фигуре A2). Фаза III (во втором варианте) рисует явное непопадание. Тем самым она делает прекрасное отказное построение («отойти, чтобы лучше прыгнуть») для попадания quand même128*, попадания ядра, которое попадает уже в крупный план. Фаза III, кстати сказать, совершенно отчетливо прорисовывает и тот путь, по которому должно рисоваться попадание ядра в крупном плане.
Поскольку ход ядра 3 и удар ядра в крупном плане оказываются прямо связанными игрой темы и вместе с тем же и прямо противоположны по «знаку», естественно строить полет ядра для крупного плана по той же кривой, но в обратном направлении. Это дает нам прорисовку полета ядра в крупном плане (рис. 23).
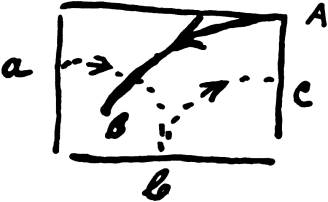
Рис. 23
Траектория АВ — она одинакова по рисунку, направлена прямо противоположно и соответственно (вдвое) увеличена (поскольку и план имеет увеличение размеров). Весь кадр крупного плана, таким образом, будет строиться согласно рис. 24. Кстати сказать, из всех возможных комбинаций этот кадр, пожалуй, наиболее пластически наглядный, а потому и выразительный для темы попадания (траектория идет по диагонали, то есть по самой длинной линии внутри кадра и наиболее примитивно выразительной по своей динамике).
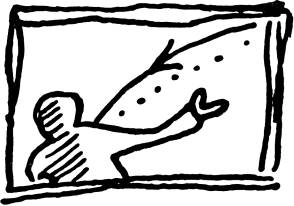
Рис. 24
Можно уточнять и дальше. «Прах роют». Сейчас эта картина вырисовывается уже отчетливее. Она приходится на два акта излагаемой драмы: 1) отскок от тела, которое она поразила, и 2) зарывание себя в прах. Значит, нечто вроде рис. 25. В нем верно то, что отскок дан пространственно в противоположном направлении к попаданию ав и вс. В с ядро зарывается в песок. И… и тут-то вопрос относительно «и» («прах роют и… в крови шипят»).

Рис. 25
В первом еще дроблении я отнес «и» к этому кадру. Думаю, что это правильно, ибо в этой задержке на «и» есть всегда как бы цезура задержания для подачи особо впечатляющей картинки, а такой именно для всего отрывка несомненно служит: «в крови шипят». Поэтому на «и» пришлось бы движение cd — выкатывание шара за кадр.
Таким образом, при двухфазном движении в этом кадре действие в точке с есть как бы опять междутактовый волчок, перебрасывающий шар из направления вс в cd.
Если обыграть «и», то есть снабдить его задержкой, прежде чем обрушить на зрителя последнюю картинку, то сделать это здесь очень легко: «доиграть» ядро за кадром. Оно невидимо. Значит, естественно «доиграть» его в звуке. Закономерно это? Вполне, ибо сейчас действие ядра из всех пластических перипетий взовьется в следующее измерение — в звук — оно зашипит. Сейчас оно будет и видимо и слышимо. А только что оно было видимо, но неслышимо. Переходным звеном будет слышимость при невидимости.
Чем же будет этот звук?
Звук этот будет попаданием ядра в лужу крови: невидимо для зрителя, но слышимо по всплеску крови. То есть ядро скатывается из точки с по линии cd за кадр (это соответствует «и»). За кадром слышен всплеск (это соответствует 448 паузе после «и»). Открывается новый кадр. Затухание звука всплеска откроется в пластических «кругах по воде» — колебаниях поверхности крови с острым звуком шипения раскаленного ядра, наполовину торчащего из лужи крови.
NB о задержке на «и». Задержки на «и», «а» или «у», паузы на них — характерный шаблон и трафарет «провинциальных» декламаторов. Попадает ли наш пример в подобный же разряд (хотя он и касается не столько декламации, сколько пластической разработки)? Думаю, что никак. И потому, что наше «и» никак не попадает в условие скандировки, что как раз было бы характерно для «провинциализма» декламации: перлами подобного рода могут служить такие читки, какие мне приходилось слышать самому:
1. Не живой он был, а… умирающий.
или
2. Отверзлись вещие зеницы.
Как у… испуганной орлицы.
Нелепость получается здесь оттого, что скандировка (формальный механический момент) подсказывает ударение и разрыв, и этот механический момент внезапно одевается уборами психологического якобы смысла.
В нашем случае как раз наоборот. По строю текста цезура попадает перед «и», а не после, как мы ее ставим в нашей пластической читке текста.
Бесцезурное «и» решалось бы так: шар начал катиться в предпоследнем кадре («прах роют») и вкатывался бы в последний кадр («в крови шипят…»). Цезура перед «и» рисовалась бы так: шар попал в с и вертится в нем. Следующий кадр — лужа, и в нее вкатывается из-за кадра шар.
Конечно, каждое из этих решений имеет свое право на существование. И здесь роль играет уже не столько пушкинский строй, сколько интонирование читкой.
Наше интонирование, я думаю, является наименее автоматическим и механическим, как, впрочем, подтверждает и пластический ее эквивалент, конечно, наиболее рельефный, пластически выражающий и впечатляющий.
(Кстати же, заметим себе и то, что монтажный разрез в фразе может читаться иногда и цезурой; при этом не всегда цезурой строя текста, а часто цезурой читки, то есть цезурой, отвечающей интерпретации чтеца, интерпретации, «надстроечной» к поэту, как «надстроечен» мизанкадр в отношении мизансцены.) […]
Однако, если мы вслушаемся еще обстоятельнее в звучание стиха, у нас непременно явится потребность не обойти и основную цезуру самого текста, будет потребность и ее отразить пластически.
Есть ли, с другой стороны, и в том, что мы сделали, потребность аналогичного элемента в самой игре?
Думаю, что да. Игра ядер у нас пластически неплохо пересечена игрой персонажей. Неплохо было бы ее переплести и драматически с этой игрой. Есть ли к этому основание и материал? Конечно, есть, и притом материал, непосредственно, как говорится, напрашивающийся: падение не только шаров, но и падение тела. В цезуре после «прах роют» и перед «и» так и просится беззвучное падение, прочерчивающее встречным направлением линию отскока 449 ядра от груди. Падение тела вслед отскочившему от него ядру — вот то безударное, межударное движение, которое цезурой здесь и напрашивается (рис. 26).
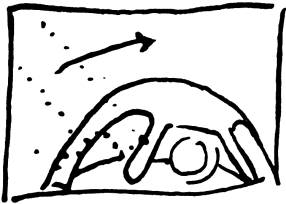
Рис. 26
Это падение дает и физически необходимый толчок, от которого покатится шар. Телу надлежит упасть за бугорок, на котором остановился шар. От толчка падения покатится шар. И совсем точно: чуть привскочит и покатится за кадр. И дальше пойдет все так, как разработано выше, на время паузы и всплеска в кадре останутся ноги фигуры, которая сама за холмом [рис. 27].
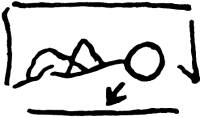
Рис. 27
Вообще же эти два куска (вся эта строка) играют роль своеобразной цезуры внутри самого отрывка боя. «В крови шипят» — это как бы внезапно бросающийся в глаза крупный план — неподвижный в своей видимости и тем более страшный в своем шипящем звуке. Шум и лязг перед этим, «бой барабанный, клики, скрежет» — после него. И между ними эта внезапно врезающаяся в сознание деталь слабого звука крупным планом, перекрывающая все поле битвы так, как иногда шепот над самым ухом отбрасывает вдаль целое море хаотических звуков.
По своему местоположению как раз эти строчки попадают в область золотого сечения отрывка85. В самом же отрывке еще замечательна в своей композиции перекличка двух мест, разобщенных четырьмя строками.
Это:
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает…
И известное нам:
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду…
Такова же перекличка и начала пассажа: «градом раскаленным» и «в крови шипят». Полет ядер в небе (градом) до прихода их на землю как бы пластически замыкает весь пассаж. (Мы для отчетливости рисунка взяли пеших солдат. Конные — ничего бы не изменили.)
450 Мы несколько увлеклись деталями пластической разработки самого примера. Это всегда увлекательно, когда имеешь дело с Пушкиным. Но не следует забывать тех двух положении, о которых мы хотели сказать с самого начала.
Одно из них — это замечательное умение Пушкина не только рядом пускать изображение и звук:
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет…
в замечательном ритмическом совпадении, которое заменяет непосредственную симультанность изображения и звука, как мы его имеем в пленке и фонограмме на кино. Но и еще более замечательно умение Пушкина переходить из изображения в звук и из звука в изображение. То есть вводить тему одними средствами, разрабатывать ее средствами другого измерения и, когда нужно, разработку венчать новым сдвигом из измерения в измерение — из изображения в звук. Причем в наилучших случаях переходит бросок из изображения в звук только тогда, когда изображением сказано и показано все, что можно, и действительно остается только перебрасываться в звук.
Таков именно путь и естественного возникновения голоса из действия игры и переживания. […]
Именно так чугунные шары «Полтавы», отыграв все пластически возможное, на последней ноте игры вступают звуком — шипят. И именно так же вводится кульминационная часть боя и неповторимое описание Петра:
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» — Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр.
Постепенность «подачи» Петра замечательна. Сперва — это голос. Затем — это толпа, среди которой уже Петр, но Петр еще незримый (как ядра в первой сцене [с] чугунными шарами). И только потом раскрывается Петр как таковой, или, вернее, «весь, как божия гроза».
При этом и подача сделана тем же приемом: текст, содержание слов дано в конце. Сперва дается, что он вдохновенный (свыше) и звучный. Пластический показ строится не так: «Петр выходит, толпой любимцев окруженный». Звуковой показ строится не так: «“За дело, с богом!” — раздался звучный глас Петра».
Но в обоих случаях наоборот: сперва дается понять, что есть движение, а лишь потом уже раскрывается, кто именно движется.
Сперва дается «вдохновенность» (наибольшая степень неконкретности), затем «звучность» (уже более конкретное), затем «глас» (установление, что звук этот — вообще голос). Только затем — что это голос Петра (конкретная локализация), содержание же слов вовсе в конце.
Это, конечно, не «требование ритма», а здесь дело значительно глубже. Ритмически можно было бы расставить слова и в этой последовательности. Но дело здесь совсем не в ритме. И я думаю, что эта манера подачи явлений вообще, во многих случаях характерная для Пушкина, лишний раз говорит в пользу тех соображений, которые я приводил в свое время в моем докладе на Всесоюзном киносовещании в 1935 году…
451 РАЗДЕЛ III
[Монтаж тонфильма]
Итак, в грубом делении образ того, что происходит внутри произведения, в кино наиболее четко обрисован. Изображение — в кадре. Образ — в монтаже. Но мы видели, что и кадр внутри себя, если он собирается быть художественно выразительным, должен быть единством обоих этих начал. То же самое мы уже отметили и в монтаже. Монтаж несет двойную функцию: и изобразительного рассказа, и ритмически обобщенного образа, опять-таки если это монтаж, имеющий отношение к произведению искусства.
Может быть, здесь надо оговориться еще об одном. Ведь наравне с тем осмыслением понятия ритма, которое мы давали выше, существуют еще чисто формальные его определения. Вроде повторности известного сочетания или группы через определенные и равные промежутки времени. Игра смены длительных и коротких. Ударных и неударных и т. д. И такой ритм может иметь место в монтаже!
В этом случае он не тот ритм, о котором говорю я. В этом случае он прежде всего изображение, притом изображение, не вбирающее в себя обобщенного образа того события, которое оно обобщает. Это случаи, когда марш монтируется маршевым ритмом, а вальс — вальсовым. Переходным примером будет «метафорический» монтаж, когда «похороны» монтируются «вальсом» или «вальс» — «похоронами». Это в тех случаях, когда (как говорилось выше, в разделе I) композицией переосмысляется изображение. И, наконец, тот случай ритмического обобщения внутреннего содержания, когда его рисунок, его формула вторит только внутреннему ходу раскрывающегося содержания, закрепляя его в смене и длительности интервалов напряжений внутренней динамики содержания. (Уже не нуждаясь в том, чтобы избирать предметно-изобразительную схему другого содержания, через которую выносить суждение о данном содержании. Это мы определяем как переносный метафорический рисунок ритма. Пример этому «похоронный ритм вальса», как он показан выше.)
Так или иначе, у монтажа две неразрывные функции: рассказа и ритмического обобщения рассказа. Об этом я подробно говорил в своем докладе в Сорбонне (Париж, февраль 1930 года)86.
Исходя из положения этих двояких функций, в моих учебных программах ВГИКа и в более ранних статьях виды монтажа классифицируются по двум «столбикам». В одном из них рассмотрены разновидности рассказывающего (изобразительного) начала монтажа. В другом — разновидности того, через что может пройти обобщающая образная роль монтажа, понимая эти видоизменения как видоизменения ритмического начала, которое мы выше сформулировали как предел обобщения, не выходящего в абстракцию.
Напомним эти перечисления, хорошо всем известные, так, как они приведены в моей программе курса режиссуры 1935 года87.
«Виды монтажа по линии семантического ряда:
а) монтаж, параллельный развивающемуся ходу события (примитивно информационный монтаж);
б) монтаж, параллельный ходу нескольких действий (“параллельный” монтаж);
452 в) монтаж, параллельный ощущению (монтаж примитивных сравнений);
г) монтаж, параллельный ощущению и значению (образный монтаж);
д) монтаж, параллельный представлениям (монтаж, конструирующий понятие)…»
Здесь перечислены те виды возможностей монтажа, которые возникают из сопоставления самого рассказывающего содержания отдельных кусков (изображения).
Второй столбец читается так:
«Виды монтажа по линии кинетического ряда:
а) метрический;
б) ритмический;
в) тональный (мелодический);
г) обертонный;
д) интеллектуальный, как новое качество по линии развития обертонного в сторону смысловых обертонов».
Здесь перечислены те виды монтажа, которые возникают из возможностей самого процесса сопоставления этих кусков, то есть разбираются возможности, по которым идея может претворяться не только в изображениях внутри самих кусков, но и через те различные формы и процессы сопоставления, которые возможны еще и сверх, а иногда еще и помимо только узкоповествовательных функций монтажа, то есть, вернее, повествовательных функций повышенного, обобщенного порядка (ритм, как мы его понимаем и как мы его определяли выше).
Может быть, здесь же уместнее всего сказать и о том, что переход от кино единой точки [съемки] к кинематографу «монтажному» по одной своей линии как бы еще отражал и тот процесс, который происходит на определенной стадии в развитии всякого сознания, а именно: переход от отражения самих явлений к отражению отношений между явлениями. В восторге перед этим достижением, в увлечении им монтажный кинематограф не избег в некоторых своих крайностях и перегибов «монтажного начала» как процесса отношений между явлениями иногда даже в ущерб изображению самих явлений!
Там же в Сорбонне я говорил, горячо приветствуя «явление тонфильма народу»88, а в те времена «признание» тонфильма еще было дискуссионной темой! — там же я говорил, что этот факт двойственности нагрузки есть основное раздирающее начало в монтаже. В тонфильме я видел выход из этой внутренней противоречивости двух функций монтажа. Действительно, изобразительность и ритм внутри монтажа неизбежно в конфликте. Гибкость ритма требует иногда микроскопической «резки» (вплоть до двух-трехклеточных монтажных кусков). Изобразительность куска — в первую очередь достаточной продолжительности, и ритмическое построение всегда идет с оглядкой: не утратить рассказывающего и показывающего начала, не «зарезать» изображение куска. И рассказ идет все время с оглядкой на ритм: не «зарассказаться» до потери ритмической связи нанизанных друг после друга кусков рассказа. Разгрузка монтажного куска от его временных ритмических функций была одним из замечательных прогрессивных начал, которые вводил и мог ввести тонфильм. Я подчеркиваю — временных ритмических функций, ибо совершенно ясно, что в них, в игре длительностей, лежало затруднение, о котором 453 я говорил. Ответственность же пластической ритмичности изображения в этих условиях возросшей длительности созерцания куска возрастает еще больше, и поэтому вопросу классической композиции кадра мы здесь отвели целый раздел. Но это соображение уже содержит в себе потенциально всю теорию взаимосвязи изображения и звука. Ибо здесь ритмическое начало, которому мы придали значение предельного обобщения (без отрыва в абстракцию), в тонфильме переносится из области соразмещения кусков в область нового измерения — звукового «контура», пронизывающего серию кусков, совершенно так же, как обнимающий физический линейный129* контур это делал в случае пластического изображения130* или ритмический «ход» движения — через соразмещаемые монтажные куски в случае «монтажного» кинематографа.
А это устанавливает совершенно неразрывную связь единства монтажной концепции через все три качественно различные стадии.
Это определяет место звука не как посторонней стихии, ворвавшейся в кино, а как элемента органического для кино, как дальнейшее развитие черт и принципов, заложенных в структуре образной выразительности кино. Этому помог сквозной образ двупланного проникновения друг через друга двух разных измерений одного и того [же] выразительного разрешения.
Достаточно точно известно, что хотя и весьма неполно и достаточно грубо, но до известной степени все же в качестве «Vorschule» к звукозрительному контрапункту может служить театр. В тех случаях, когда звуковая партитура в сочетании с партитурой наглядного действия стоит достаточно принципиально в поле внимания и достаточно последовательно в самой практике. С подобной закваской личного театрального опыта я и пришел в кинематограф.
Если мы вспомним ее хотя бы в объеме моей первой самостоятельной большой постановки «На всякого мудреца довольно простоты» (1922 – 1923), то придется указать внутри ее [на] чистую двупланность композиции, дважды проходящую через постановку. Посылом для стиля было простейшее исходное звено. То положение, чтобы каждое проявление артиста переходило в интенсивности за пределы самого себя. Грубо говоря, чтобы «удивление» артиста не ограничивалось тем, что он «отпрянул». Отпрянул — недостаточно; обратное сальто-мортале — вот тот объем, который предписывало ему юное буйство постановщика.
Совершенно так же разгневанный Мамаев, «готовый броситься» на карикатурный портрет на него, сделанный племянником Курчаевым, волей режиссера должен был действительно бросаться на портрет и не только бросаться, но, разрывая его, пролетать saut de lion’ом131* сквозь него. Реплика Мамаевой «хоть на рожон полезай» сейчас же материализовалась тем, что вносилась «мачта смерти», водружалась в пояс Крутицкому, Мамаева на нее влезала и делала цирковой номер «перш». Метафоры как бы разворачивались обратно в их непереносный, исходный, первичный, непосредственный прообраз в условиях буквальности, а потому вызывая комический гротескный, «аристофанический» эффект. (Таким приемом пользовался античный фарс.)
454 Забавнее, пожалуй, всего в подобном метафорическом плане решался «образ» гусара Курчаева. Идея его ничтожества, шаблонности, банальной «серийности» решалась тем, что его одновременно играли три человека: одинаково одетых, одинаково двигавшихся и говоривших хором ничтожное содержание его реплик!
Если мы вспомним здесь примеры обратной развернутости метафор в том виде, как мы обнаружили их выше, например, в разрешении сцены с Вотреном, то мы обнаружим полное единство метода. Но степень интенсивности приложения его дает эффекты разные. Недостаточность его приложения распыляет построение в натуралистическую бесформенность, механически же буквальное воплощение метафоры дает гротескно комический эффект. Здесь, если хотите, есть даже непосредственная перекличка в методе (если отнюдь не в размахе приложения метода!) с самим Островским: разве не кажутся метафорическими обозначениями его фамилии болтуна «Городулина» или суеверной старухи, живущей брехней и баснями приживалок «Турусиной», и разве сценические облики и поступки их — не развернутые метафоры фамилий, воплощенных в живые образы и характеры.
Это положение, продленное на спектакль в целом, привело к тому, что сама театральная форма полетела кульбитом и очутилась на арене условного цирка, а спектакль оказался театральным зрелищем, решенным сквозь форму циркового представления. Здесь в парадоксе обострения решалось то же самое, о чем я пишу сейчас. Театральное изображение эмоции выбрасывалось в цирковую абстрагированность движения. Так же пьеса бытовых характеров Островского перехлестывала в игру обобщенных масок итальянской комедии и ее праправнуков на современном цирковом манеже. Это удавалось потому, что Островский, работая в традиции испанского и итальянского театра, сам проделал обратное: набор обобщенных масок воплотил в бытовой характерности галереи типичных современников-москвичей. Рассуждение, внутри себя само достойное диссертации ученой маски — Болонского доктора89. Но практическое приложение его вызвало не меньшую бурю смеха и веселья, чем комические выходки самой маски.
Так или иначе, в этом первом сдвиге через предметность театра сквозила обобщенная абстракция цирка. Такова была первая двупланность этого спектакля. От театра «вниз» — к цирку. Вторая была от театра «вверх» — в кино. Не только потому, что «программной» установкой этого зрелища из смены актов, сцен и явлений спектакль был перестроен в композицию, названную «монтажом аттракционов», которая обратила в отдельные «номера» каждый фрагмент пьесы и собрала их в единый «монтаж» по образу и подобию мюзик-холльной программы. Не только поэтому, но потому еще, что самое действие к концу спектакля переходило в фильм. Мало того — во взаимную игру артистов на манеже и их же — на экране. История с похищением дневника Глумова была «обобщена» до пародийного детектива в соответствующем кинофрагменте. Мы все тогда бредили «Серой тенью», «Тайнами Нью-Йорка», «Домом ненависти» и вообще Перл Уайт90. Содержание дневника пародировало идею «Пате-журнала» — мы все увлекались тогда хроникой и первыми работами Вертова в области «Киноправды». Но забавно, что самое содержание это тоже обобщало в зрительные метафоры — буквальные, а потому комические — те ситуации пьесы, для которых страницы дневника служили исповедью. Глумов подкупал дядюшку Мамаева, давая учить себя уму-разуму: в киноинтерпретации этого Глумов кульбитом претворялся в послушного осла, покорно слушавшего его наставления. Перед Крутицким он фигурировал 455 милитаристом, и кино превращало его через кульбит услужливым наплывом в маленькую пушку. Присутствие тетеньки, под видом родственных чувств рассчитывавшей на всяческие вольности со своим «маленьким» племянником, заставляло этого саженного верзилу кульбитом через наплыв становиться крошкой-сосунком. Так театр перескальзывал в кино, возгоняя метафоры до недоступных театру степеней буквальности. И завершалось это последним штрихом: на вызовы я не выходил кланяться — я появлялся на экране, раскланиваясь своеобразным петухом Пате, в моей тогдашней гриве, достойной львиной головы «Метро-Голдвин-Майера»91!
Шкловский когда-то очень давно в брошюрке «Их настоящее» писал [об отсутствии] связи «Мудреца» с «Потемкиным»92.
Но оказалось, что связь-то есть. Если метод был парадоксом в «Мудреце», принципом реалистического письма в «Потемкине», то сейчас он перед нами стоит уже как путь к уяснению важнейших универсальных положений композиции вообще, не только на кино, но и широко за его пределами, как мы пытаемся здесь это обосновать и показать.
Но вернемся к прямой и основной нашей теме.
Таковы были предпосылки театральной «Vorschule».
Опыт этого ощущения двупланности тематического решения по разным измерениям, сквозящим друг через друга, я принес еще оттуда, и, как ни странно, в первых же шагах на кино они [то есть разные измерения] находят и тут свое приложение. Надо при этом иметь в виду, что такой парадоксальности я дал волю только однажды, в спектакле «Мудрец». Последующие работы и театре шли уже по линии внедрения и раскрытия того же метода развернутой метафоры и обобщенного образа в степенях и размахе объема реалистического письма. Но, так или иначе, уже в «Стачке», хотя все основное внимание в ней, естественно, было направлено к овладению «спецификой» кино и перевоспитанию мышления со стадии театрального на стадию кинематографического, [уже] в ней возникает все-таки то, что я мог бы назвать первым звукоопытом в моей киноработе. Это была одна сцена в «Стачке». Напомним ее. Она была в свое время встречена особенно тепло. Со стороны сюжетной, кроме известного лиризма, она ничем особенным не отличалась. Со стороны примененного трюка — тоже. По-видимому, дело шло об ощущении или предощущении того, что задача, которую я себе здесь ставил, задача, уже здесь выходящая за пределы и рамки немого кино, когда-нибудь будет решена в полном объеме. И мало того, что задача эта, решенная условно одними зрительными средствами, во взаиморазмещении этих зрительных средств устанавливала уже верную локализацию их по будущим областям и верно их соразмещала и по смыслу тех взаимных нагрузок, которые ложились на изображение и на то, что — скажем прямо — было попыткой воплощения звука средствами съемки видимого предмета. Сценой этой была «гармошка» в первой части фильма, которую «старожилы» кинематографии, может быть, еще и помнят. Состояла эта сцена в том, что под видом простой вечерней гулянки под гармонь по зеленеющим окраинам рабочего поселка, под песню, идет «на ходу» летучее совещание членов будущего стачечного комитета. Несколько аналогичных сцен конспиративных сговоров входило в первую часть фильма. Они ничем особенно не запомнились. Трюком же, приковавшим общее внимание именно к этой сцене из серии других аналогичных, был следующий. В те поры меня вообще очень увлекала двойная экспозиция. Причем двойная экспозиция предметов, резко различных по масштабности. Может быть, это были еще не изжитые симпатии к пространственной многопланности кубизма, 456 пересадкой коей в кино они до известной степени являлись сами. Но сейчас я подозреваю, что это было скорее всего увлечение в смутной еще форме той многопланностью и двупланностью, которая сейчас определяется уже не как трюковая игра, а как глубокое осмысление тех двух планов, неразрывно единых, в которых предстает всякое явление, представляя собой изображение самого явления, через которое как бы второй экспозицией просвечивает обобщение его содержания. Так или иначе, сцена «гармошки» включала в себя один такой кусок двойной, двупланной экспозиции, и именно в тех соотношениях осмысленности, как мы излагаем их здесь. И привлек он к себе внимание, конечно, потому, что этот прием был использован не в узкопластическом порядке, а как средство передать через одну экспозицию изображение, а через вторую — звук. Через конкретный предметный общий план — изображение события и предмета звучания, а через крупный план — идею самого звучания: звук гармошки. Крупный план второй экспозиции здесь по выбору весьма удачен и правилен: крупный план вообще абстрагирован в себе (будучи отрезан рамкой кадра от обычных связей). Здесь же мастерством Тиссэ это доводилось еще и до абстрагирования самой гармошки: ее фотооблик был доведен до набора сходящихся и расходящихся светлых полос. Это было движение металлических полосок, которые оковывают сгибы мехов гармошки. Эти полосы, сходясь и расходясь, ритмически колебались по центру изображения, давая просвечивать далекой глубине с белым пятном пруда в конце дорожки, по которой двигалась на аппарат маленькая группа поющей рабочей молодежи. К краям кадра глубина исчезала, и на первый план четкости и материальности проступали клавиатуры гармошки и игравшие на них пальцы. Ритм движения полос совпадал с ритмом идущей группы, и условно пластически уловленный звук как бы охватывал и обнимал пейзаж в песне, обобщая всю сцену.
Таков был предопыт «Стачки» в области звука. Экскурсы, «заезды» в область звука знали и последующие мои работы на немом кино. Так, в «Октябре» они фигурируют даже в трех разновидностях. То это видимые предметы, игравшие на том, что их улавливает слух. Таковы наши пулеметы, вкатываемые по каменным плитам пола в Смольный в канун Октября и тревожащие нежный слух тех, кто сидит за дверьми комнаты меньшевиков. Игра различного боя часов в часы осады Зимнего дворца. Дребезжание стеклянных люстр пустынного дворца от звуков перестрелки на площади и т. д. С этими изображениями было неразрывно связано ощущение их натурального звучания. Являлся звук никак натурально не локализируемый, условный и приводивший через это монтаж к усложненным барочным построениям звуковых ассоциаций: врезка арф или балалаек в крупный план меньшевиков и эсеров, говоривших на Втором съезде [Советов] и призывавших воздержаться от вооруженного восстания, когда Зимний уже фактически взят. Совершенно очевидно, что эти пластически неуклюжие построения — не более чем попытка в неимоверных трудностях через пластику передать то, что с легкостью могла бы сделать самая скромная фонограмма, давая звукообразный комментарий иронического отношения к тексту речей. Между этими двумя крайностями стоит пример совсем особый.
Во время выстрела с «Авроры» Временное правительство все еще бесконечно томительно и бесцельно заседает в Зимнем дворце. Выстрел ударяет по дворцу. Но члены правительства в картине слышат его не сразу. Раскат выстрела «докатывается» до них через тысячу комнат Зимнего дворца (они сами предполагаются забившимися в самые дворцовые недра). Решалось это тем, 457 что удар снаряда по углу дворца со всеми необходимыми монтажными акцентами для «ощущения» удара «раздирал» первый же последующий темный кадр посредством быстро открывавшейся из центра ирис-диафрагмы. Открывался глубокий вид длинного помещения (мраморная аркада, ведущая к Иорданской лестнице), затем ирис-диафрагма чуть-чуть медленнее закрывалась с тем, чтобы еще чуть-чуть медленнее вновь раскрыться, открывая на этот раз новый зал, уходящий вглубь (кажется, Малахитовый зал), и т. д. и т. д. Раскрываясь и закрываясь, последовательно раскрывая и закрывая глубокие перспективы залов и постепенно замедляясь по темпу диафрагмы и монтажной длине кусков, мне пластически удавалось ухватить ощущение затухающего эха, катящегося в глубь дворца через бесконечную анфиладу его залов.
Последняя диафрагма раскрывала последний зал, где сидели окаменевшие министры. Министры вздрагивали: эхо до них докатилось.
Это почти карикатура на Гомера. Впрочем, вполне уместная, если вспомнить «гомерическую» роль (гомерическую, как гомерическим бывает хохот!) тех персонажей, временных хозяев русской земли. У Гомера в троянских боях, куда ввязывался наравне со смертными «крик богов, достигающий до небес и проникающий в преисподнюю, крик, который потрясает горы, и город, и флот, не доходит в то же время до людей. Крик, следовательно, был так силен, что малые орудия человеческого слуха не могли его воспринять…». Так пишет Лессинг в двадцать седьмом примечании к «Лаокоону», считая прием весьма удачным.
Бытовое неправдоподобие того, что выстрел с «Авроры» Временное правительство слышит не в окно на Неву, а лишь раскатом эха по коридору, искупается его образным смыслом. Такой же «слуховой слепотой» обладала эта группа «правителей России» и в отношении раската тех событий, которые сотрясали страну в октябре семнадцатого года. Увидели и поняли они этот процесс уже тогда, когда было слишком поздно, и тогда только, когда реальная волна восставших масс прокатилась по тем же коридорам и донеслась до двери их островка посреди тысяч комнат дворца. В этом плане мчащееся по залам эхо выстрела с «Авроры» шло как бы провозвестником пути людской лавины, затопившей дворец, историческим вихрем сметая «всех, ему сопротивляющихся».
Однако такое пристальное увлечение вопросами формы и эксперименты в области ее внутри этой картины не могли не сказаться роковым образом на картине в целом. Недостаток внимания в первую очередь к осмыслению великого исторического события, стоявшего в центре ее, привел ко многим ошибкам политического порядка93. Но если за формальные искания в этой картине уплачено столь дорого, то тем более внимательно надо относиться к тому, чтобы формальный опыт ее и то живое, что было в экспериментальной ее стороне, сохранилось бы в анналах становления мастерства советского кино. Это верно и для «Старого и нового». К сожалению, верно и для катастрофы с «Бежиным лугом». Но вышеприведенные соображения заставляют меня, где это нужно, касаться ошибок моих прежних работ, но вместе с тем не останавливают меня перед тем, чтобы из опыта их в области формы черпать примеры и соображения в тех случаях, когда сами примеры не заражены ошибками трактовки истории или современности.
Так или иначе, первый серьезный шаг к тому, чтобы осознавать связь звука и изображения, приходится все же не на другие работы, а на того же «Потемкина». Уже из приведенных примеров было ясно, что еще внутри немого 458 кино многое мыслилось звукозрительно, и притом в самых разных видах использования звука: натуралистически, грубо метафорически (арфы и балалайки; в том же плане и положительная метафора строчащего пулемета, пересекавшегося с настойчивой и темпераментной речью большевика, на съезде громившего меньшевиков и эсеров) и, наконец, достаточно образно изысканно (пример с «эхом» в Зимнем дворце). По-настоящему же вопрос встал во весь рост, конечно, тогда, когда мне впервые пришлось столкнуться не с звуковой «аранжировкой», звуковым, я бы сказал, «центоном»94 из разных музыкальных произведений для «иллюстрации» фильма, а когда представился случай с музыкой, специально сочиняемой к фильму. Произошло это с тем же «Броненосцем». В 1926 году в Берлине, когда был приглашен Эдмунд Майзель95 для того, чтобы написать специальную звуковую партитуру к фильму для проката по Европе и Америке. Я в то время был в Берлине и мог дать Майзелю основные установки в отношении звука так, как я себе представлял это дело. К сожалению, не во всех подробностях, но для основного запомнившегося это удалось сделать.
Вспомним наше определение ритма, которое противостоит всем перечисленным видам формального его определения. Мы видели, что ритм для нас на всех стадиях кинематографа служил одним и тем [же] и одному и тому же. Мы всюду рассматривали ритм как предел обобщения темы, как образ внутренней динамики ее содержания.
Это имело место и внутри монтажного куска (в одноточечных условиях кино). Там именно ритм изломов линий контура был тем, что образно обобщало содержание и изображение кадра и линии, огибающей это изображение (для ряда рядом стоящих кадров мы это показали на примере прил[ожения] № …)96. Это же выпадало на долю ритма и в соразмещении масс предметов, подвижных или неподвижных внутри картины или кадра. Это же, наконец, условие разрешалось ритмом и тогда, когда мы имели дело с построением обобщающего образа через ритм световых градаций изображения (туманы в «Потемкине» и в градации внутри отдельных кадров и в сочетании этих градаций через всю цепь кадров рассвета).
Совершенно такова же роль ритма в поведении актера. Ритм является тем следующим шагом по линии обобщенной образности, который начат той метафорой жеста, о которой мы писали выше.
Здесь мы не вдаемся в подробности этого вопроса, приберегая темы, связанные с актерским мастерством, для отдельного исследования97. Но уже здесь можем сказать, что именно ритм актерского действия внутри кадра будет элементом наибольшего обобщения того содержания, которое несут его поступки.
Наконец, с предельной наглядностью через ритм особенно мощно выражалось обобщение в самом монтаже, без которого он был бы простой «безобразной» суммой последовательных фактов.
Мы не ограничивались этим положением, но исследовательски прослеживали движение возможностей внутри самого ритма. В этом смысле мы говорили о более утонченных «стадиях» ритмического начала. Так, по поводу монтажа мы приводили в одну систему с ритмом и мелодическое, и тональное, и обертонное начала.
Через обертоны изображения мы [имели] возможность установить возможности физиологической соизмеримости изображения со звуком через обертоны звуковые. Это были первые попытки прощупать соизмеримость для областей изображения и звука вообще, первые шаги по пути нахождения связей 459 более глубоких, психологических и смысловых. (Это мы припомним далее, в своем месте.)
Но здесь приходится сказать о том, что именно ритм явился и тем решающим началом, через которое шло и пришло осознавание органически образной взаимосвязи звука и изображения таким, каким оно укладывается в единую нашу концепцию о всех элементах всех фаз кинематографа.
Здесь дело шло не о том, чтобы в одинаковом ритме нарезать и монтаж и написать музыку. Нет ничего проще и бездумнее этого. Я формулировал Майзелю мое требование на музыку как «ритм, ритм, и чистый ритм прежде всего». Но вовсе не в смысле ритмических совпадений звука и изображения. Здесь было требование на ритм музыки как на область выразительности. Наиболее полно это было уловлено Майзелем и осуществлено в пятой части, к которой в основном оно и относилось, — в ходе машин «Потемкина» при встрече с эскадрой. Я уже говорил подробно о монтажном ритме как средстве поднять монтажное изображение в разряды обобщенного образа. Наиболее полно это было сделано в «Одесской лестнице» — именно на ней я иллюстрировал выше мою мысль и именно на ней до конца полно удалось прочувствовать метод. «Одесская лестница» была четвертой частью фильма. И, естественно, хотелось в следующей, завершающей, пятой части поднять интенсивность выразительности еще выше. Ритм через средства изображения был как обобщающее средство до конца использован в четвертом акте драмы. Оставалось самый принцип ритма подымать из сферы в сферу, из области приложения в область приложения. И ритм хода машин поднялся за пределы области изображения еще и в область звука. Это было настолько образно сильно и принципиально убедительно, что даже, как выяснилось позже, вошло в историю киномузыки как определенный этап, как определенная школа. Вот что, например, о Майзеле пишет Курт Лондон в «Музыке фильма» (изд. «Искусство», 1937, стр. 62):
«Наряду с Бечче наиболее интересным представляется образ рано умершего Эдмунда Майзеля… Его экспрессионистский стиль с установкой прежде всего на ритм оставлял, кроме “Потемкина”, далеко позади все картины, для которых он писал музыку. Например, хроникальный фильм “Берлин” Рутмана98 он зарезал резкой атональностью своей музыки. Позже, незадолго до конца своей короткой жизни, он стал работать несколько умереннее. Майзель остается одним из сильнейших основоположников киномузыки и в особенности ценен как создатель ритмической школы».
Я думаю, что полной ясности добивается приведенное положение, касающееся Майзеля, если мы выпишем и тот пропуск, который мы сделали в приведенной цитате: «… его первые опыты работы в звуковом кино, вскоре после которых он скончался, показали, что он, умирая, в некотором роде разделил судьбу немого кино: он, видимо, лишь с трудом и неохотно подчинялся законам звукового кино».
На первый взгляд это может показаться не только уточнением или уяснением, но скорее противоречием! Однако это не так. И второе совершенно логически вытекает из первого. Почему его «экспрессионистский стиль с установкой прежде всего на ритм», «резавший» все другие картины, не «зарезал» «Потемкина»? Потому что эта установка на ритм прежде всего непосредственно росла из требований самой картины и… самого постановщика и не как стиль, а как частное выразительное разрешение. Почему именно и как, мы постарались раскрыть выше. Боюсь, что Майзель, увлеченный эффектом этого разрешения в «Потемкине», где оно вырастало как требование из глубин самого 460 произведения, механически развил это в прием, в стиль, в «школу». В тех, других случаях его музыкальных решений, где подобное разрешение не вырастало как внутренняя выразительная необходимость, не только эффект, но и метод и школа должны были терпеть фиаско. Но мало того. Работа на обнаженном ритме как парадокс в области звукоразрешения оказалась очень удачной в случае исключительных требований «Потемкина», но она никак не могла стать или оставаться удовлетворительным приемом, всеобъемлющей «панацеей» для всех и всяческих музыкальных разрешений. Внутренняя же особенность, особенно при сличении с «Берлином» Рутмана, состоит тут в том, [что] в «Потемкине» обнаженный ритм работал как обобщенный образ, как высшая форма выражения внутреннего напряжения вполне сюжетной эмоции. Это было не обобщение ритма работающих машин, а это было обобщение того сердцебиения матросского коллектива броненосца, для которого и сами машины являлись пластическим обобщающим образом99. В этом обстоятельстве, вероятно, и заключен секрет единственного успеха «ритмической школы» киномузыки в ее сочетании с немыми фильмами. Легко себе представить, даже не вспоминая «Берлина» Рутмана, что в других случаях «экспрессионистский стиль с установкой прежде всего на ритм» служил отнюдь не высшей формой обобщения, а просто глушил уши зрителя скандированным барабанным боем и дробью по любому внешнему поводу, придираясь к внешнему ритму, в котором изображались в движении соответствующие люди, предметы, явления. В таком случае ничего, кроме бездушного механического и формалистического эффекта, эта атональность дать не могла. Но для неудачи работы в звуковом кино и этого, конечно, еще мало. Майзель застрял на области ритма как такового. Ритм же есть то, что я бы назвал пантомимической стороной в области музыки. То есть областью немого кинематографа внутри звукового. Тонфильм шагнул от пантомимы преображенного человека к человеку, выражающему свои чувства и в голосе, и в слове, и в интонации.
За пределы пантомимического начала обнаженного ритма следовало шагнуть и эстетике звука «ритмической школы». Интонация — это стадия движения тела в целом. Это утонченная степень того же выразительного движения, модулирующая звучания голоса, которые в свою очередь есть тоже движения человеческих органов, голосовых связок и пр., но движения такой частоты и тонкости, что воспринимаются они уже не зрительными перемещениями, доступными зрению, но звучаниями, доступными слуху. Ритм в музыке — это след исходных телесных движений труда или пляса, предшествовавших тому, что потом стало собственно музыкой. Голос с его модуляциями и интонациями явился таким же предшественником мелодического начала и остается источником, откуда [можно] черпать основное человечески эмоциональное содержание мелодической стороны музыки. Естественно, что резкая атональность ритмической школы с переходом в значительно более широкие возможности и утонченные требования партитуры тонфильма должна была звучать архаикой, пережитком и органически чуждым элементом. Я думаю, что на этих путях надо искать абриса того, что можно было бы назвать «grandeur et misère»132* истории музыкального творчества Эдмунда Майзеля на кино. Так или иначе, через совместную с ним работу — и именно по линии ритма, в его творчестве не осознавшего себя в драгоценнейшей своей функции и не умевшего эту функцию перенести за пределы атональности в следующую фазу 461 развития, — установился переход из второй стадии кинематографа в третью. Именно по линии ритма и того понимания, которое мы придавали как ему, так и всем его деривативам повышенных измерений.
Теперь, переходя к этапу монтажа в звуковом кино, мне прежде всего еще раз хотелось бы подчеркнуть один важнейший пункт. А именно: что музыка является, понимаемая широко и как слово, и как голос, и как звук вообще133*, не чем-то целиком новым и только со звуковым кино вступающим в кинематографию и что в предшествующих этапах кино мы вправе рассматривать своеобразной «предмузыкой» те элементы и черты, которые мы этап за этапом прослеживали. Они имеют очень определенные художественные функции. И анализ этих элементов помогает нам точно ситуировать роль звука в тонфильме и уяснить его место внутри той синтетической композиции, которой является звуковой фильм.
Дидро написал много очень ценного о… Кино. Правда, он имел в виду Кино — композитора (Quinault), хотя и не композитора кино. Композитору Кино эти высказывания несомненно были очень полезны. Но есть [у Дидро] в «Третьем диалоге», где он говорит о музыкальной драме, одно место, полезное и для кино, понимаемого как звуковой кинематограф. Во всяком случае, оно как конкретный пример нам окончательно поможет со всей наглядностью еще раз показать картину того, где и в чем гнездится элемент «музыки» в ранних этапах развития кинематографии и каким образом звуковое кино и его монтажное понимание непосредственно вырастает и связывается с этими предыдущими периодами.
Дидро описывает, как бы звучало в музыкальной драме переложение на музыку монолога Клитемнестры из «Ифигении» Расина.
О горестная мать, смежи в печали взоры!
На дочери твоей предсмертные уборы,
Отец приставил нож к девической груди!
Калхас в ее крови!.. О варвар, подожди.
За кровь невинную Зевес обрушит кары…
Уже дрожит земля, гудят громов удары:
То бог, то мститель-бог эгидой вам грозит…
(Расин, «Ифигения», акт V,
сц[ена] IV)
Таков приведенный Дидро отрывок самого монолога. А вот описание того, как бы композитор заставил зазвучать этот материал:
«Он заставит греметь гром, он даст ему метать молнии, он мне покажет Клитемнестру, угрожающую палачам ее дочери образом бога, во имя которого они проливают эту кровь; перед моим воображением, уже потрясенным патетичностью поэзии и ситуации, этот образ предстанет с максимально возможной правдивостью и силой. Я слышу уже не мать Ифигении: это грохочущий гром, это содрогающаяся земля, это воздух, сотрясаемый ужасающим грохотом».
(Дидро. «Третий диалог»).
Разберемся.
Итак, тут три потрясения:
1) патетичность ситуации,
462 2) патетичность поэзии и, наконец,
3) переложение в музыку, где «этот образ предстанет с максимально возможной правдивостью и силой».
Здесь изложены как бы три фазы состояния материала в условиях театра.
1) Ситуация — сырье — анекдот — сам по себе патетический по содержанию.
2) «Поэзия», то есть первичная его патетическая обработка средствами композиции — литературной в данном случае.
3) Переложение в музыку, то есть перенесение уже поэтически «оформленного» материала на еще высшую ступень нового качества, еще большей мощности и впечатляемости.
Причем последний вид имеет еще ту особенность, что в нем он слышит «уже не мать Ифигении», а целый космос грохота. То есть тему гнева и ужаса Клитемнестры, возведенную в предел обобщения. И собственно «цель» переложения в музыку и ощущается как это желание дать сквозь изображение поведения и поступков Клитемнестры еще «космическое» обобщение (здесь чисто эмоционального порядка). Гнев и Ужас с большой буквы; Гнев и Ужас сквозь гнев и ужас Клитемнестры.
И именно это и окажется образом, который «предстанет с максимально возможной правдивостью и силой». Помимо «силы» здесь правильно отмечена и «правдивость», то есть реализм в самом высоком его понимании, а не просто «бытовая правда». Основной же чертой реализма и является то положение, что сквозь единичное и частное проступает обобщенное и общее…134*.
Я думаю, что не будет пустой игрой ума или формальной аналогией, если мы укажем, что точно такое же состояние материала и по таким же трем стадиям мы имеем в кино. Ведь сквозные, общие закономерности остаются верны и для него.
И не только в кино в целом, которое мы уже знаем по трем его фазам: кино единой точки [съемки], кино сменяющихся точек [съемки] и кино звуковое, которые во всей полноте и совершенстве вторят этому разделению Дидро. Но и внутри каждого из этих этапов мы имеем те же три взаимоотношения.
Действительно. Пройдем под этим углом зрения через то, что нами изложено о первых двух этапах развития кино: о кинематографе единой точки съемки и о кинематографе сменяющихся точек [съемки] (вульгарно называемом «монтажным» кинематографом).
1. Кино единой точки съемки.
Первое ушло бы на… титр. (Например, «В городе вырастали баррикады…»)
Второе я отвел бы в условия пластической композиции. Где все ритмически согласовано и пространственно уравновешено. (Например, композиция баррикады № 1).
А третьему я отвел бы тот случай в пластической композиции, когда она, помимо всего этого, являет еще и обобщенный образ того, что лежит в основе изображения. (Например, композиция баррикады № 2. Перефразируя слова Дидро в применении к принципу ее композиции, мы могли бы сказать: «… Я вижу уже (не только) баррикаду: это борьба, это наступление, это столкновение двух сил…»).
Этот тип композиции был бы как бы переложением на неподвижную музыку, неся в себе то же обобщение, какое несет музыка в «заказе на нее» Дидро.
463 2. Кино сменяющихся точек съемки.
Первое ушло бы на… кусок, снятый с единой точки. (Например, информационный общий план — «бой на баррикадах».)
Второе я отвел бы под логически последовательные монтажные куски, раскрывающие развертывание и ход баррикадного боя. Причем монтажные куски последовательно показывали бы замечательно спланированные и бесподобно сыгранные эпизоды баррикадного боя, преследуя только эту цель обстоятельного показа.
И, наконец, третье я вижу в условиях такой монтажной композиции, где смена, соотносительная длина и соответствующие изображения кадров еще и сами уже создают динамический образ ощущения боя. То есть динамическую пластическую музыку из ритма и тона (живописно понимаемого) сменяющихся кусков, которая лежит как симфония (на ту же тему) под изображением события. («Механическим» помощником в этом деле была аккомпанирующая музыка в немом кино. Этой музыке приходилось либо досоздавать отсутствующее в сцене обобщение, либо при наличии его — этот именно образ перелагать в звуки. Скачок отсюда к ощущению звукомонтажа в тонфильме уже легок и отчетлив.)
Пробежим по первой фазе и второй внутри его [тонфильма].
1. Первая — это был бы голос диктора, сопутствующий проходящим кадрам разъяснением.
Родной брат диктору — бытово-синхронный звук (звонок, который виден и звонит; человек, который в кадре и говорит; костер, который горит на глазах у зрителя и трещит): он такой же звуковой комментарий к видимому явлению (а если хотите, зрительный комментарий к слышимому явлению)
2. Вторую бы я отдал под грамотную разверстку звукозрительного контрапункта в звукоизобразительном изложении драмы, драматического события. Умелое введение в действие сюжетно-мотивированной музыки, сменяющей слово, грамотное использование «захлестов» и т. д. Все это не без ритмической стройности композиции, вторящей ходу, движению драмы. (Пример на это см. приложение — разработка отрывка из «Анны Карениной».)
3. И, наконец, третья. Но на третьей мы можем остановиться подробнее, ибо третьей и посвящен весь III раздел! Здесь положение совершенно так же отчетливо.
Ту функцию, которую играл обобщенный композиционный контуров отношении изображения в первом этапе кино.
Ту функцию, которую играл обобщенный образ явления, сквозящий через группу монтажных кусков в этапе так называемого монтажного кино.
Эту же функцию обобщенного образа по отношению к изображенному явлению должна играть музыка.
Конечно, вполне допустим и обратный случай: тогда изображение играет роль обобщенного образа по отношению к звуку. Этот случай [встречается] реже. И это лежит в самой природе музыки и изображения. Первая менее изобразительно конкретна и предметна и больше приспособлена к обобщению. Второе с большим трудом достигает обобщения, зато намного вещественнее первой. Наиболее верным же чтением окажется фактический случай: посменности, поочередности этой роли то за одним, то за другим.
Таким образом, если придерживаться нашей условной классификации с только что сделанной оговоркой, мы получим для всех трех фаз кино как бы одну объединяющую таблицу.
464 Вспомним, что полный образ создается из единства изображения и обобщенного образа. И тогда мы можем под рубриками «изображения» и «образа» условно распределить средства воздействия кино таким путем.
Сделана таблица совершенно по образу и подобию того, что мы могли бы сделать в отношении актера и его роли. В графе первой стояло бы «личные качества Гордея Торцова», во второй — «типичность московского купца времен Островского». Взаимное пронизывание обоих и создавало бы тот неизгладимый полный образ, который дан в такой полноте в самой пьесе Островского как литературный материал и который требует такой же полноты реалистического показа его в чувствах и действиях актера. Совершенно в этих же принципах составлена по отношению к другим областям воздействия и выразительности кино таблица:
|
|
Изобразительное начало |
Обобщенный образ |
|
Кино единой точки съемки и монтажный кусок |
Изображение предмета |
Контур его (или соразмещенне элементов, или соразмещение света по элементам и т. д.) |
|
«Монтажное» кино |
Кадр |
Монтаж |
|
Тонфильм |
Кадр — монтаж |
Звук (шум, голос, слово, музыка) |
Деление — условно, ибо возможно как смешение, так и перемещение — переход друг в друга этих функций. Только с непреложным соблюдением одного условия — что воплощение их непременно обусловливается разными измерениями, сферами и средствами. Принадлежность их к разным категориям восприятия неизбежно требует и их локализации в разных по материалу средствах выражения. (Несоблюдение этого условия приводит к пластическому конфузу, вроде случая с портретом Льва Толстого у Репина.)
Но одно совершенно очевидно: принципиальная одинаковость при качественной особенности картины во всех трех случаях.
Обобщение выходило в линию контура изображения. Обобщение выходило в линию движения, по которой сочетались монтажные куски. (За пределы куска — в сочетание кусков). Обобщение выходит за пределы монтажного сочетания кусков в пронизывающую их линию движения музыки100.
Любопытно, что по всем трем фазам и само понятие движения переживает качественные сдвиги и с каждой новой фазой вступает в новый вид движения.
«Движение» в первом случае — движение контура — по существу, чисто условное понятие: ведь контур неподвижен. Он фактически не перемещается. Перемещается глаз вдоль контура. И если мы говорим о движении контура, то, по существу, это не более как отраженное движение нашего глаза, и мы возвращаем контуру то движение, которое он заставил проделать наш глаз. Мы условно снабжаем этот контур процессом движения. Сам же излом контура внутри категорий движения будет, конечно, следом некоего движения, закрепившего в нем выразительность своего хода, а не сам акт движения. Но 465 через воссоздание движения по его следу мы так же соучаствуем в движении, как если бы оно происходило перед нашими глазами.
Второй случай характерен движением как таковым в его наиболее очевидной и механически простой форме: мы здесь имеем движение как перемещение. (Известно, что Плеханов, например, иного представления о движении вообще не имел.)
Третий случай интересен тем, что в нем принцип движения предстает перед нами в новой фазе. Движения как перемещения и здесь нет (мелодия движется иначе, чем рояль, перетаскиваемый грузчиками), хотя, в отличие от первой фазы, здесь есть, однако, последовательность во времени. Само же движение перемещено в более высокую фазу — в область колебаний. Мы дальше увидим, что это верно не только для области звука и музыки, в природе которых это самоочевидно из законов физики. Мы увидим, что к этому началу и качеству примкнет и пластическая слагающая кинопроизведения как новый вклад данного этапа в добавление к тем первым двум видам движения, которых этот этап отнюдь не теряет. Но гораздо более примечательно, конечно, то, что закономерность, приведенная в таблице выше, нерушима и внутри каждой из этих областей в отдельности. Мы это уже показывали в своем месте для случаев внутри линии контура и внутри монтажа. Она же оказывается верной и внутри третьей стадии.
Начнем со слова. Для него фраза является тем же, чем является монтажный ход через группу кадров. Изобразительные фрагменты — слова — сочетаются в ней в то или иное обнимающее их осмысление. Это — очевидно135*. Но кино имеет дело не с фразой просто, а с произнесенной фразой. И интересно, что произнесение фразы, то есть интонация, следует в отношении фразы совершенно тем же условиям, о которых мы распространяемся так подробно. Ведь именно интонация есть то, что решающим образом придает окончательный образ, осмысление и обобщенный смысл тому, чем является сочетание слов, объединенных в фразу. Вспомним то бесконечное количество образных осмыслений одной и той же группы слов — одного и того же слова! — которые достигаются только путем различных интонаций, которые по-своему обобщают элементы изображения, данного фразой. Взять хотя бы предельный случай противоположного осмысления, даваемого только средствами иронической интонации. И вспомним то бесконечное количество образов, которые способны рождаться из произнесенной фразы только благодаря разному «музыкальному» ее интонированию.
Есть целые литературные ходы, рассчитанные целиком на интонацию, которая соответственно с этим общим ходом оформит «вовсе одинаково» написанные слова. Такое, например, построение, как
Едет, едет, едет к ней,
Едет к милочке своей,
не говоря уже о знаменитом месте из «Паровозной обедни» Василия Каменского101
Шпалы, шпалы, шпалы, шпалы,
Шпалы, шпалы, шпалы мы…
Первое читается прямо как монтажный лист, где три первых «едет» — как бы езда в трех разных планах с трех разных точек, слагающихся в образ 466 «езды», которая во второй строчке уже дается образом того, что это кто-то любящий «к ней» едет… «Шпалы» Каменского кажутся снятыми с движения, со все убыстряющимися темпами этих мчащихся шпал.
Это сразу же приводит на ум еще пример из близкой области: припев одной из песенок Поля Робсона о том, как девушка отказывает Джону обвенчаться с ним. Каждый куплет заканчивается отказом:
No John, no John,
no John, no John,
No John, no John, no John, no-o…
А это нас смыкает уже с самим жанром песенки, особенно французской, где пять-шесть куплетов неизменно заканчиваются одной и той же строчкой. И все словесное полунапевное искусство diseuse — и несомненно непревзойденной из них Иветты Гильбер102 — состояло в искусстве интонационной фразировки и нюансах этого одинакового рефрена. Привожу как пример «Les jeunes mariés» из «Chansons ironiques» Xanrof’а136*. Это целая серия куплетов на тему молодых новобрачных, просыпающихся после первой ночи. Тремя строчками в двух чертах обрисован тот или иной образ. Одна растерянна и плачет. Другая говорит: «Только и всего?» Третья: «С моим кузеном было веселей» и т. д. и т. д. Четвертая же строчка неизменно — «Les jeunes mariés», и все искусство в том, чтобы в интонацию этой строчки включить отношение к образу той или иной «молодой», ее образ и соответствующее ироническое перемигивание с аудиторией137*. Это — в ироническом плане то же самое, что делает в патетических фугах Бах. Текст в них, как все мы помним, тоже одна всего лишь строчка: «Dies irae» или «Te deum laudamus»138*. И целые массивы его произведений строятся на бесконечном разнообразии звуковой «интонационной» разработки, оркестровой и хоровой в данном случае. И, таким образом, интонация в отношении группы слов текста играет ту же роль, что контур в изображении или линия пути сквозь монтажные куски. При этом она сама также распадается на звукоподражаемую изобразительность139* и на ритм, обобщающий эмоцию и смысл, который придается тем или иным произнесением одного и того же сочетания слов. Это же дело совершенно в том же смысле имеет место в музыке.
Соединительным звеном здесь служит то, что основной нерв музыки — мелодия есть сама по себе предельное обобщение той же человеческой интонации. Мы этого отчасти мимоходом коснулись. Скажем об этом здесь несколько пространнее. Об этом известном положении особенно проникновенно писал еще Дидро103.
Но на этом дело не останавливается, и самое интересное в музыке, конечно, то, что внутримузыкальный контрапункт тоже целиком отвечает тому, что происходит с переходом материального контура в умозрительный «путь среди кусков», когда кино передвигается из одноточечной стадии в многоточечную 467 (как организм из одноклеточной стадии в многоклеточную!). Сопоставление мел одических ходов тоже родит некоторую обобщающую, материально не даваемую, а возникающую «линию» — линию гармонии:
«… Истинный контрапунктический стиль в той его форме, как нам дал его воплощение Бах, — характеризуется превалированием элемента мелодического над гармоническим. В истинном контрапунктическом стиле отдельные мелодические линии являются формирующим, образующим элементом, а гармоническая ткань является как бы результатом сплетения мелодических голосов. Гармоническая ткань является последствием, вторичным явлением, сопутствующим контрапунктической ткани. В сети сплетающихся голосов, живущих каждый отдельной жизнью, рождаются фантомы проходящих гармоний, образованных соединениями мелодий» (Л. Сабанеев. «Скрябин», ГИЗ, 1923, стр. 97).
|
|
Изобр[азительное] начало |
Обобщенный образ |
|
Кино един[ой] точки [съемки] |
Изображ[ение] предмета |
Линия контура |
|
Линия контура |
Изобра[зительный] контур предмета |
Ритм изломов |
|
Монтажн[ое] кино |
Кадр |
Монтаж |
|
Монтаж |
Рассказ[ывающие] элементы монтажа |
Ритм монтажа |
|
Звук[овое] кино |
Кадр — монтаж |
Звук |
|
Звук [:] |
|
|
|
Слово — фраза |
Предметное содержание слова и фразы |
Мелодия фразы |
|
Мелодия |
Мел[одия] фразы |
Ритм |
|
Музыка |
Звук — слово, интонация человеч[еского] голоса, музык[альная] мелодия |
Интонация, музык[альная] мелодия, гармония из контрапункта мелодий |
|
[Соответствующее явление в области выразительности жеста] |
Утилитарное содержание выразит[ельного] жеста |
Метафора содержания жеста |
|
|
Метафора жеста |
Ритм жеста |
Объединив в таблицу и эти свойства внутри каждой из областей, мы получим расширенную картину таблицы, помещенной выше.
Для нее имеют силу те же самые оговорки, которые сделаны для предыдущей. И, разглядывая ее, следует сугубо помнить основное и главное. А именно то, что разъятость в элементы изображения и обобщения сделана здесь только с целью исследования. И что весь секрет подлинности произведения, то есть реалистической формы его, состоит в том, чтобы внутри произведения 468 этой разъятости не было, а изображение и обобщение были бы в нем во взаимном проникновении и единстве. Это же относится и к самим составляющим произведение, размещенным в этой таблице по номерам.
Из всего сказанного выше мы, наконец, получаем замечательную картину трех фаз истории монтажа. Не говоря уже о том, что самое понятие монтажа из грубого понимания «резки и склейки» подымается до очень высокого понимания его как разложения явления «как такового» и воссоединения его в новое качество, в условия взгляда на явление и отношения к нему — в условия социально осмысленного обобщения явления104.
Первая фаза. Изображение неподвижно. Обобщение ритмически движется внутри изображения (условно) по изломам обнимающего его контура.
Вторая фаза. Изображение подвижно. И микроскопически и макроскопически. Меняются кадрики в кадре. И меняются кадры в последовательности монтажных кусков. Линия обобщения — в ритме умозрительной линии сочетания этих кусков.
Третья фаза. Изображение неподвижно. Обобщение ритмически двигается в мелодии и гармонии пронизывающей его одновременной звукосоставляющей.
Все три фазы здесь описаны в предельном заострении своих характеристик. В этом «очищенном» виде они особенно разительны как последовательные стадии единого диалектического процесса развития. Третья — как бы возврат первой. Распадение статического единства первой в динамику кусков. Извлечение из этого принципа динамического единения фрагментов распадения. Воссоединение в новое динамическое единство, где как бы объединены принципы обеих предыдущих стадий: и неизменность и динамическая изменяемость. Это интересно познавательно и теоретически.
Совершенно понятно, что практически третья фаза понимает неподвижность не абсолютно, а условно, то есть так, что если вполне возможен (и на практике, к сожалению, чрезмерно частый случай!) неизменный длительный изобразительный кусок со сложнейшей звукопартитурой, то совершенно так же возможен контрапункт этой партитуры с весьма монтажно сложным построением изображения.
Это — последние соображения общего порядка, на которых мы хотели остановиться, прежде чем целиком погрузиться вовнутрь третьего звукозрительного этапа кинематографии — в область тонфильма, не только идущего на смену первым двум, но и синтетически вбирающего в себя их опыт. Вот почему мы так обстоятельно задерживались и на первых двух. Это не только экскурс в историю становления видов — это же и разбор существеннейших слагаемых тонфильма. Без ориентации внутри них нечего и мечтать ни о каком не только совершенном по композиции, но просто грамотном тонфильме!105
«Девушка как луч»
[…] Методологически дело «крайне просто».
Один и тот же образ должен определять решение как зрительное, так и звуковое…
Задача: под выход девушки нужна музыка.
Но: под выход девушки «как таковой» музыки написать нельзя.
Совершенно так же, как выход девушки «как таковой» ни поставить, ни тем паче снять нельзя.
469 Так система Станиславского справедливо учит, что человек не может войти в дверь, если…
Впрочем, предоставим слово самому автору системы:
«… Don’t act “in general”!..»140*
Как положение вообще.
А вот в более подробных изложениях:
«… Let us say that one of the person of the play has to come into a room… Can you walk into a room?» asked Tortsov.
«I can», answered Vanya promptly.
«All right then, walk in. But let me assure you that you cannot do it until you know who you are, where you came from, what room you are entering, who lives in the house, and a mass given circumstances that must influence your action»141*.
Цитируя эти положения, мы сами отнюдь не ломимся в «открытую дверь»! Ибо —
для нас при всей необходимости этого это еще далеко не достаточно.
Этого хватает для актера. Для его личного действия, но не для «оформления» этого входа. Молчит композитор. Молчит осветитель. Молчит мизансцена.
И нужен хотя бы ничтожнейший рудимент образа, хоть самая завалящая метафора в обозначении выхода девушки, чтобы могли включиться все эти дремлющие силы «оформления», которые больше чем просто «изображение» факта. И, что примечательно, эта метафора, это оброненное сравнение, это произнесенное образное обозначение мгновенно в равной мере по всем областям, в равной мере служит тем обобщающим ключом, через который синхронно сойдутся все вне этого несоизмеримые области, как действие актера, обрез кадра, строй мелодии, распределение световой палитры и т. д.
Скажите самое банальное, самое тривиальное. Но, конечно, непременно отвечающее содержанию, сюжету, смыслу и идее данного фрагмента вещи в целом.
Скажите: «Девушка ворвалась в душную атмосферу комнаты, как луч света». И уже каждый знает, что ему делать. Ибо даже в этой тривиальности есть элемент достаточно сюжетно конкретный, но вместе с тем и достаточно абстрагированный и обобщенный, чтобы оставаться общим для всех областей оформления, не сковывая при этом ни одной из этих областей по линии свойственных ей средств воплощения.
Эта тема «проникновения одной стихии в среду другой, противоположной ей» — есть в равной степени обобщенное задание для композитора, для живописца светом, для подборки типажа, для выискания графика мизансцены, несущего эту мысль, как и для графика пластической композиции кадра, расчерчивающего ту же мысль по плоскости экрана. Больше того, даже как обобщающее осмысление образа драмы в целом: недаром же Добролюбов дистиллирует образ судьбы Катерины в «Грозе» в заглавии статьи «Луч света в темном царстве»!
Итак, при наличии изображения в звуки перелагаем именно «образ», а не «изображение», которому может вторить только звукоподражание. И здесь 470 я не могу не вспомнить курьезного инцидента в период, когда тонфильм еще существовал лишь как «немой под музыку». Но уже и тогда затрагиваемая проблема вставала неоднократно, например, в связи с разбором вопроса о музыке к «Потемкину» в юбилейной комиссии 1905 года (в 1925 г.). Покойный Л. Сабанеев яростно выступал против задачи подбора (или написания) музыки к этому фильму. «Чем я буду иллюстрировать в звуках… червей! И вообще это недостойно музыки!» Он упускал из виду главное: что и черви-то сами по себе не решают дела, и не гнилое мясо, а что они сами являются помимо историко-бытовой детали главным образом еще и отдельными образами, через которые вырастает в зрителе ощущение социального угнетения масс при царизме! Ну а это уже как-никак тема благодарнейшая и благороднейшая для композитора!
Не могу не вспомнить и другого курьеза — на этот раз с фильмом «Октябрь».
Здесь как бы противоположность первому примеру. Единством же для обоих служит… равная нелепость! Здесь случай чрезмерной погони за изображением, смешиваемым чисто формально с образностью. [Погони], доходящей до курьеза. Известно, что в этом фильме, злоупотреблявшем монтажными ассоциациями, Керенский в Зимнем дворце смонтирован с гигантским золотым павлином (вращавшимся на громадных часах, поднесенных, кажется, Потемкиным Екатерине II). Увидав этого золотого павлина, мой рьяный аранжировщик музыки, не в пример Сабанееву, немедленно нашел куда ориентироваться: сквозь пенсне, не совсем разобрав породу вращающейся птицы, он тут же предложил использовать… «Золотого Петушка»! Но еще «богаче» оказалось его предложение к сцене, где убитая лошадь повисает на половинке разведенного Дворцового моста. «Лошадь в небе… Лошадь в небе… Давайте используем… “Полет Валькирий”!» Факт!
Здесь в разбираемых методах оформления, как и везде и всюду, вас караулят неизбежные Сцилла и Харибда: Чрезмерность и Недостаточность. Чрезмерность и недостаточность того, насколько это обобщение должно и может сквозить через изображение. На полюсе недостаточности — «бытовизм». Да еще такой, что музыка (к тому же еще лишенная в этих условиях возможности быть внутренне синхронной с действием!) окажется совсем неуместной, если не будет бытово оправдана наличием той шарманки, под которую войдет девушка!
На полюсе чрезмерности это выведет действие из реального плана бытовой убедительности: в избе заиграют символы тьмы и света, мрака и сияния, в обликах действующих лиц появятся лики Пана и пасхального агнца… Читатель уже уловил, что я цитирую собственные перегибы обобщения из неудачи моего фильма «Бежин луг».
Обозначение «сквозить», пожалуй, самое верное. Оно в равной степени исключает «незаметность» и «выпирание».
Если в «Бежином луге» мы имели подчас одну крайность (чрезмерность), то другая крайность наличествует во многих и многих других картинах, которые мы видим на экране. В этом лежит секрет того, что ни один почти пейзаж, проходящий под музыку в наших фильмах, внутренне не синхронен с ней. Счастливым исключением и по сей день, кажется, остается Днепр в «Иване» Довженко. И почему? Да потому, что, вероятно, эмпирически, а не методологически сознательно и автор зрительной поэмы кусков и автор песни невольно каждый по своей области старались реализовать несравненный поток гоголевских образов Днепра из «Страшной мести» («Чуден Днепр…»).
471 Я говорю — эмпирически, ибо иначе не могла бы иметь места та абсолютная звукозрительная неудача (в композиционном смысле), которая имеет место в аналогичном построении в «Аэрограде». Там бег, пейзажи и песня чукчи ничего общего с внутренней синхронностью не имеют и никак в звукозрительную симфонию не складываются.
Это новое разобранное условие для третьей фазы развития кино совершенно точно вторит условиям, идущим по первым этапам.
Во всех трех случаях обобщения, то есть выходящие за непосредственные пределы самого случая, и художественно оказывались разрешаемыми через элементы другого измерения, другой сферы, чем основные средства изложения.
Это был график контура изображения и ритмические соотношения этих графиков, в отличие от самого изображения (в первом случае).
Это был слагающийся обобщенный образ явления предмета или процесса, на самой пленке не укладывающийся, а складывающийся в суммирующем сознании воспринимающего (в монтажном кинематографе).
Наконец, в разбираемом случае наиболее совершенного вида кинематографа мы находим ту же черту, но снабженную и наиболее совершенным видом реализации: она принадлежит к еще более отличной сфере измерения (звук) и притом имеет самостоятельную техническую базу своего бытия — фонограмму. Ее легче держать в руках, чем ускользающий контур, которым пригвождается реальный предмет к поверхности экрана. Она при условии такого же возникновения лишь в процессе пробега ленты более «материальна» в аршинах и вершках, чем скользящее обобщение массы монтажных кусков в монтажной фразе. Но тем более в ней опасности «быть самой по себе», а не органически слитой с изображением (см. пример с пробегом чукчи в «Аэрограде»).
Итак, таково положение и соотношение звука и изображения в системе звукового кино.
Мы видим, что как раз это условие и положение занимает в этой системе звукового кино то самое место, которое в т[ак] н[азываемом] монтажном кино выпадало на долю и смысл сочетания явления из массы монтажных кусков.
С другой стороны, мы видели, что эта монтажность в своей предыдущей стадии — в одноточечном кино — тоже уже зачаточно существовала во взаимоотношении отдельных элементов изображения, как бы «собранных» на график композиционного обобщения.
Поэтому мы вправе сказать, что основа звукозрительного монтажа лежит именно в вопросе композиции синхронности так, как мы ее понимаем и здесь излагали.
Сличая снова три этапа, мы видим, что на первом монтаж имел качество одновременности. На втором — последовательности. И на третьем («как бы возвращение к первому») — снова одновременности. Потому что в силу сказанного о монтаже мы в звуковом кино прочтем и такой кусок: на девяносто метров одним куском неподвижна сгорбленная фигура женщины, в то время как музыка проносится всей внутренней борьбой этой женщины. Это вполне отвечает тем определениям, которые мы дали выше.
Но здесь не только одновременность. Этот этап «как бы вбирает и оба предыдущих». Он одновременно и поступательно-последователен: «монтажность» (в смысле второго периода) в данном «неподвижном» случае перенеслась лишь в область другого измерения — в «бег» звука. (NB. Кроме того, где полагается, ни в коей мере не убирается и зрительная компонента, смонтированная по всем условиям монтажа.)
472 Но, так или иначе, основным стержнем овладения культурой монтажа наравне с другими дисциплинами внутри тонфильма — новой статьей в овладении мастерством монтажа на новом этапе — остается (наравне со всеми показывающими и повествующими — прежними функциями его) проблема овладения внутренней синхронностью от цельности звука (образа) и цельности изображения (образа) — в целом (вещь в целом) до, грубо выражаясь, внутренней синхронности «куска музыки» с «куском фотографии».
В целом мы это осветили и обосновали.
[…] И тут, на основании только что изложенного, я сразу же хочу поставить основной тезис:
Проблема разрешения вопроса звукозрительного монтажа есть проблема… цвета в кино.
Другими словами — до конца решить проблему звукозрительной подлинной синхронности — а следовательно, и проблему монтажа тонфильма — способно только цветное кино106 (и стереоскопическое, как подтема внутри проблемы пластики будущего кино).
[Толстой. «Анна Каренина». Скачки]
Для иллюстрации того, что мы понимаем под звукозрит[ельным] контрапунктом, примером возьмем не музыкальный — трудно описываемый, а более легко излагаемый — «текстовой». Технически мы будем в таком случае иметь дело с тем, что принято называть «захлестом».
Как большинство «специфических» черт кино, и этот прием имеет своих предшественников в ныне смежных, а по времени предшествующих областях искусства.
Возьмем отчетливый пример из литературы.
Толстой. «Анна Каренина». Скачки.
«Генерал-адъютант осуждал скачки. Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо.
Когда началась четырехверстная скачка с препятствиями, она нагнулась вперед и, не спуская глаз, смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского, и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом за Вронского, но еще более мучилась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями».
Экранизация, диктуемая самим отрывком, по-видимому, без особого мудрствования представится примерно так:
1. Генерал-адъютант и Каренин. Слова обоих.
2. Каренин отдельно. Слова Каренина.
3. Анна смотрит. Слова Каренина.
4. Вронский подходит, садится и т. д. Слова Каренина.
5. Анна. Слова Каренина.
6. Каренин отдельно. Слова Каренина.
№№ 1 и 2 явно описательно-информационные. С № 3 начинается собственно «игра». Самый текст того, что говорит Каренин, в силу условий литературного письма дается Толстым дальше. В нужных местах мы его приведем.
Как видим, №№ 3, 4, 5, 6 все ложатся на этот текст каренинских слов.
473 Режиссер здесь располагает двумя рядами средств: самим текстом и интонационным обращением с этим текстом. Причем текст надо ощущать как следующую за интонацией стадию усиления выражения. То есть выражение сперва может быть лишь в интонации произнесения слов. Затем, вырастая, выражение может уже выливаться и в определенные слова. Я это здесь подчеркиваю, потому что подобное изменение внутренней динамики самого писаного текста как раз здесь и имеет место. Усиление интонационного рисунка, вторящего усилению текста, будет еще усугублять эффект (если это окажется нужным).
«Опасность в скачках военных, кавалерийских, есть необходимое условно скачек…». Это начало слов Каренина может выгодно предшествовать плану Карениной. Содержание слов естественно приковывает внимание Анны, и без того встревоженной и волнующейся.
«Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу и животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение…»
Абзац, несомненно ложащийся на крупный план Анны. Нудность, бесцветность и тягучесть ритма недаром подчеркивается иронической ремаркой Толстого:
«А как ребенку естественно прыгать, так и ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил…»
Эти слова целиком ложатся на игру Анны, заданную выше:
«Анна слушала его тонкий ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо».
Дальше, если целиком идти за Толстым, нужно будет вставить между № 3 и № 4 «перебивку» на игре княгини Бетси Тверской. По-видимому, лучше всего группой. М[ожет] б[ыть], с Анной на первом плане и Карениным, Бетси и генерал-адъютантом в кадре.
Продолжение слов Каренина: «… Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы видим только самое поверхностное.
— Не поверхностное, — сказала княгиня Тверская. — Один офицер, говорят, сломал два ребра.
Алексей Александрович улыбнулся своею улыбкой, только открывавшею зубы, но ничего более не говорившею.
— Положим, княгиня, что это не поверхностное…»
Снова крупный план Карениной на продолжении слов Каренина: «… но внутреннее. Но не в том дело…»
(NB. Крупный план Карениной и ее облик на первом плане группы по абрису и ракурсу должны быть близки друг к другу, дабы переход из плана в план происходил бы с минимальным рывком, с тем чтобы не разрывать тягучего ритма каренинских слов.)
Продолжение текста каренинских слов уже ложится на «… подходившего и садившегося Вронского…».
«… Не забудьте, что скачут военные, которые избрали эту деятельность, и согласитесь, что всякое призвание имеет свою оборотную сторону медали. Это прямо входит в обязанности военного…».
Слова хороши здесь тем, что в них имеется как бы предвестие на катастрофу («оборотную сторону медали»). При храбрящейся посадке Вронского (он тоже нервничает) это сопоставление с текстом дает необходимую напряженность. Текст и действие согласуются на расхождении.
474 «Оборотная сторона медали», которая «прямо входит в обязанности военного», — снова реплика, заставляющая Анну вслушаться в слова Каренина — и естественный ввод крупного плана ее, слушающей.
«… Она мучилась страхом за Вронского, но еще более мучилась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями…».
Неприятные же интонации мужа усиливаются и менее приятным набором самих слов, как нельзя лучше вторящих возрастающему чувству неприязни и волнения у Анны. Голос Каренина, видимо, звучит громче и подчеркнутее. Резче скандирует.
«… Безобразный спорт кулачного боя или испанских тореадоров есть признак варварства. Но специализированный спорт есть признак развития…».
Между № 5 и № 6 две вставки:
1. Реплика Бетси и другой дамы. Видимо, группой: Бетси, Анна («не спуская бинокля, смотрела в одну точку») и другая дама.
2. Переброска реплик «высокого генерала» и Каренина. Еще более общим планом.
(«… Алексей Александрович поспешно, но достойно встал и низко поклонился проходившему военному.
— Вы не скачете? — пошутил ему военный.
— Моя скачка труднее, — почтительно отвечал Алексей Александрович.
И хотя ответ ничего не значил, военный сделал вид, что получил умное слово от умного человека и вполне понимает la pointe de la sauce142*…»).
И снова возвращение к соответствующему плану Алексея Александровича. Здесь любопытно то, что эту часть реплики исполнителю самому приходится играть как бы под «захлест»… собственных слов.
Слова: «Есть две стороны… — исполнителей и зрителей; и любовь к этим зрелищам есть вернейший признак низкого развития для зрителей, я согласен, но…».
Для игры же под эти собственные слова есть весьма примечательное указание:
«… нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движение свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так и ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил…»
Сыграть это можно только на видимом крупном плане под собственные же слова. Таким образом, на протяжении этого отрывка нам пришлось столкнуться с четырьмя видами «захлёстов».
1. Обыкновенное сочетание слов с игрой произнесения их (№ 2).
2. Игра под слышимые актером чужие слова (№ 3 и № 5 в разной степени интенсивности. № 5 примечателен еще «тройной» игрой: 1) основное состояние Анны; 2) прикованность слухом к закадровым словам; 3) прикованность глазом к закадровому действию — Вронскому).
3. Игра под аккомпанемент слов, не слышимых актером, а лишь зрителем (№ 4).
475 4. Игра под собственные слова, но как бы «отдельно» произносимые. Игра и слова, идущие и по разным регистрам.
Мы сделали эту примерную разверстку пока лишь по литературным признакам, то есть сочетая слова и действия по разным их литературным признакам. Ритм слов. Интенсификация словесных образов (тореадоры, варвары, кулачный бой). Непосредственный драматизм ассоциаций (слова, способные привлечь внимание Карениной). Более сложное осмысление из сопоставления слов и действий. Вронский садится на Фру-Фру, и «пророческие» слова об оборотной стороне медали, дающие предощущение. (Не дай бог, если последнее перейдет норму подстрочного намека, а прозвучит педалированно. Большей пошлятины не придумать. Но не дай бог и если это место, не доходя до «регистрирующего» сознания зрителя, вместе с тем не сумеет закрасться куда-то в смутные его ощущения. Пропадет очень ценное психологическое «тремоло» в общем рисунке нервной взвинченности и предощущения катастрофы.)
Это первый этап: установление синхронности (вразрез или в совпадении, но, во всяком случае, в строго установленной соотносительности) содержаний тех действий и тех слои, которые во времени будут совпадать.
Вторым этапом будет еще более сложная задача: установить синхронность формальных разрешений зрительных и звуковых.
Конкретно: исполнителя роли Вронского, исполнителя роли Корда (тренер Вронского), необходимое количество подсобных статистов и одну породистую лошадь в роли Фру-Фру и всю сцену посадки Вронского на Фру-Фру «положить», «как на музыку», на отведенные для этой сцены аккомпанирующие слова Каренина.
Найти ритмы, растяжения и убыстрения слов, интервалов между ними, акценты, задержки, паузы, переводы дыхания внутри каренинского текста, через которые с предельной четкостью выразится психологическое его содержание и состояние Алексея Александровича, одновременно использовав их как звуковую и временную канву для пластического построения сцены посадки Вронского на Фру-Фру. То неуловимое действие, которое подчеркнет неуловимую ассоциацию об «оборотной [стороне] медали»; то неуловимое в осанке Вронского, что до конца расшифрует, подчеркнув или перечеркнув интонацию на [словах], что «это прямо входит в обязанности военного», и т. д. и т. д.; те нюансы фактуры и света, которые будут синхронны — в умышленном совпадении или расхождении — с тембром и мелодикой сопутствующего голоса (сопоставления: фактура — тембр и свет — мелодия не случайны, они эквивалентны по соответствующим областям); тот обрез и росчерк графического построения в кадре, который найдет свой эквивалент в графике ритмического распадения текста и т. д. — от непосредственно слиянных органически синхронных построений (человек виден и говорит) во все оттенки сопоставления (см. перечень) придется искать, находить и устанавливать это синэстетическое соответствие звука и изображения, пластического образа и образа звукового (разве фактура и цвет пальто Каренина не неотрывны от тембра его голоса?) как двух неразрывных сторон воплощения бытия и действия образа героя, героини, сцены, произведения.
… Итак, игра человека. Игра звуков. Музыки и голосов. Игра объемов и цветов. Игра ситуаций. Игра образов и мыслей.
Таково многообразие средств игры синтетического зрелища — рождающегося тонфильма, все это многообразие, рождаемое творческой социальной 476 взволнованностью человека и строго организованное социальной сознательностью человека.
И средство приведения всех этих несоизмеримых величин в единую синтетическую партитуру тонфильма — монтаж!
Вот каковы функции Монтажа, монтажа с большой буквы — монтажа на сей день!143*
Но как же нам быть? Где нам искать закономерности этого монтажа? Где и за что держаться в поисках его реального осуществления, не гоняясь за рецептами и готовыми эталона[ми], а ища постоянного и неоскудевающего источника неиссякаемого питания и для монтажа как закона строения вещи?
Подслеповатые фанатики диогены, с фонарем в руках ищущие в искусстве человека и во имя его топчущие копытами законы искусства и совершенства его форм, неправы.
Человек, человеческое поведение и человеческие отношения не только в сюжете, не только в изображении.
Человек также нерушимо находится и в основе принципа и закономерности строения искусств.
И они такое же отражение человека, человеческого поведения и человеческих отношений, как и изображение.
Но в той же степени вторичного обобщения, как мы это прослеживали через всю нашу работу, начиная с изображения баррикады и ее контура, обобщающего ее идею.
Пара — изображение и обобщение (образ), прослеженные нами через все разделы кино, имеют место и здесь.
Принцип, верный для каждой частности, оказывается верным и для всей системы в целом.
Правильность изображения внутри вещи — в реальности типического отображения (отражения) человека, человеческого поведения и человеческих отношений.
Правильность в законах строения вещи — в таком же отражении (отображении) в его [то есть строения] закономерностях — закономерностей внутри человека, человеческого поведения и человеческих отношений.
И вот где конечный источник неизменного оплодотворения не только образами искусства, но и питающими закономерностями и конкретными разрешениями — форм и методов искусства.
Сейчас же приведем примеры для этого положения в целом, прежде чем перейти к конкретному приложению этого принципа к вопросу монтажа.
Возьмем два примера из областей наименее изобразительных из искусств, музыки144* и архитектуры, и проследим человека внутри их закономерностей.
477 Для первой области — для музыки — нам и тут окажет содействие Дидро.
Именно этой части проблемы посвящен большой раздел внутри того же «Третьего диалога» (Troisième entretien) к «Побочному сыну», которым мы уже пользовались107.
Дидро берет здесь вопрос во всей свойственной и доступной ему широте. Он первым долгом и в основном базирует свои положения на человеке, но дает проблеме разрастаться и на окружающую человека среду. Он ссылается на то, как и она претворяется в музыке. Неизбежная историческая ограниченность, однако, заставляет его в этом вопросе ограничиваться «природой», не подымаясь до вопроса отражения в закономерностях музыки еще и социальной среды: человеческих отношений, не говоря уж об высшей форме их — социальных отношениях. Эта задача выпадает уже на долю «наследников Дидро» — наших музыковедов-марксистов.
Но обратимся к еще менее изобразительной и подражательной с виду отрасли искусства — к архитектуре.
Ее законы пропитаны «принципом человека» и человеческих взаимоотношений не только в принципах разумности и целесообразности жилья (этого как бы «сюжета» в архитектуре!).
Этим «принципом человека» пропитана и вся ее эстетика145*.
На первых порах ее пропитывает даже не «принцип человека», а его… кровь. И не как метафора, а как реальное физическое жертвоприношение под фундамент строящегося здания.
Затем с особенным совершенством у греков уже не кровь, а «дух» человека пронизывает здание и все его детали: пропорции их вторят — что любопытнее всего — даже не пропорциям человека, а принципу и закономерностям развития (роста) человека. Известно же, что принцип «золотого сечения», играющего столь решающую роль в пропорциях греческих произведений искусства, есть не что иное, как приведенная в линейные соотношения формула роста органических тел природы108.
Эти закономерности органического роста и развития всеобщи для роста и развития любого представителя органической природы. Поэтому произведения греческой архитектуры, умышленно (или частично инстинктивно) включавшиеся своими пропорциями в этот же строй, и производят, как ни одна архитектура в мире, такое необычайное ощущение; это ощущение, кроме всего прочего, такое же, как[ое] производят на нас только явления органической природы: человеческое тело, цветок или морской прибой.
Темные годы средневековья снова повергают вопрос архитектуры «от принципа» к узкому «изобразительству» — к символике и криптограмме. Если во взлете сводов готики образно в камне закрепилось вожделение к взлету в неземные края рая (единственный, казалось, выход из социального ада средних веков), если превращение каменного массива — жизнеутверждающе стоявшего каменным блоком на твердой почве даже в водах, омывавших острова Элефантины (Египет), — в каменное кружево готических церковных стен также выражало идею этого мистического преодоления действительности, если в этих случаях психика средневекового мировоззрения сумела отобразиться принципами 478 в стиле, да и в технике архитектуры, то эта же архитектура, правда, не в пример высоким стадиям своего развития, упомянутым здесь, а в начальных своих ступенях знает и примеры самого примитивного криптограммного изобразительства146*.
Примером этому может служить традиционный и узаконенный традицией основной абрис христианского храма. В основе его — крест. Причем положен он с таким расчетом, что в том месте, где оказалась бы голова распятого, размещено наиболее священное место — алтарь. Это место ерзает в зависимости от эпох и оттенков вероисповеданий. В одних случаях алтарь уходит вглубь, в других сохраняет свое место в центре крестообразного пересечения нефов, невольно удивляя этим расположением тех, кто привык его чаще видеть по типу православных церквей загнанным в глубину под тип расположения театральной сцены.
Ренессанс… Но мы же пишем здесь не историю пропорций в архитектуре. А потому вкратце заденем лишь еще один пример — архитектуру… декаданса — стиль модерн.
Стиль модерн, характерно совпадая с рубежом XIX – XX веков, не может не нести сколка с идейных его течений.
Принадлежа к периоду социального маразма, стиль этот обречен на отсутствие собственного самоутверждающегося лица. (Как, напр[имер], стиль ампир начала империализма.) Стиль подобной эпохи неизбежно подражательный. Маркс вскрыл причины подобного явления в подобные эпохи на примере Наполеона III. Объектом подражания в эту деградирующую эпоху оказалась не другая какая-либо эпоха, а… природа! Но какое это извращенное подражание! Не принципу, не целесообразности природы и явлений природы здесь подражает архитектура, но видимости растительного мира и человеческого тела, дамского по преимуществу. И железо изгибается в лианы. Штукатурка завивается лилиями. А формы окон стараются вторить неправильно расходящимся кругам по воде. Фасады подражают раствору крыльев стрекозы. Ручки дверей, вилок и ножей, электрический звонок и ножки ламп извиваются фигурами змеящихся женских тел, в чьих волосах таинственно горят небольшим накалом электрические лампочки. Разнузданное рококо и то было целомудреннее: извивы его козеток, кресел и бержеров вторили хотя бы только линиям женской фигуры!
Этот своеобразный карикатурный «биологизм» в области архитектуры имел десятилетия спустя ответным движением не менее ошибочный… «физиологизм». Этим мне бы хотелось обозначить тот голый функционализм, в который впала архитектурная эстетика последователей Корбюзье: гипертрофию целесообразности и утилитарности.
Он так же бесчеловечен, как и стиль модерн, гонявшийся за видимой внешностью форм природы. Ибо разумность построения скелета, разумность системы мышц, разумность нервной или сосудистой системы, даже еще более разумное их сочетание между собой — еще не создают одухотворенную цельность живого организма, живого человека!
479 Признаюсь, я был большим приверженцем архитектурной эстетики и Корбюзье и Гропиуса109.
И только соприкосновение с полнотой жизни раскрыло мне глаза на то, что в этой архитектуре (главным образом в эпигонских ее извращениях) нет отражения полнокровной радостности сегодняшнего человека, подобно тому как анатомический атлас не может служить портретом, в котором человек способен узнавать себя, свою жажду жизни и свою радость социалистического бытия.
Об этой функции архитектуры, об этом радостном воплощении своей человечности в своем жилье, в своей улице, в ансамбле своего города, о сверхутилитарности своих узких человеческих потребностей я узнал не из книг, не из теоретических трактатов, не от профессоров и архитекторов. О заказе для архитектора на воплощение радости человека в ансамбле его города и здании — насколько это требование еще шире и выше, чем никем еще не достигавшиеся высоты эстетики и принципа человеческих пропорций у греков147* — я услышал от удивительного человека, строителя социализма в одной из самых маленьких стран нашего необъятного Союза, от Бетала Калмыкова110, толкуя с ним о создании социалистического города Нальчика на месте прежнего — почти станицы. Собственно, там впервые я конкретно ощутил «человечность» в проблеме и теме архитектуры148*
Но возвратимся из области музыки и музыки, застывшей в камне (архитектуры), к последним выводам по монтажу тонфильма.
«Принцип человека» как источник оформляющей эстетики кино никогда не ставился с такой полнотой, и не мудрено: никогда таких возросших требований и такой сложности задачи перед кино как синтетическим искусством не ставилось. Никогда в подобной целостности этой необходимости и не ощущалось.
Но заезды и заскоки в эту сторону были. Они хватались за… отдельные органы человека, за отдельные внутренности и члены его, наскоро выводя из них всеобъемлющую эстетику для кинематографии.
[…] Был «Киноглаз» и «Радиоухо»113 с эстетикой глаз, разбежавшихся при виде социализма. С ними спорил «кинокулак» (см. мою статью 1925 г. «К вопросу диалектики киноформы»)114 эстетики спружиненного удара по психике воспринимающего («кроить по черепам» etc.).
Им троим противостоял «киномозг», считая, что взгляд существеннее взора. (Монтаж аттракционов как монтаж клеточек мозга воспринимающего.)
Вылезал «киноинтеллект» как динамический процесс пункции этого мозга115. Ему поспешно противопоставлялось горящее эмоциями «киносердце» 480 (под пластинку с ним точно совпадавшего современника — известной песенки из известной музыкальной кинокомедии)116.
Чрезмерная абстракция этого человеческого «хода мысли и хода сознания» как единственная тема показа возвращалась к большей человечности «внутренним монологом», как кладезем приемов построения киновещи. Он [внутренний монолог] брал за исходное снова частность — строй речи человека. При этом еще внутренней!117
Все это с отдельных боков вгрызалось в проблему киноформы, как стая собак в бока затравливаемого кабана.
И тем горячнее и в нападках и в утверждениях, чем более односторонне бывало положение, претендовавшее на всеобъемлющее и исчерпывающее значение.
И, собственно, только сейчас приходит время всем собраться: зоркому глазу вернуться в орбиту и еще бдительнее пронизывать современность. Уху расположиться по обеим сторонам от поседевших в боях висков. Сердцу революционным пламенем биться в груди. Интеллекту соображать и регулировать весь аппарат, чтобы беспрепятственно могли совершать уже не только ход, но быстрый бег сознания и мысли, посылая сокрушительные удары словом, речью и поступком против тех, кто еще не покорился победоносному социализму. Ничто из этого пройденного опыта не пропадет в хозяйстве синтетического искусства, но ничто и не полезет за рамки ему отведенного места149*.
Монтажу же как методу реализации единства из всего многообразия слагающих синтетическое произведение частей и областей за живой образец надо принять целостность этого восстановленного в своей полноте человека.
Но образец этот должен быть не механически (механистически!) свинченным и собранным роботом или искусственным человеком со стеклянными внутренностями Парижской Всемирной выставки 1937 года. А потому монтажу — Монтажу с большой буквы, а не монтажу как одной из специальных отраслей внутри средств произведения (наравне с актером, кадром, звуком) — надо идти в учение к прообразу описанного человека. Взять за образец его прообраз — реального, живого, радостного и страдающего, любящего и ненавидящего, поющего и танцующего, рожающего детей и хоронящего остатки классов, веселого и полнокровного человека строящегося социализма и [человека], строящего социализм.
И повторяю: не только в теме и сюжете.
Но и в прообразе структуры закономерности композиции.
Что же это такое на деле?
И как это может, не будучи набором эталонов и рецептов, одновременно служить неиссякаемым источником постоянного плодотворного нахождения все новых и новых композиционных концепций?
Хорошо было Дидероту118.
Он подводит итоги под восемнадцать веков музыкальной культуры плюс к этому еще ту неисчислимую фалангу веков, отсчитываемых обратным порядком цифр, начиная от так называемого рождества Христова, в конце (или начале?) которых лежит ее зарождение.
Ему легко было распознавать ретроспективным взглядом, откуда, где и как зарождается музыка и что твердая почва для выводов законов ее эстетики — выразительный человек, точнее — выразительность человека.
481 Да и область его — музыка — гораздо скромнее, чем всеобъемлемость синтеза звукозрительного тонфильма!
Каково же нам, которым приходится пользовать опыт только каких-нибудь сорока лет непосредственного киноопыта, предшествующих тому, что нам надлежит не суммировать или анализировать, [но] беспрецедентно двигать вперед, почти на голом месте рожать непосредственную методику, имея в руках лишь нить ориентировки на выразительного человека, как [на] прообраз закономерностей эстетики тонфильма!
И все же лучше нам, чем Дидероту: перед нами столько же веков завоеваний освобожденного человечества, сколько у него угнетенного позади!
Работать над первыми камнями эстетики к тому синтетическому искусству, которое ему [— освобожденному человечеству —] положено создать, — величайшее упоение.
Так каков же практический подход к тому, чтобы из выразительности человека извлекать неиссякаемый поток всегда новых, всегда небывалых, всегда жизненно трепещущих для каждой новой темы — звукозрительных партитур?
И очень прост и очень сложен.
В основу партитуры, в которую облечется тема, должно быть положено необычайно немногое: взволнованный рассказ о теме через события содержаний.
Только и всего? — Да, так мало и так необычайно много.
Ибо: что есть взволнованный рассказ?
Это идея, ставшая достоянием всех выразительных проявлений человека и воплощением в них.
Взгляните на взволнованно рассказывающего человека.
Он носится по комнате. У него не хватило слов. Какое-то время еще несутся бессловесные интонации. Вот они перешли в хаотическую жестикуляцию. Но у него и жестов не хватает, чтобы выразить то, что не поддалось словесному изложению. Он бегает. Но вот он овладевает собой. Он тяжело дышит. Он отер лоб. Но вот опять засверкали глаза. Однако на этот раз он мерно ходит по комнате. Слова начинают находить место и форму в изложении. Они плавно перемежаются жестом и шагами. Но вновь возрастает волнение. Изгибы тела говорят больше слов. Слова внезапно начинают нестись ритмически. Он захвачен еще больше, он уже не декламирует, он почти поет. Он кружится по комнате.
И со стальной целенаправленностью все это пронизывает единственная, сквозная мысль, сквозная концепция.
Вам надо представить это сценическим действием — изображением этого взволнованного человека. И предлагаемый отрывок перекладывается в партитуру.
На непрерывном течении приливающего и отливающего подлинного внутреннего чувства сценическая композиция расчерчивает как бы подобие «четырехголосной фуги» Баха.
Как в музыкальной партитуре, на месте «голосов» или «инструментов» столбцом слева вырастают на разграфленном листе
А вдоль верха страницы пробегает линия текста взволнованного рассказа с подтекстом тока чувств и представлений, которые мчатся синхронно словам. Смысл их и чувство диктуют «разверстку» каждой фазы взволнованного действия по тем или иным «инструментам» оркестра взволнованного проявления и воздействия человека.
|
1. Мизансцена |
|
|
|
|
|
2. Жест |
|
|
|
|
|
3. Мимика |
|
|
|
|
|
4. Интонация |
|
|
|
|
Такие элементы содержания легли словами целиком на мизансцену (1, 4). Такие — в жест остановившегося человека (2, 3). Такие — только в мимику (3). Такие — в бессловесный возглас (4). А такие ураганом захватили человека во всех его проявлениях (1, 2, 3, 4).
В самом же действии они вливаются друг в друга, сливаются вместе и вновь расходятся, неся на себе полноту эмоционального потока взволнованностью темы. Они, эти проявления взволнованного поведения, стадиальны в своем развитии. Интенсивность переживания заставляет мысль облечься словом, «Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über»150*, — сказал еще весьма пламенный детина прошлого — не более, не менее, как… Мартин Лютер, стрелявший чернильницами по чертям и переводами Библии по римским папам119. Волнующее слово выливается интонацией. Интонация ширится в мимику и жест. И жест и мимика взрываются в пространственное перемещение их носителя — в пространственное поведение — прообраз мизансцены. Органичные в своей связи, стадиальные, последовательные по своему развитию, они в то же время контрапунктичны в условиях одновременного своего соприсутствия.
Так на театре. Так в работе актера — на театре ли или в равной мере в области драматического поведения человека внутри сюжета кинопроизведения. Но я-то, я — не актер. Я даже не режиссер театра. Я — режиссер замечательнейшего из искусств — тонфильма как синтеза искусств. Как же быть мне? Чем же я буду взволнованно кричать о моей теме — нашей теме? Где мой бег? Где мое рыдание? Где мой жест, моя мимика, мое слово?
Мизансцена моя — монтаж.
Жест мой и мимика — композиция действия в кадре и кадр.
Моя интонация — место моей фонограммы в общем звукозрительном контрапункте.
Писал же великий поэт нашей эпохи о творчестве революции:
Улицы — наши кисти,
Площади — наши палитры…120
Ведь тело формы моего произведения, в которое я воплощаюсь, неся свою тему, подобно перевоплощению актера — тело формы моего произведения, части, члены и органы его есть строй моего сказа, ритм моего танца, мелодия моей песни, метафора моего крика, трактовка моего сюжета и образ моего мировосприятия в целом, которыми я выражаю, как актер — руками, ногами, 483 голосом и блеском своих глаз, то, чем и он и я в нашем творчестве одинаково внутренне одержимы!
Цвет, ритм, действие актера, выражение [темы], сфотографированной цельной мизансценой, фонограммой звука или пластическим образом кадра, единым куском или мелконарезанной монтажной фразой и т. д., — вот набор инструментов моего оркестра.
Безгранично разросшийся, но растущий из малого оркестра с той партитурой безмолвной мысли, слова и интонации, мимики и жеста и, наконец, бега мизансцены, которую я приводил выше.
Из нее растущая, из нее черпающая, в нее вслушивающаяся партитура композиции синтетического тонфильма — основа монтажа всех средств и сфера ее воздействия.
Ну вот и договорились о том, как и каким образом закон строения вещи, строй произведения наравне с сюжетом может быть отображением живого человека! С виду все это до смешного просто. Принцип ясен. Но суметь, однако, в себе выслушать и прочесть, вычитать в себе и вычитанное суметь развернуть в конкретную программу — партитуру вещи в целом — вот где трудности необъятны. И вот над методикой чего уже в течение ряда лет я учебно работаю121. И еще одна трудность — трудность в культуре взволнованности: правильной и [искренней] до конца. Ибо без этой предпосылки любви и ненависти не может [быть] произведения — ни по форме, ни по содержанию. И в этой предпосылочной, но далеко не исчерпывающей культуре взволнованного переживания — в равной степени нужного и для актера и для режиссера, хотя и с разными областями ее приложения — свои большие трудности.
По вопросу этой «культуры взволнованности» немало создала система Станиславского. Не без перегиба даже в ущерб изучению других областей творчески целого произведения. Этот уклон сознателен и обоснован: «Да, я допускаю перегиб в сторону эмоционального творчества и делаю это не без умысла, потому что другие направления искусства слишком часто забывали о чувстве»151*.
И это проводится последовательно через всю книгу. Вопросу формы действительно посвящено два слова, да и то более чем общего соображения: «Цель нашего искусства не только создание “жизни человеческого духа” роли, но также и внешняя передача ее в художественной форме…»152*.
В чем же эта [«художественность»] формы — на протяжении всей книги ни слеза.
Но вернемся к вопросу отображения в строении формы живого человека: оно является в одно и то же время отражением человеческого поведения и человеческих взаимоотношений, ибо не из живой жизни, но только из театра, да и то… анатомического (впрочем, и это относительно!), может возникнуть человек вне человеческого поведения, человек вне человеческих, социальных отношений.
Но имя такому человеку — труп.
Ведь действенная форма моего произведения, как мы наглядно показали, являясь воплощением выразительной моей взволнованности действительностью, — ведь не взволнованность «в себе», но взволнованность классовая.
484 И в этом единстве классового сознания и чувств, диктующем весь этот «караван-сарай» воздействующих и выразительных средств, отображен тот тур из летописи борьбы эксплуатируемых с эксплуататорами, в котором я счастлив быть как свидетелем, так и бойцом, участником счастливейшего тура — победно завершающего века этой борьбы. И тайна правильного отражения этого уже не только в содержании, но и в законах построения вещи — одна и та же и вообще одна.
Она же снимает и предпосылочную трудность к культуре взволнованного проявления, снабжая ее твердой и нерушимой предпосылкой.
В определении ее мы можем спокойно довериться «неистовому Виссариону». Что нужно для разрешения этой тайны?
«Для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе ее интересы, слить свои стремления с ее стремлениями» (Белинский).
Быть гражданином своей Страны Советов. Быть сыном своего класса, быть активным борцом за социализм. Остальное приложится само, «возникнет» из правильно расставленных предпосылок, как столько раз мы приводили примеры по всем и всяческим отраслям внутри нашего сложного дела. Это верно и для условия всей нашей деятельности в целом! И формы будут складываться столь строго и народно, как сказ и строй народной песни.
Только строго держась за естественность и органичность полноты выражения своих взволнованных чувств — выразительность, мы будем обладать тем фондом, откуда нам подскажется для партитуры, когда перейти на образный и метафорический язык, как рассыпать сюжет монтажной дробью, когда внезапно увидеть все в цвете, а когда весь ураган чувств излить в одни звуки. Она и только она [человеческая выразительность] — надежная опора и источник, питающий мастерство формы.
Поэтому в своей программе режиссуры для ГИКа я так педантично, обстоятельно — наперекор свистоплясу не критиков ее, а критиканов — отвожу так много внимания проблеме выразительности человека.
Не брезгуя при этом вводить — как это ни бесит оппонентов ее — не только историю теорий выразительности человека, но и историю эволюции самих выразительных проявлений.
Без этого нам не понять всего того, что на сей день мы уже постигли в знании выразительности человека.
А без этого нам многого не понять из того, что понятно из внутренних закономерностей искусства — этой высокой формы социального поведения выразительного человека.
И еще меньше — овладеть [теми] серьезными творческими задачами, которые помимо идеи и тематики становятся пред нами на подступах к выразительности синтетического звукозрительного фильма.
1937
485 Комментарии
486 Комментарии составили:
Айзенштат О. Д., Вартанов А. С., Карягин, Клейман Н. И., Козлов Л. К., Красовский Ю. А., Левин Е. С.
487 От автора*
Написано в августе 1946 г. В архиве Эйзенштейна сохранился машинописный текст с правкой П. М. Аташевой. Опубликовано посмертно в кн.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 41 – 46, с перестановкой некоторых абзацев. Восстанавливается по архивному тексту (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
Подготавливалось как предисловие для предполагавшегося сборника статей. В архиве С. М. Эйзенштейна сохранился и более ранний, первый вариант этого предисловия, значительно отличающийся от окончательного текста. В нем Эйзенштейн писал: «Если бы мне кто-нибудь заказал плакат по случаю пятидесятилетия кинематографа, я нарисовал бы его приблизительно так. Я начертил бы большой круг диаметром примерно в метр. Этот круг изображал бы собой сыр. Слева от него я нарисовал бы маленькую мышь длиной в сантиметр. Около мыши я бы вырезал из тела большого круга маленький треугольничек — размером в четверть сантиметра. И перед носом мышки положил бы три маленьких осколка, постаравшись, чтобы общая сумма их размером не превышала выхваченного из круга треугольничка. Поперек круга я написал бы: возможности кинематографа. На теле мышки я написал бы: творческие усилия первых пятидесяти лет кинематографа. А под тремя осколочками подписал бы: использованное…»
В другом месте этой статьи С. М. Эйзенштейн развивал свою мысль о недостаточном использовании современным кинематографом своих возможностей: «Еще не решена проблема чистых форм самостоятельной кинодраматургии. Она все еще “пьеса”, в худшем случае просто театральная, в лучшем — подобие лирического монолога. В игре — это все-таки еще заснятый театр. В цвете — даже еще не живопись, а какой-то цветной хаос, не нашедший пока своих закономерностей цветного симфонизма. И даже в музыке — это часто превосходные творения современных композиторов, не выступающих еще пока что почти нигде за пределы привычных оркестровых возможностей в области непредугаданных чисто звуковых возможностей будущей звуковой кинодорожки. Не до конца решена проблема синтеза искусств, которые 488 стремятся к своему полному и органическому слиянию в лоне кинематографа…»
Наряду с этим С. М. Эйзенштейн говорит о больших достижениях мирового кинематографа: «Эти пятьдесят лет дали нам неповторимого Чаплина. Дали плеяду замечательных актеров и режиссеров Америки и кинематографии — “Авангард” Франции. Свой вклад делала дофашистская кинематография Германии. Сейчас, после войны, начинает шевелиться самостоятельная кинематография Великобритании. Почти каждая страна на каком-то отрезке истории этих пятидесяти лет несла какие-то ведущие идеи, формы, приемы. Но на всем протяжении этих пятидесяти лет был неизменный и невероятно живой и оживленный обмен опытом, идеями, формами. Испытанное влияние через несколько лет, обогащенное и видоизмененное, двигалось обратным встречным влиянием и ответно обобщало новизной страны прежних пионеров…»
Первый вариант предисловия, по-видимому, был предназначен для английского издания.
489 Исследования
Перспективы*
Статья опубликована в журнале «Искусство», 1929, № 1 – 2, стр. 116 – 122, по тексту которого и воспроизводится, с небольшими уточнениями по автографу с авторской датой — 2 марта 1929 г. (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1007).
Эта статья написана как своеобразный манифест о путях будущего кинематографа. Фактически она подводит итог тем исканиям и экспериментам в области кинообраза, какие вел Эйзенштейн во второй половине 20-х гг. Статья содержит наиболее ясные и острые формулировки теоретических взглядов молодого Эйзенштейна. Здесь в полной мере выразились и революционность его устремлений, и утопизм, проявившийся в некоторых требованиях к искусству.
Революционность устремлений Эйзенштейна наиболее ярко выражена в первой половине статьи, где он пишет о преодолении разрыва формы и содержания, логического и чувственного (как дуализма, присущего буржуазному мышлению), об активном воздействии искусства на жизнь и борьбу людей, строящих новый мир. Эйзенштейн мечтает о том, что кино станет «куском грядущей эпохи коммунизма». Во второй половине статьи проявились утопические стороны концепции Эйзенштейна. Возможность преодоления разрыва формы и содержания, чувственного и логического он предоставляет только кинематографу, отказывая в этом не только театру, но и литературе и всем остальным видам искусства, о которых он даже и не упоминает.
Опираясь на публицистические элементы своего фильма «Октябрь» (и прежде всего на монтажное сопоставление различных божеств и идолов, выразившее обобщенную мысль о ложности религии), Эйзенштейн увидел здесь «экранизацию понятия» и осмыслил этот частный случай как генеральный принцип нового фильма, призванного дать прямое чувственное воплощение логических абстракций. Ища путей полного воссоединения искусства с жизнью, художник увлекся проектом синтеза искусства и науки. 490 Осуществить его с буквальной точностью значило бы не синтезировать искусство с наукой, а стать где-то между ними и подменить методы исследования жизни — будь то исследование научное или художественное — методами изложения мысли.
Но, критикуя все это «по букве», необходимо помнить, что практика Эйзенштейна всегда была (а в 20-е гг. — в огромной степени) богаче его теории. В данном случае перед нами программа творческого эксперимента, который принес бы много нового и неожиданного. Осуществить его в «чистом» виде художнику не привелось: к задуманной экранизации «Капитала» Маркса Эйзенштейн так и не приступил. Надо учесть, что теория «интеллектуального кино» родилась в напряженном поиске новых выразительных возможностей кинематографа и монтажные находки в фильмах «Октябрь» и «Старое и новое» не прошли бесследно для практики и теории мирового киноискусства. Они были также творчески развиты в последних фильмах Эйзенштейна. Но в процессе творческих поисков, углубленного анализа своих теоретических положений и их критики в печати Эйзенштейн решительно отбрасывал собственные односторонние выводы.
Характерно, что в конце своей статьи он приходит к отрицанию «живого человека». Непосредственным объектом критики была теория, выдвинутая представителями РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей) и требовавшая вносить в произведение искусства бытовые черты «живого человека» как некий «оживляющий» и «утепляющий» придаток к социальной идее, понятой крайне абстрактно. Против такого механического раздвоения идейности и художественности Эйзенштейн воевал всегда — начиная со своих первых фильмов. В фильмах Эйзенштейна художественная идея выступала свободной от каких-либо «утепляющих» привесков.
Когда же автор призывает оставить задачу непосредственного изображения человеческого характера за традиционным театром, то с этим, разумеется, нельзя согласиться.
Впоследствии Эйзенштейн сам отказался от крайностей своей позиции 20-х гг. Поэтому в статье «Перспективы» читатель должен увидеть не только преходящие ошибки автора, но и неизменные его цели. Целостность взгляда на мир, объединяющая «предельную познавательность и предельную же чувственность», — во имя чего автор статьи готов требовать упразднения законов искусства, — эта целостность была позднее осмыслена им как необходимая внутренняя закономерность искусства; точно так же принцип единой идеи, пронизывающей все элементы изображения, — во имя чего автор здесь отрицает изображение «живого человека» — был впоследствии осуществлен Эйзенштейном в художественном исследовании человеческих характеров (фильм «Иван Грозный»).
1 … «с актером или, без актера!» — Во второй половине 20-х гг. в советском кино шли дискуссии, где обсуждался, в частности, вопрос, должно ли кино отказаться от профессионального актера или признать использование актера в кино обязательным. Эйзенштейн считал этот вопрос непринципиальным и подчинял его решение конкретным идейно-творческим задачам. В его фильмах 20-х гг. актерские образы свободно сочетаются с образами типажными, причем, в отличие от Пудовкина, А. Роома и других, Эйзенштейн отдавал предпочтение именно типажным образам (то есть созданным не актерами). Позднее, в звуковой период, он отказался от этой позиции. Центральные образы в таких фильмах, как «Бежин луг», «Александр Невский», «Иван Грозный», созданы были актерами. Однако и в это время Эйзенштейн продолжал 491 рассматривать актерские средства не как решающие, но как одну из сторон многогранного кинообраза, всегда подчиненную задачам художественного целого.
2 Горький благополучно «спасен». Марксизмом, кажется, овладел. — В конце 20-х гг. в оценке общественно-политической позиции А. М. Горького существовали очень разнообразные и противоречивые суждения. Имело хождение ошибочное мнение, будто А. М. Горький (живший тогда за рубежом) оторвался от советской действительности, не овладел марксистским мировоззрением, в своем творчестве является выразителем деклассированного мещанства и т. п. Слова Эйзенштейна (и цитата из Плеханова) в какой-то степени характеризуют эту недооценку А. М. Горького. Возвращение А. М. Горького в 1930 г. в СССР и его активное участие в строительстве социалистической культуры полностью опровергли эту неверную концепцию.
3 Беркли Джон (1684 – 1753) — английский философ-идеалист. Книга Беркли, о которой пишет Эйзенштейн, — «Трактат о принципах человеческого познания» («А treatise Concerning the principles of human knowledge»).
4 Штейнен Карл (1855 – 1929) — немецкий этнограф и путешественник конца XIX в., профессор Марбургского университета, автор ряда этнографических исследований. Его книга «Среди первобытных народов Бразилии» была переведена на русский язык и неоднократно переиздавалась; последнее издание — М., 1935.
5 … пьеса «Рельсы гудят» или романа «Железный поток» — «Рельсы гудят» — пьеса В. М. Киршона (1927), «Железный поток» — повесть А. С. Серафимовича (1924).
6 Андреев Леонид Николаевич (1871 – 1919) — писатель и драматург. Вначале выступал как реалист, был близок к горьковскому издательству «Знание», после революции 1905 года резко повернул вправо; в своих литературно-публицистических выступлениях был сторонником идеалистической философии.
7 Пакт Келлога — пакт, подписанный в 1928 г. государственным секретарем США Ф. Келлогом и министром иностранных дел Франции А. Брианом. Основная цель этого пакта — объединение сил ведущих капиталистических держав против мирной политики СССР.
8 Рефлексология — термин, предложенный выдающимся русским ученым В. М. Бехтеревым (1857 – 1927) для обозначения науки о рефлекторных ответах головного мозга животных и человека. По замыслу рефлексология должна была заменить психологию; она имела большое распространение в середине 20-х гг., изучалась в школах и высших учебных заведениях. В 1930 и 1931 гг. рефлексология была подвергнута критике как носящая механистический характер.
9 Ренан Эрнест (1823 – 1892) — французский историк, филолог и философ. Речь идет о его работе «Интеллектуальная и моральная реформа».
10 Сохоцкий Юлиан Васильевич (1842 – 1929) — профессор математики Петербургского университета, автор фундаментального курса высшей алгебры.
11 Демулен Камилл (1760 – 1794) — деятель Великой французской буржуазной революции, журналист.
12 Дантон Жорж-Жак (1759 – 1794) — деятель Великой французской буржуазной революции, замечательный оратор.
13 492 Гамбетта Леон-Мишель (1838 – 1882) — французский политический деятель, выдающийся оратор.
14 Володарский Моисей Маркович (1891 – 1918) — крупный деятель большевистской партии, член Президиума ВЦИК, комиссар по делам печати, агитации и пропаганды. В 1918 г. убит правыми эсерами.
15 Дионисийский экстаз — завершение карнавальных обрядов в честь бога вина Диониса в Древней Греции, положивших начало театральному искусству в Греции.
16 Жак-Далькроз Эмиль (1865 – 1950) — швейцарский музыкант-педагог, композитор, основатель системы ритмической гимнастики.
17 «Вначале бе слово» (славянск.) — вначале было слово — первая фраза из «Евангелия от Иоанна» о сотворении мира.
18 … форму ахрровского типа. — АХРР (Ассоциация художников революционной России) — организация советских художников, существовавшая в 1922 – 1932 гг. Вела активную борьбу за создание реалистического искусства, опирающегося на передовые традиции, в особенности наследие «передвижников». Наряду с заслугами в этой области в творческой практике ахрровцев были сильны натуралистические тенденции, «приземленный» реализм, что имеет в виду, по-видимому, здесь Эйзенштейн.
Четвертое измерение в кино*
Статья написана в августе — сентябре 1929 г. Полный текст статьи (машинопись с авторской правкой) хранится в ЦГАЛИ (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1014). Сохранился также и черновой автограф. Первая часть статьи была опубликована в газете «Кино», М., 27 августа 1929 г., под заглавием «Кино четырех измерений». Печатается полный текст статьи, сохранившейся в архиве.
Статья занимает важное место в теоретическом наследии Эйзенштейна 20-х гг. В ней, с одной стороны, подытожены его поиски в области теории монтажа, теории кадра, исследования специфики кино и его выразительных средств, с другой — намечены плодотворные идеи, развиваемые им в дальнейшем.
Статья обнаруживает влияние на Эйзенштейна рефлексологического учения В. М. Бехтерева (см. прим. 8 к статье «Перспективы», которое страдало механистичностью, сводя сложные явления психической жизни человека к простейшим биологическим формам, а психологию — к системе разнообразных рефлексов. Вскоре Эйзенштейн отходит от рефлексологии Бехтерева. Отдельные положения Бехтерева и его терминология, содержащиеся в данной статье, не имеют принципиального значения для теории обертонного монтажа и не влияют на логику рассуждений Эйзенштейна, тем более что в термины Бехтерева Эйзенштейн вкладывает свое содержание. Так, раздражитель для Эйзенштейна не физиологический, а психофизиологический фактор воздействия на чувство и разум зрителя, раздражение — не механический, а сложный психологический процесс художественного воздействия искусства на зрителя, и т. д.
В статье Эйзенштейн впервые вводит понятие «обертонный монтаж». Он анализирует общепринятые «ортодоксальные», хорошо освоенные приемы монтажа и стремится расширить сами понятия «монтажный признак» и «монтажная 493 выразительность». Он утверждает, в противовес однозначности, идейно-смысловую и эмоциональную многозначность кадра (от сравнения кадра с иероглифом он вскоре отказывается). Эту многозначность он называет «комплексом раздражителей». Эйзенштейн доказывает (на примерах из «Старого и нового»), что монтаж может строиться не только на главном признаке содержания кадра, не только на «основной доминанте» («центральном раздражителе»), но и на многих сопутствующих — пластических, звуковых, эмоциональных и т. д. — признаках («раздражителях»). Их он называет обертонами — по аналогии с побочными тонами в музыке. Обертонный монтаж Эйзенштейн считает логическим развитием всех существующих форм монтажного мышления. Подробнее свои мысли об обертонном монтаже Эйзенштейн развивает в исследовании «Вертикальный монтаж».
1 Кабуки — японский театр, традиции которого сложились в XVII – XVIII вв. Театр Кабуки дважды приезжал на гастроли в СССР, в 1928 и в 1961 гг. В № 34 журнала «Жизнь искусства» за 1928 г. была опубликована статья С. М. Эйзенштейна «Нежданный стык», посвященная искусству театра Кабуки. В ней Эйзенштейн особо отмечает неразделимость и равноправие пластических и звуковых образов, что роднит, по его мнению, древнее искусство японского театра со специфическими выразительными средствами кино. К рассмотрению искусства театра Кабуки Эйзенштейн обращался также в статье «За кадром» (см. настоящий том).
2 Дебюсси Клод (1862 – 1918) — французский композитор, пианист и дирижер.
3 Скрябин Александр Николаевич (1871 – 1915) — русский композитор и пианист.
4 Штеккель В. — немецкий психолог XX в., примыкавший к фрейдистской школе психоанализа.
5 Вертов Дзига (Кауфман Денис Аркадьевич) (1896 – 1953) — кинорежиссер. «Одиннадцатый» (1928) — фильм, задуманный Вертовым как своеобразная документально-публицистическая поэма о социалистическом преобразовании страны за 11 лет Советской власти. Несмотря на то, что фильм содержал прекрасные эпизоды, отмеченные глубоким содержанием и свежестью художественных поисков, в целом он не удался из-за перегруженности тематическими задачами и изобразительно-монтажной усложненности. Поиски нового монтажного образа носили порой отвлеченный характер, лишая художественной убедительности фильм в целом.
6 Модуль — в архитектуре — часть постройки, являющаяся одновременно единицей меры целого.
7 «Конец Санкт-Петербурга» — фильм режиссера В. Пудовкина (1927).
8 «Потомок Чингис-хана» — фильм режиссера В. Пудовкина (1928). В зарубежном прокате назывался «Буря над Азией».
9 Малевич Казимир Северинович (1878 – 1935) — русский живописец, основоположник так называемого супрематизма, одного из направлений беспредметного искусства.
«Одолжайтесь!»*
Статья написана в октябре 1932 г. Полный текст статьи (авторизованная машинопись) хранится в ЦГАЛИ (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1078). Статья была напечатана в журнале «Пролетарское кино», М., 1932, № 17 – 18, стр. 19 – 20. 494 Отрывок из статьи под названием «Американская трагедия» вошел в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, 1956, стр. 286 – 293. Публикуется полный авторский текст.
Поводом для написания статьи послужила дискуссия о «занимательности» киноискусства, уже (в 1927 – 1928 и 1931 – 1932 гг.) возникавшая на страницах нашей Кинопечати. Однако Эйзенштейн выходит далеко за ее рамки и, сохраняя полемический тон и «прицел» на предмет дискуссии, пишет теоретическую статью о методе киноискусства и методике преподавания предмета режиссуры. Значение ее тем более принципиально, что она является фактически первой теоретической статьей, опубликованной Эйзенштейном после возвращения из заграничной поездки, и в какой-то мере обобщает поиски режиссера в этот важный и еще мало изученный период его творчества.
Первая половина статьи, посвященная методике преподавания кинорежиссуры, продолжает и развивает вопросы, затронутые ранее Эйзенштейном в статьях: «Инструкторско-исследовательская мастерская при ГТК» (журн. «Советский экран», М., 1928, № 48, стр. 4); «ГТК — вуз» (газ. «Кино», М., 12 марта 1929 г.); «О киношколе» (журн. «Рабис», М., 1929, № 32, стр. 6 – 7) и «Напомним мастерам» (газ. «Кино», М., 1 сентября 1931 г.). Принципы, изложенные в «Одолжайтесь!», были проверены на практических занятиях Эйзенштейна со студентами режиссерского факультета ВГИКа и оказали существенное влияние на программу преподавания теории и практики режиссуры (см. ее второй вариант, настоящий том, стр. 131 – 155). Некоторое представление о методике Эйзенштейна-педагога может дать кн.: В. Нижний, На уроках режиссуры С. Эйзенштейна (М., «Искусство», 1958), если учесть, что автор ее, обрабатывая стенограммы лекций, ограничивался лишь кратким описанием многодневного периода работы «двадцатиголового режиссера», дабы выделить суммирующие выводы мастера.
В первой половине статьи обращает на себя внимание следующее высказывание: «Искусство не в том, чтобы затейливо взять кадр или “загнуть” понеожиданнее ракурс. Искусство в том, чтобы каждый осколок картины был бы органической частностью органически задуманного целого». Этот тезис стал как бы определяющим девизом последующих творческих исканий Эйзенштейна и получил обоснование и разработку в программных трудах последнего периода его жизни (см. работы «О строении вещей» и «Неравнодушная природа», настоящее издание, том III).
Исключительно важное значение второй половины статьи определяется уже тем, что здесь дается яркое авторское описание замысла, не получившего воплощения на экране, но сыгравшего первостепенную роль в эволюции Эйзенштейна-режиссера. Экранизируя роман Т. Драйзера «Американская трагедия», Эйзенштейн впервые в своей практической деятельности стремился показать на экране противоречивое психологическое развитие человеческой индивидуальности — героя фильма, впервые рассчитывал на участие в фильме актеров-профессионалов.
Историк кино, несомненно, обнаружит, что сценарий «Американская трагедия» и связанная с ним статья «Одолжайтесь!» являются началом качественного перелома в творчестве Эйзенштейна и, если пользоваться термином самого режиссера, форшпилем — предвосхищением достижений последнего периода его деятельности.
Именно как следствие конкретных практических задач рождается изложенная в статье теоретическая концепция «внутреннего монолога» в кино.
495 Показательно, что в данной статье Эйзенштейн рассматривает ее не как нечто эпизодическое или случайное в своем творчестве, а как развитие и углубление теории «интеллектуального кино», изложенной в статье 1929 года «Перспективы» (см. настоящий том). Более того, в описании эпизода «внутреннего монолога» Клайда можно увидеть творческое развитие представлений о звукозрительном контрапункте, впервые высказанных в статье «Будущее звуковой фильмы. Заявка» (см. настоящий том).
Говоря о внутреннем монологе, Эйзенштейн упоминает ирландского писателя Джемса Джойса, что не означает попытки некритического перенесения творчества этого крупнейшего представителя модернизма в литературе на почву кинематографа. Это подтверждается глубоким и всесторонним анализом творчества Джойса, который был сделан Эйзенштейном на специальном занятии в ГИКе (см. Стенограммы лекций, хранящиеся в Кабинете режиссуры ВГИК, 1934/35 учебный год, IV курс, лекция № 7 от 1 ноября 1934 г., стр. 26 – 41). Предупреждая своих учеников, что «учиться не есть сдирать», особенно у Джойса, на творчестве которого сказались глубочайшие противоречия культуры современного капиталистического общества, Эйзенштейн показывает, что вследствие ограниченности буржуазного мировоззрения, незнания диалектических законов развития жизни и ряда других причин Джойс часто видит лишь поверхность вещей, но не может проникнуть в их суть, не может создать цельной картины действительности. Эйзенштейн критикует использование Джойсом фрейдистских мотивов, его натуралистичность и чрезмерную усложненность. Если Джойс не смог в «Улиссе» реалистически решить задачу изображения внутреннего мира человека, то это не значит, что ее не могут и не должны решить художники самого передового мировоззрения современности.
В указанной выше лекции Эйзенштейн говорил, что непосредственный показ внутреннего психологического движения в человеке представляется ему одной из увлекательнейших задач именно советского кино. Он привел следующий пример:
«… Идет собрание, организуется колхоз. Есть старик, который слушал и ни слова не сказал. Потом он ушел, почесав затылок, а наутро вступил в колхоз. Попробуйте это сделать формой внешнего показа — что в нем происходило в это время!»
Излагаемый в данной статье принцип «внутреннего монолога» и приведенное решение его в сценарии «Американская трагедия» указывают на до сих пор злободневную проблему: как кинематографически решить качественный сдвиг в душевном мире героя, обнажая драматизм настоящего момента, а не прибегая к «объясняющим возвратам в прошлое».
Наконец, «Одолжайтесь!» примыкает к той группе статей Эйзенштейна, в которых рассматривается взаимосвязь между традициями и средствами выразительности кино и литературы. Однако, если широкоизвестные статьи «Диккенс, Гриффит и мы», «Пушкин и кино» и др. обращаются в основном к опыту классических произведений реализма XIX в., то в «Одолжайтесь!» Эйзенштейн касается почти не изученных связей кинематографа с литературой нашего времени.
1 … в манере, достойной угощения Ивана Ивановича Перерепенко… — Здесь и дальше Эйзенштейн имеет в виду «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.
2 … «в угоду Реперткому»… — Имеется в виду Главрепертком (Главное управление по контролю за зрелищами и репертуаром).
3 496 «Удольфские тайны» — роман английской писательницы Анны Радклиф (1764 – 1823).
4 Дюма-отец Александр (1802 – 1870) — французский писатель, автор исторических романов. Дюма-фис — его сын Александр (1824 – 1895) — французский драматург, автор «Дамы с камелиями».
5 … Туссен-Лувертюр, герой нашей будущей фильмы «Черный консул»… — Туссен-Лувертюр Пьер-Доминик (1743 – 1803) — один из руководителей восстания негров-рабов Гаити против французского колониализма, ставший в 1798 г. генерал-губернатором острова. По приказу Наполеона был вызван во Францию, арестован и умер в тюрьме. Во время пребывания в Голливуде Эйзенштейн собирался поставить фильм по роману Ван-дер-Кука «Черное величество» об адъютанте Туссен-Лувертюра Анри-Кристофе с Полем Робсоном в главной роли (подробнее об этом замысле см. Выступление Эйзенштейна на творческом совещании 1935 года, настоящий том, стр. 101). После возвращения из США Эйзенштейн не оставил планов постановки фильма на материале гаитянского восстания. Однако замысел изменился и базировался теперь на романе А. К. Виноградова «Черный консул», который, кстати, был посвящен автором Эйзенштейну. Фильм поставлен не был, хотя Эйзенштейном и А. К. Виноградовым был даже заключен в 1932 г. договор с Союзкино (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 357).
6 Дюма Томас-Александр (ум. 1806) — наполеоновский генерал, сын негритянки, отец Александра Дюма.
7 Де-Мирекур (псевдоним Шарля-Жана-Батиста Жако, 1812 – 1880) — французский писатель, выпустивший в 1845 г. пасквильную брошюру против Александра Дюма-отца («Fabrique de romans; Maison A. С. Dumas et Co»), за что Дюма привлек его к судебной ответственности.
8 Беранже Пьер (1780 – 1857) — французский революционный поэт-песенник.
9 «как у Наполеона… генералы» — выражение, принадлежащее самому Дюма-отцу. Сотрудниками Дюма были О. Маке, Анисэ Буржуа, Жерарде Нерваль, Поль Мерис, Гальярде.
10 Люка-Дюбретон Ж. — биограф Александра Дюма-отца. Ему принадлежит книга «La vie d’A. Dumas-père» («Жизнь А. Дюма-отца»).
11 Маке Огюст (1813 – 1888) — французский писатель и историк, соавтор А. Дюма; многие из романов А. Дюма («Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Шевалье де ла Мезон-Руж» и др.) написаны при его деятельном, но анонимном участии.
12 Шатобриан Франсуа-Рене (1768 – 1848) — французский писатель-романтик.
13 … строжайшую закономерность… возникающую из базисных социальных и идеологических предпосылок. — В этом утверждении, конечно, сказалась полемическая увлеченность Эйзенштейна. Если «каждый надстроечный изгиб» возникает из «социальных и идеологических предпосылок», становится непонятным хотя бы то, почему существуют стилистические различия у художников, имеющих одинаковое мировоззрение и принадлежащих к одному обществу. Эйзенштейн сам немало интересовался влиянием временных, национальных, субъективных и других явлений на процесс и результат художественного творчества. Принципиальным же и существенным для него в данном случае является не слово «каждый», а факт зависимости формального решения от мировоззрения и социального окружения художника.
14 Луи-Филипп (1773 – 1850) — король Франции, возведенный на престол 497 после июльской революции 1830 г. и свергнутый революцией 1848 г. Политика Луи-Филиппа служила интересам финансовой аристократии. Луи-Филиппа называли «король-буржуа».
15 Шахразада — сказочная героиня арабского эпоса — книги «Тысяча и одна ночь».
16 Али-Баба — герой арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников», произносящий перед лесной пещерой заветные слова «Сезам, отворись!», после чего он становится обладателем несметных, награбленных разбойниками, сокровищ.
17 Рапид — ускоренная киносъемка (более 24 кадров в секунду), которая создает на экране впечатление замедленного движения.
18 … написать третью часть «Фауста» или заново сочинить второй том «Мертвых душ». — Гете писал «Фауста» с 1770 по 1831 г.; первая часть опубликована в 1808 г., над второй частью он работал с 1825 г., она была опубликована после его смерти в 1832 г., третья часть не была написана. Рукопись второго тома «Мертвых душ» была сожжена Н. В. Гоголем остались только отдельные главы и наброски.
19 … студенты пройдут через длинный ряд «шпицрутенов» живых и мертвых «мастаков»… — Стенограммы лекций Эйзенштейна во ВГИКе сохранили подробнейшие анализы литературного, театрального, живописного, музыкального и архитектурного наследия. Из намеченных Эйзенштейном «живых мастаков» ему удалось пригласить далеко не всех. Перед студентами выступили И. А. Аксенов, прочитавший лекцию о театре и драматургии эпохи Шекспира; Ю. С. Глизер, рассказавшая о своей работе над эпизодической ролью в спектакле «На Западе бой» Вс. В. Вишневского; М. М. Штраух, говоривший о своем методе работы в театре.
20 Качалов Василий Иванович (1875 – 1948) — народный артист СССР, артист МХАТ, создатель классического образа Барона в спектакле «На дне».
21 Баталов Николай Петрович (1899 – 1937) — заслуженный артист РСФСР, артист МХАТ; с 1923 г. снимался в кино, исполнитель главных ролей в фильмах «Мать» (реж. Вс. Пудовкин), «Путевка в жизнь» (реж. Н. Экк) и др.
22 Штраух Максим Максимович (р. 1900) — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Сыграл в 1932 г. роль старого еврея-портного Рубинчика в пьесе Н. Зархи «Улица Радости» на сцене московского Театра Революции (постановка и оформление И. Ю. Шлепянова).
23 Аксенов Иван Александрович (1884 – 1935) — советский поэт, переводчик, театровед; специалист по истории английского театра XVI – XVII вв. (елизаветинской драмы).
24 Шкловский Виктор Борисович (р. 1893) — советский писатель и литературовед, автор исследований по теории литературы. В 20-е гг. выступал как представитель «формальной школы».
25 Вельтман Александр Фомич (1800 – 1870) — русский романист и археолог, автор романов «Странник» (1831), «Кащей Бессмертный» (1833), «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (1848 – 1863) и др. Творчество А. Ф. Вельтмана интересовало советских литературоведов в плане изучения художественной формы.
26 Вебстер (Уэбстер) Джон (ок. 1580 – ок. 1625) — английский драматург, современник Шекспира. Созданные им «трагедии крови» отличаются мрачной фантастикой. Лучшие произведения Вебстера — «The white Devil», русский перевод Аксенова под заглавием «Белый дьявол», и «The Duchess of Amalfi» (1614; «Герцогиня Амальфи»). В принципах композиционного построения 498 его трагедий Эйзенштейн видел прообраз некоторых кинематографических приемов (см.: «Диккенс, Гриффит и мы», настоящее издание, том VI).
27 Зархи Натан Абрамович (1900 – 1935) — советский драматург, один из основоположников отечественной кинодраматургии, с 1924 г. работал в кино (преимущественно с Вс. И. Пудовкиным).
28 Волькенштейн Владимир Михайлович (р. 1902) — советский драматург, автор ряда теоретических работ, в том числе «Драматургия» (1923).
29 Эрдман Николай Робертович (р. 1902) — советский драматург, автор известной в 1920-е гг. пьесы «Мандат» (1925).
30 Бабель Исаак Эммануилович (1894 – 1941) — советский писатель. Наиболее известны его книги рассказов «Конармия» (1926) и «Одесские рассказы» (1931). Пьеса Бабеля «Закат» (1928) была поставлена в МХАТ II. Работал в 1937 г. с Эйзенштейном над вариантом сценария «Бежин луг».
31 … примеры обработки сюжетов, «заданных» со стороны?! — Эйзенштейн напоминает, что сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» были подсказаны Н. В. Гоголю А. С. Пушкиным.
32 Джойс Джемс (1882 – 1941) — ирландский писатель. Подробнее см. стр. 195.
33 Эйзенштейн анализирует творческий метод Э. Золя (1840 – 1902) в исследовании «Пафос» (т. III настоящего издания).
34 Домье Оноре (1808 – 1879) — французский живописец и график, искусство которого оказало большое влияние на Эйзенштейна-рисовальщика.
35 Дега Эдгар (1834 – 1917) — французский художник, близкий к импрессионистам.
36 Тулуз-Лотрек Анри (1864 – 1901) — французский живописец и график.
37 Стендаль — псевдоним французского писателя Анри-Мари Бейля (1783 – 1842).
38 Люди в футлярах — парафраз заглавия известного чеховского рассказа «Человек в футляре».
39 «В людях» у «Парамаунта». — Употребляя горьковское выражение (от заглавия его известного произведения), Эйзенштейн имеет в виду свое пребывание в США в 1931 г. и работу по договору на постановку фильмов с американской фирмой «Парамаунт».
40 Драйзер Теодор (1871 – 1945) — американский писатель, роман которого «Американская трагедия» был переработан Эйзенштейном и Айвором Монтегю в сценарий для фирмы «Парамаунт». Идейная концепция Эйзенштейна вызвала возражения продюсеров, и сценарий был отклонен. Постановка фильма по роману Драйзера была передана режиссеру Джозефу Штернбергу.
41 Любич Эрнст (1892 – 1947) — кинорежиссер. С 1913 г. работал в Германии, позднее, с 1922 г., в Голливуде. В СССР демонстрировался ряд его фильмов: «Мадам Дюбарри» с Полой Негри в заглавной роли, «Розита» и «Дороти Верной» с Мэри Пикфорд, «Брачный круг» и др.
42 … денежной аристократии Пятого авеню… — Пятое авеню — улица в Нью-Йорке, где живут американские миллионеры, представители финансовой олигархии.
43 Мойры — богини судьбы у древних греков.
44 Она, как матери и сестры черных ребята из Скотсборро… — Речь идет о судебном процессе 1931 г., происходившем, в г. Скотсборро (США), 499 над девятью негритянскими юношами, ложно обвиненными в изнасиловании двух белых женщин. Под давлением протестов общественности США и всего мира судебные власти были вынуждены отменить вынесенные смертные приговоры, присудив, однако, обвиняемых к многолетнему тюремному заключению.
45 Ваал — всесильное божество, которому приносили человеческие жертвы. Культ Ваала был распространен в древних странах Востока — Финикии, Сирии и Палестине во втором-первом тысячелетиях до н. э.
46 Динамов Сергей Сергеевич (1901 – 1939) — советский литературовед, работавший преимущественно в области изучения английской и американской литературы XX в.
47 … Драйзер первый приветствовал все то, что вносила наша перетрактовка его вещи. — В письме к Эйзенштейну от сентября 1931 г. Драйзер писал об эйзенштейновской инсценировке «Американской трагедии»: «Меня устраивало, что у “Парамаунта” нет никого, кто бы мог ее сделать так же хорошо, как Вы. Меня привел в ярость их абсолютно узкопрактический и коммерческий подход, при помощи которого они вышвырнули этот оригинальный план» (ЦГАЛИ, ф. 1932, оп. 1, ед. хр. 1795). Об истории постановки «Американской трагедии» см. статью М. Уманской «Теодор Драйзер против Джесси Ласки» (журнал «Литература мировой революции», 1931, № 8 – 9, стр. 206 – 208).
48 … о’нейлевских героев… — Имеются в виду персонажи американского драматурга Юджина О’Нейла (1888 – 1953). В пьесе «Странная интерлюдия» («Strange Interlude», 1927; в 1932 г. экранизирована режиссером Р. Леонгардом), написанной под сильным влиянием фрейдизма, сознательный логический диалог перемежается с монологами, долженствующими выявить ход подсознательного, сбивчивого мышления героя.
49 На значение Джойса для кино я обращал внимание… — Эйзенштейн ссылается на свой ответ на анкету, напечатанный в журнале «На литературном посту», М., 1928, № 1, стр. 71 – 73.
50 … он хотел видеть те части «Броненосца» и «Октября», что на киноучастке культуры выразительных средств движутся по сродственным путям. — Эйзенштейн имеет в виду, вероятно, те монтажные построения в своих фильмах, которые продиктованы не логикой последовательного сюжетного действия, но логикой внутреннего — «оценочного» — образно-мыслительного процесса. В фильме «Октябрь», помимо широкоизвестных монтажных тропов (Керенский — павлин, меньшевик — арфа и т. п.) и «интеллектуальных монтажных фраз» («боги», подъем Керенского по лестнице), этим методом построены эпизод «Наступление Корнилова» (например, врезка «восстанавливающейся» статуи или монтажный стык: «надвигающийся танк — разбитая статуэтка») и ряд других моментов. Что же касается «Броненосца “Потемкин”», то сам Эйзенштейн неоднократно указывал, что эксперименты «интеллектуального кинематографа» выросли из знаменитой монтажной фразы «Взревели камни» («львы» «Одесской лестницы»).
51 Дюжарден Эдуард — французский писатель, автор романов, сказок и поэм. «Срезанные лавры» («Les lauriers sont coupés») — роман Дюжардена. В своих «Автобиографических записках» Эйзенштейн рассказывает о рисунке Тулуз-Лотрека, изобразившего Дюжардена рядом с актрисой Иветт Гильбер.
52 Гофман Эрнст-Теодор-Амедей (1776 – 1822) — немецкий писатель-романтик.
53 500 Новалис — псевдоним немецкого поэта-романтика Фридриха фон Гарденберга (1772 – 1801).
54 Жерар де Нерваль — псевдоним французского поэта, драматурга, критика Ж. Лабрюни (1808 – 1855) — представителя романтической школы.
55 Ларбо Валери (1881 – 1956) — французский писатель, на русский язык была переведена в 20-х гг. его книга «Час с лицом».
56 Цейтлупа — кинокамера, производящая съемку убыстренно — до 10 000 кадров в секунду.
57 Подлинный материал тонфильмы, конечно, — монолог. — Полемическое преувеличение Эйзенштейна. Ни для самого сценария «Американская трагедия», где лишь один из эпизодов был построен по принципу внутреннего монолога, ни для его более поздних высказываний и творческой практики не характерен подобный максимализм.
58 … не означает, что мышленный ход как монтажная форма обязательно всегда должен иметь сюжетом ход мысли! — В этом высказывании Эйзенштейн увидел впоследствии «рациональное зерно» статьи, имеющее важное значение не только для принципов построения кинофильма, но и для теории самого процесса художественного творчества (см., например, его выступление на Всесоюзном творческом совещании 1935 года).
59 Помпея — римский город, погибший во время извержения Везувия (63 г. до н. э.). Однокомнатная анфилада — комната Эйзенштейна, в которой он жил с 1920 по 1934 г., в доме по Чистопрудному бульвару № 23.
60 Штернберг Джозеф, фон (р. 1894) — американский кинорежиссер, поставивший фильмы: «Подполье» (1927), «Доки Нью-Йорка» (1928), «Голубой ангел» (1930) и др. «Американская трагедия» была поставлена им в 1931 г.
«Э!». О чистоте киноязыка*
Статья написана в апреле 1934 г. Опубликована в журнале «Советское кино», М., 1934, № 5, стр. 25 – 31, по тексту которого и воспроизводится о дополнением одной фразы по авторизованной машинописи этой статьи, сохранившейся в архиве С. М. Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1106). Частично вошла в «Хрестоматию кинорежиссуры», сост. Ю. Геникой, М., 1930.
Эйзенштейн сам указывает на повод написания статьи — заметку А. М. Горького «О языке», напечатанную в газете «Правда» 18 марта 1934 г. с большим редакционным введением, обращавшим внимание деятелей культуры на важность поднятых в заметке вопросов. Горький выступил против засорения русского литературного языка псевдонародными словечками («подъелдыкивать», «шамать» и т. п.) и призвал писателей тщательно работать над языком, ибо «борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры» (см.: «М. Горький о литературе», М., «Советский писатель», 1953, стр. 663).
Причина начатого Эйзенштейном разговора о чистоте киноязыка заключалась в том, что с приходом звука в начале 30-х гг. многие кинематографисты полемически открещивались или просто пренебрежительно отказывались от ряда принципов и достижений 20-х гг., в частности от выразительных возможностей монтажа и композиционного построения кадра. Отнюдь не придерживаясь метафизической мысли о неизменности использования монтажных 501 принципов, Эйзенштейн стремится в статье показать необходимость закономерного художественного построения для выявления тематических и идейных задач произведения. По его мысли, отказ от определенной системы выразительных средств не должен означать отказа вообще от всякой художественной закономерности, от выразительности и отшлифованности построения. Именно поэтому, а не из желания возродить эстетику ушедшего периода обращается он к анализу эпизода из «Броненосца “Потемкин”».
Показательно, что в данной статье Эйзенштейна интересуют не отдельно монтаж или композиция кадра, а именно их взаимосвязь и взаимообусловленность. В рамках приведенного примера он вскрывает характер этой взаимосвязи в «монтажном» кинематографе 20-х гг., но не касается изменений ее с приходом звука. В этом смысле такие статьи, как «Монтаж 1938» и «Вертикальный монтаж» (см. настоящий том), могут рассматриваться как продолжение и развитие данной статьи.
1 … кто первый скажет «э»… — Эйзенштейн имеет в виду известный спор Добчинского с Бобчинским в комедии Гоголя «Ревизор».
2 … магнаты моды — Пату, Борт, м-м Ланвен. — Здесь Эйзенштейн перечисляет крупнейшие французские фирмы — законодатели мод.
3 … «освоили классиков». — Эйзенштейн пользуется здесь терминологией критики начала 30-х гг., приветствовавшей появление в 1934 г. ряда экранизаций классической литературы: «Иудушка Головлев» А. Ивановского (по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»); «Петербургская ночь» Г. Рошаля и В. Строевой (по мотивам повестей Ф. М. Достоевского «Белые ночи» и «Неточка Незванова»); «Гроза» В. Петрова (по драме А. Н. Островского). Как правило, в этих экранизациях и в ряде других фильмов были заняты театральные актеры — Е. Корчагина-Александровская, М. Тарханов, Б. Добронравов, М. Жаров, В. Массалитинова и другие.
4 … «за хвостик тетеньки держаться?» — цитата из популярного стихотворения А. Франка «Хвостик».
5 Тарасова Алла Константиновна (р. 1898) — народная артистка СССР, актриса МХАТ, исполняла главные роли в фильмах В. Петрова «Гроза» (1934), «Петр Первый» (1937 – 1939) и другие.
6 Белый Андрей (псевдоним Бугаева Бориса Николаевича, 1880 – 1934) — русский поэт, прозаик и литературовед, в дореволюционный период — один из крупнейших теоретиков русского символизма. Эйзенштейн внимательно изучал его книгу «Мастерство Гоголя» (1934). В январе 1933 г. он председательствовал на вечере А. Белого в Политехническом музее в Москве.
7 «Иван» Довженко — автор сценария и режиссер А. П. Довженко, операторы Д. Демуцкий и Ю. Екельчик, композиторы И. Бэлза, Ю. Мейтус, Б. Лятошинский. Производство «Украинфильм» (Киев), 1932.
8 Рабле Франсуа (ок. 1494 – 1553) — французский писатель, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля», значительного литературного памятника французского Возрождения.
9 И эти страницы «Жерминаля»… — Дальше Эйзенштейн цитирует роман Э. Золя «Жерминаль» (1885).
10 Теруань де Мерикур (1762 – 1817) (или Анна Теруань из деревни Маркур) — одна из деятельниц Великой французской революции. 31 мая 1793 г. после ее речи в защиту партии Жиронды несколько женщин-якобинок настигли ее в Тюильрийском саду и высекли розгами, после чего она сошла с ума.
11 502 Де Ламбаль Мария-Тереза-Луиза, принцесса Кариньян (1749 – 1792) находилась в заключении с французской королевой Марией Антуанеттой (1755 – 1793). 3 сентября 1792 г. принцесса была убита; якобинцы водрузили ее голову и сердце на пики и пронесли под окнами замка Тампль, где была заключена королевская семья.
12 … к заканчиваемой мною книге «Режиссура»… — Над учебником «Режиссура» Эйзенштейн работал с 1933 г. до конца жизни, так и не успев завершить свой труд. В его архиве сохранилась рукопись почти законченного первого тома, посвященного вопросам выразительного проявления человека, выразительного движения и театральной мизансцены. См. IV т. настоящего издания.
13 Мизанкадр — термин, введенный С. М. Эйзенштейном в киноведение по аналогии с мизансценой. Если под последней он понимал закономерное движение актеров на сцене, то мизанкадр определяет движение актеров на съемочной площадке с учетом вертикальной плоскости и рамки кадра. Посвященный мизанкадру том «Режиссуры» Эйзенштейн написать не успел.
14 Commedia dell’arte (комедия профессиональная — итал.) — особая форма комедии масок, получившая распространение главным образом в Италии в XVI – XVIII вв.; ее тексты в значительной степени были импровизационными.
15 Форшлаг — в музыке — мелодический элемент из одной или нескольких нот, предшествующих основной ноте и при исполнении как бы сливающихся с ней.
16 … Графа Амори, Вербицкой или Брешко-Брешковского. — Граф Амори (псевдоним Рапгофа Ипполита Павловича), Вербицкая Анастасия Алексеевна, Брешко-Брешковский Николай Николаевич — авторы низкопробных романов и новелл, пользовавшихся популярностью у невзыскательных читателей в начале XX в.
Вступительное и заключительное слово на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии*
В архиве Эйзенштейна сохранилась стенограмма доклада 8 января 1935 г. с его правкой и дополнением — три варианта и заключительное слово 13 января 1935 г. (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1124 – 1127). Публикуется переработанный С. М. Эйзенштейном текст выступления, напечатанный в сборнике «За большое киноискусство», М., 1935, стр. 22 – 49, 160 – 165, с небольшими исправлениями по стенограмме.
Этот доклад — не только творческая декларация Эйзенштейна-художника, выразившая его взгляд на основные проблемы советского кино 30-х гг., но и программное теоретическое выступление, ознаменовавшее новый, зрелый этап в развитии взглядов Эйзенштейна-теоретика.
Изжив односторонние противопоставления различных творческих школ, различных этапов кинематографа, различных видов искусства (см. ранние статьи), Эйзенштейн рассматривает творческие искания, характерные для начала звукового периода, во взаимосвязи с достижениями 20-х гг. И то и другое предстает как закономерный и необходимый этап единой истории советского 503 кино. Точно так же кинематограф в целом рассматривается в связи со всей историей эстетической культуры человечества.
На творческом совещании 1935 г. шла острая полемика, участники которой были едины в утверждении двух главных задач советского звукового кино: активного изучения новой действительности и глубокого раскрытия человеческих характеров на экране. Однако, утверждая это, некоторые участники дискуссии призывали к пересмотру теоретических основ «монтажного кинематографа» 20-х гг. Эйзенштейн справедливо выступает против односторонности, требуя, чтобы советским кинематографом ни в коей мере не были утеряны та активность образной мысли и та культура выразительности, какие были достигнуты в немой киноклассике.
Вместе с тем читатель может видеть, насколько серьезно и органично были осознаны Эйзенштейном историческая исчерпанность «монтажно-типажной» поэтики и необходимость решать проблему человеческого характера, требующую пересмотра драматургических принципов немого периода.
В докладе и в заключительном слове Эйзенштейна прозвучала подлинная исповедь советского художника. Это был трудный период его пути: несколько режиссерских замыслов 1930 – 1934 гг. по разным причинам не получили осуществления, фильм о Мексике остался незавершенным (см. том I, стр. 148). И когда Эйзенштейн сосредоточился на теоретической и педагогической работе, его упрекали в том, что он якобы отошел от наступательных задач советского искусства и «замкнулся в башне из слоновой кости». В ответ на это Эйзенштейн страстно утверждает необходимость исследовать сложнейшие внутренние проблемы художественного творчества.
Вторая часть доклада — теоретическая — поразила участников совещания той шпротой, с какой были поставлены Эйзенштейном общие проблемы развития эстетической культуры, на первый взгляд казавшиеся очень отдаленными от насущных интересов творческой практики. В докладе было впервые сформулировано то, что в дальнейшем в ряде набросков получило название «Grundproblem» — «основной проблемы»: художник, создавая образ, должен опираться одновременно на высшие ступени, достигнутые человеческим сознанием, — и на самые простые, элементарные, первичные формы чувственного мышления, возникшие на заре исторического развития человека. (Так получил зрелое переосмысление тезис, высказанный в статье «Перспективы»: «единство предельной познавательности и предельной же чувственности».) И хотя прямая «подстановка» законов внутренней речи под закономерности монтажного мышления представляется во многом спорной — все же основное определение: «Диалектика произведения искусства…» (и далее до конца абзаца) должно быть признано достоянием марксистской эстетики. Неумирающую силу искусства Эйзенштейн связывает с тем, что внутри художественного образа как бы отпечатывается единство того всемирно-исторического пути, который пройден человеческим сознанием от самых первых его ступеней.
Мысль об этом была высказана в самой общей, местами схематичной форме, вне видимой связи с теми практическими проблемами кинематографа, которые обсуждались на совещании, но в дальнейшем Эйзенштейн продолжал разрабатывать поставленную им проблему все более конкретно и глубоко (этому посвящен ряд его работ). Для него это было не только 504 общетеоретическим положением, но и творческой позицией, которую он стремился осуществить в своей практике. И если в исследовательском плане доклад 1935 г. был предвестием крупнейших теоретических работ Эйзенштейна — от «Монтажа 1938» до «Неравнодушной природы», — то в плане творческом те задачи, что были провозглашены здесь, решались Эйзенштейном в «Александре Невском» и нашли более полное развернутое осуществление в «Иване Грозном».
1 … выступление Сергея Сергеевича… — С. С. Динамов на совещании 1935 г. выступал с основным докладом.
2 … в «Известиях», в моей последней статье… — «Самое важное» (о 15-летии советской кинематографии) — «Известия», 6 января 1935 г.; полностью в сб. «Избранные статьи», 1956, стр. 89 – 94.
3 «Стяжатели» («Счастье») — фильм режиссера А. Медведкина, производство Москинокомбината, 1934.
4 Марфа Лапкина — крестьянка, исполнявшая главную роль в фильме Эйзенштейна «Старое и новое».
5 … в той цитате… из моего выступления в Сорбонне. — Имеется в виду доклад, прочитанный Эйзенштейном в Парижском университете — Сорбонне весной 1930 г. Об этом выступлении см. в статье Эйзенштейна «Большевики смеются» и в «Автобиографических записках» (т. I). Цитаты из выступления Эйзенштейна в Сорбонне, которую зачитал С. С. Динамов, в правленном тексте выступления С. С. Динамова, опубликованном в сборнике «За большое киноискусство» (М., 1935), — нет.
6 … против роли «живого человека»… — См. комментарий к статье «Перспективы».
7 Анисимов Иван Иванович (р. 1899) — советский литературовед, член-корреспондент АН СССР. В конце 20-х – начале 30-х гг. выступал и в качестве кинокритика.
8 Сутырин Владимир Андреевич (р. 1902) — советский критик.
9 Постановление от 23 апреля — постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. о ликвидации РАПП и других литературных организаций и создании единого Союза советских писателей. Это постановление имело большое значение, знаменуя собой новый этап в развитии советской литературы и советского искусства — выход его на широкую дорогу социалистического реализма.
10 Юткевич Сергей Иосифович (р. 1904) — кинорежиссер, народный артист СССР. На совещании 1935 г. Юткевич выступал как один из главных оппонентов Эйзенштейна. Опираясь на творческую практику так называемой «ленинградской школы» (звуковые фильмы «Одна», «Златые горы», «Встречный», «Юность Максима», «Чапаев»), Юткевич призывал к критическому пересмотру теоретических крайностей «монтажно-поэтического» кинематографа немого периода. Его выступление опубликовано в виде статьи «За большое киноискусство» в книге «О киноискусстве. Избранное» (Изд-во Академии наук СССР, 1962).
11 «Последний маскарад» — фильм режиссера М. Э. Чиаурели, производство Госкинпром Грузии, 1934.
12 «Встречный» — фильм режиссера Ф. М. Эрмлера и С. И. Юткевича. Производство «Росфильм», 1932.
13 … сценарной нашей работе в Голливуде… — по заказу голливудской компании «Парамаунт» Эйзенштейн, Г. В. Александров и Э. К. Тиссэ должны были ставить звуковой фильм. Эйзенштейн не соглашался на постановку 505 картины по предлагавшимся ему ремесленным сценариям. Он взялся за написание сценария по роману французского писателя Блеза Сандрара «Золото (замечательная история генерала Иоганна Аугуста Зуттера)». Сценарий был отклонен, ибо вместо ожидаемого приключенческого фильма предприниматели столкнулись со страстным обличением стремления к наживе, с трагедией человека, втянутого в погоню за золотом. Лучшие эпизоды из истории гаитянской революции, о которых Эйзенштейн говорит дальше, — события освободительной борьбы на Гаити в 1802 г., положенные впоследствии в основу романа Ван-дер-Кука «Черное величество» и романа А. К. Виноградова «Черный консул». (См. прим. 5 к статье «Одолжайтесь!») О предполагавшейся постановке «Американской трагедии» по роману Драйзера см. комментарий к статье «Одолжайтесь!».
14 «Златые горы» — первый звуковой фильм С. И. Юткевича, производство Союзкино, 1931. Вступительное слово Эйзенштейна к фильму, при демонстрации его в Нью-Йорке в 1931 г., не оставило никаких следов в его архиве.
15 «Гроза» — фильм режиссера В. Петрова по драме А. Н. Островского. Производство «Союзфильм», 1934. «Петербургская ночь» — фильм режиссеров Г. Л. Рошаля и В. П. Строевой, производство Москинокомбината, 1934.
16 … «белые ночи»… — Имеется в виду эпизод фильма «Встречный» (реж. Ф. Эрмлер и С. Юткевич) — прогулка героев по ночному Ленинграду.
17 … мы, по существу, почти имеем в искусстве гегелевскую формулу… — Аналогия, проводимая Эйзенштейном, вполне правомерна в отношении художественного творчества с его особой, специфической ролью идеального.
18 Лафатер Иоганн Каспар (1741 – 1801) — швейцарский поэт, мистик, физиономист. Особенной известностью пользуется его трехтомное сочинение «Физиогномические фрагменты для поощрения познания человека и человеческой любви» («Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe»), изданное на немецком языке в Лейпциге в 1776 г. Физиогномика — учение о способе определения характера человека по чертам лица.
19 Гете определил физиогномику Лафатера как «гениальную эмпирию».
20 Брут Марк Юний (85 – 42 до н. э.) — один из руководителей заговора против Цезаря, убитого в 44 г. до н. э.
21 Об этом говорил еще достаточно недавно на съезде писателей Горький… — Эйзенштейн говорит здесь о докладе А. М. Горького на Первом съезде советских писателей 17 августа 1934 г. (см. Стенографический отчет съезда, 1934, стр. 2 – 8).
22 Купер Фенимор (1789 – 1851) — американский писатель, автор серии романов «Кожаный чулок» о колонизации Северной Америки.
23 Сю Эжен (1804 – 1857) — французский писатель, автор многотомного романа «Вечный жид» («Агасфер», 1844 – 1845).
24 Феваль Поль (1817 – 1887) — французский писатель бульварно-фельетонного типа.
25 … полным фундусом законов строения формы. — Фундус — в кинематографической практике стандартизированная деталь для строительства декораций. В данном контексте надо понимать в смысле перво-элементов.
26 506 Синекдоха — литературный прием, состоящий в наименовании части вместо целого (напр. Москва вместо СССР), единственного числа вместо множественного или наоборот.
27 Потебня Афанасий Алексеевич (1835 – 1891) — филолог, профессор Харьковского университета, один из основоположников современного русского языковедения.
28 Бирман Серафима Германовна (р. 1890) — народная артистка РСФСР; играла роль Ефросиний Старицкой в фильме «Иван Грозный». В архиве Эйзенштейна сохранилась их переписка этого периода.
29 Вундт Вильгельм Макс (1832 – 1920) — немецкий ученый, один из основателей экспериментальной психологии, автор исследования «Элементы народной психологии».
30 Леви-Брюль Люсьен (1857 – 1939) — французский ученый и философ Эйзенштейн имеет в виду его книги «Первобытное мышление» (М., 1930) и «Сверхъестественное в первобытном мышлении» (М., 1937).
31 Спенсер Герберт (1820 – 1903) — английский философ и социолог, один из основоположников позитивизма — разновидности идеализма. Позитивизм противопоставляет философскому мышлению позитивные данные опыта, сводящиеся к совокупности субъективных ощущений.
32 Леруа Оливье — современный французский антрополог, критиковавший Люсьена Леви-Брюля и стоявший на противоположных ему позициях по поводу мышления примитивных народов.
33 … формулы об «остранении»… — Имеется в виду термин, введенный литературоведами «формальной школы» (в частности, В. Б. Шкловским). В работах литературоведов значение «остранения» неправомерно абсолютизировалось. См. подробнее комментарий к «Программе преподавания теории и практики режиссуры».
34 … в создающейся Академии кинематографии… — В 1935 г. при ВГИКе была организована двухгодичная Киноакадемия для сценаристов и режиссеров.
35 Учение Марра. — Эйзенштейн отдает здесь дань характерному для его научной работы в 30-е гг. увлечению лингвистической теорией академика Н. Я. Марра (1864 – 1934).
36 … Корбюзье или Жолтовский… — Ле Корбюзье (псевдоним Шарля Эдуарда Жаннере, р. 1887) — французский архитектор, один из основателей конструктивизма в архитектуре. По его проектам в 30-х гг. построено в Москве несколько зданий. Жолтовский Иван Владиславович (1867 – 1960) — видный русский советский архитектор. Его работы основаны на воскрешении образности классической и ренессансной архитектуры.
37 Бляхин Павел Андреевич (1886 – 1961) — советский кинодраматург и писатель, автор повести «Красные дьяволята» (положенной в основу известного фильма), старый большевик. В 20-е гг. — один из руководящих работников советской кинематографии. На совещании выступил с речью, посвященной постановлению правительства от 11 января 1935 г. о награждении советских кинематографистов в связи с 15-летием советской кинематографии. Речь П. А. Бляхина см. в сб.: «За большое киноискусство», М., 1935, стр. 157 – 159.
38 Юков Константин Юлианович (1901 – 1938) — советский кинокритик, один из руководителей Ассоциации работников революционной кинематографии (АРРК), в 30-е годы — помощник начальника Главного управления кинофотопромышленности по художественной части.
39 507 … коринфскую капитель, или ионические завитки… — Эйзенштейн имеет в виду особенности классических архитектурных ордеров, установившихся в Древней Греции, — ионической капители с волютами-завитками и коринфской капители с более сложным лепным орнаментом.
40 Давид Жак-Луи (1748 – 1825) — французский живописец, представитель неоклассицизма во французском искусстве. Эйзенштейн говорит об его официально-академических портретах, созданных в годы наполеоновской империи.
41 Геллий Авл — римский писатель II в. н. э., автор труда «Аттические ночи».
42 Деборин Абрам Моисеевич (1881 – 1963) — философ-марксист.
43 Козинцев Григорий Михайлович (р. 1905) — советский кинорежиссер. В 1920 – 1940-е гг. работал вместе с Л. З. Траубергом. Их лучшая работа — «Трилогия о Максиме».
44 Москвин Андрей Николаевич (1901 – 1960) — советский кинооператор. В течение многих лет работал с режиссерами Г. М. Козинцевым и Л. З. Траубергом, а в 1943 – 1945 гг. — с Эйзенштейном по фильму «Иван Грозный» (павильонные съемки). Высказывание о Москвине, на которое ссылается Эйзенштейн, было повторено Г. М. Козинцевым позднее: «С моим другом А. Н. Москвиным мы в молодости немало поснимали лихих ракурсов и сложной игры светотени, однако истинную силу выразительности ощущали тогда, когда речь шла о крохотном изменении кадра, о том, повернуть ли почти незаметно панорамную ручку или нет» («Всесоюзное творческое совещание работников кинематографии», М., «Искусство», 1959, стр. 263).
45 Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804 – 1876) — французская писательница. Цитата взята из ее письма к Г. Флоберу.
46 Антонов Александр Павлович (1898 – 1962) — советский актер. Ранее — рабочий одного из заводов Симоновского района Москвы. Учился театральному искусству под руководством Эйзенштейна. Работал в театре Пролеткульта, потом ассистент Эйзенштейна по «Стачке» и «Броненосцу “Потемкин”». В «Броненосце “Потемкин”» играл роль Вакулинчука. Позднее выступал во многих советских фильмах.
47 … мне хочется сказать Сергею Васильеву. — Васильев Сергей Дмитриевич (1900 – 1959) — советский кинорежиссер, народный артист СССР, один из создателей «Чапаева». В своей речи на творческом совещании 1935 г. выражал опасение, что теоретическая работа Эйзенштейна ведется «в отрыве от практики».
48 Башня из слоновой кости — выражение французского поэта и критика Сент-Бёва (1804 – 1869), означавшее уход поэта от прозы буржуазной жизни, В нашей литературной речи характеризует индивидуалистическое творчество, оторванное от жизни, чуждое интересам народа.
49 Шумяцкий Борис Захарович (1886 – 1943) — с 1930 по 1937 г. начальник Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) при Совнаркоме СССР.
50 Эрмлер Фридрих Маркович (р. 1898) — кинорежиссер, народный артист СССР.
51 Те слова, которые к нам обращали ЦК нашей партии, и правительство Страны. Советов. — В приветствии ЦК ВКП (б) работникам советской кинематографии говорилось, в частности: «ЦК ВКП (б) приветствует работников 508 советской кинематографии, празднующей 15 лет своего существования. Праздник советского кино — самого массового из искусств — есть праздник всей советской культуры и одно из самых ярких свидетельств ее достижений» (цит. по журн. «Советское кино», 1935, № 1, стр. 10).
Программа преподавания теории и практики режиссуры*
Опубликована в журнале «Искусство кино», М., 1936, № 4, стр. 51 – 58, по тексту которого и воспроизводится. Авторского подлинника не сохранилось.
Над программой Эйзенштейн впервые начал работать в 1928 г., будучи преподавателем режиссуры в Государственном техникуме кинематографии.
В архиве режиссера сохранилась объемистая рукопись — «Подготовительные материалы программы». В них Эйзенштейн наметил круг важнейших проблем и объем исследуемого материала, а также впервые сформулировал некоторые принципиальные положения (например, установил важное, развиваемое им в дальнейшем понятие «звукозрительный контрапункт» — «контрапунктическое кино»). Уже здесь Эйзенштейн определил, хотя и не полно, цели и задачи программы и профессию кинорежиссера. В дальнейшем Эйзенштейн много занимался вопросами режиссерского метода, изучал взаимосвязи театра и кино, анализировал специфику киноискусства, подробно рассматривал монтаж в кино, его историю и виды. Особое внимание Эйзенштейн уделял проблемам психологии творчества и психологии зрительского восприятия. Он настойчиво искал общие закономерности кинорежиссуры как единого, цельного, сознательного творческого метода, стремился определить внутренние законы развития режиссуры, наметить ее историю и создать ее теорию. Эйзенштейн не замыкался в рамках собственно кинорежиссуры и киноискусства. Он связывал теорию режиссуры с другими науками, включал в ее круг ряд научных дисциплин, широко опираясь на биологию, физиологию, психологию, в особенности на учение Павлова о высшей нервной деятельности. Определяя свои общеэстетические позиции, он основывается на эстетике Чернышевского (приводя в качестве основополагающей мысль Чернышевского об искусстве как воспроизведении жизни и приговоре над ней).
В 1932 г. Эйзенштейн начинал работать во Всесоюзном государственном институте кинематографии — заведовал кафедрой режиссуры и читал основной предмет — теорию и практику кинорежиссуры. Однако программы курса кинорежиссуры не существовало, и это, естественно, отрицательно сказывалось на профессиональном кинообразовании. Выработка программы была выдвинута творческой практикой советского кино на первый план, стала жизненной необходимостью. Эйзенштейн берется за решение этой насущной проблемы. В 1933 г. он публикует «Гранит кинонауки» («Советское кино», М., 1933, № 5 – 6, стр. 58 – 67; № 7, стр. 66 – 74; № 9, стр. 61 – 73) — первый вариант программы преподавания кинорежиссуры. В предисловии к ней Эйзенштейн писал: «… мы впервые делаем попытку не только поставить разумное обучение и воспитание режиссера, но стараемся заложить ряд базисных отправных начал в кинотеории, теории выразительности и методики режиссерского творчества вообще» («Советское кино», 1933, № 5 – 6, стр. 58). Сам Эйзенштейн назвал «Гранит кинонауки» полуконспектом, полупрограммой, 509 в которой «делается попытка… разобраться во всех основных положениях, определяющих этот род деятельности, и диалектически вскрыть вопросы творческой деятельности режиссера и тех элементов, через которые она реализуется» (там же). То, что Эйзенштейн скромно называет «попыткой», в действительности представляло собой глубокое исследование, опиравшееся на прочный научный фундамент — труды Маркса, Энгельса, Ленина. Особое место занимают в этой работе высказывания Ленина о диалектике — они помогли Эйзенштейну в исследовании сложнейших эстетических проблем киноискусства. Эйзенштейн широко использует в программе научное и художественное наследие и последние достижения человеческой мысли в области философии, эстетики, истории, психологии, физиологии и, разумеется, смежных искусств. Всем своим строем программа призвана воспитать режиссеров — активных участников социалистического строительства, художников — бойцов за новое искусство, проникнутое идеями коммунизма. Не все части программы были равноценны и бесспорны. «Гранит кинонауки» вызвал дискуссионные отклики. Эйзенштейн внимательно изучил критические замечания и учел итоги обсуждения. В процессе своего лекционного курса во ВГИКе он пересмотрел многие разделы программы, значительно переработав ее в целом. Публикуемая программа 1936 г. отличается от предыдущей большей конкретностью, она максимально приближена к реальному учебному процессу, в ней четко сформулированы задачи программы режиссуры, определен метод и методика преподавания, его научные основы. В дальнейшем Эйзенштейн продолжал работать над совершенствованием программы, заботясь о том, чтобы она отражала новые достижения советского киноискусства и его теории.
1 … практического перестроения социальной действительности… — Это утверждение давало повод для вульгаризаторских толкований и обвинений Эйзенштейна в том, что он игнорирует сущность и специфику искусства. Между тем эту мысль, часто встречающуюся у Эйзенштейна в те годы, следует понимать двояко. С одной стороны, практическая деятельность трудового народа рассматривалась Эйзенштейном как творчество, более того, как наивысшая форма творчества (вслед за Лениным он говорил о социализме как о «творчестве народных масс»). С другой стороны, «практическим перестроением социальной действительности» на языке того времени Эйзенштейн называет общественную функцию советского искусства, его активную роль в переустройстве мира.
2 … взаимосвязь всех дисциплин… — Взаимосвязи учебных дисциплин Эйзенштейн всегда придавал важнейшее значение. 8 марта 1934 г. он выступил с докладом «О синхронизации дисциплин на режиссерском факультете» на объединенном заседании Бюро Совета научных работников и кафедры кинорежиссуры (архив ВГИКа).
3 Боде Рудольф — автор немецкой книги «Ausdrucksgymnastik», 1922 («Выразительная гимнастика»).
4 Биомеханика — разработанная народным артистом РСФСР Вс. Мейерхольдом система физического воспитания актера.
5 1) Развитие необходимых данных для направленного восприятия. — В этом разделе речь идет о методах сознательной, правильной, целевой оценки фактов и явлений действительности. Его задача — на литературных примерах и на примерах живой практики познакомить с техникой аналитической работы, научить правильно сопоставлять данные анализа.
6 г) использование наследства — в «Граните кинонауки» есть прямая 510 ссылка на ленинское учение о классическом наследстве (см. «Советское кино», 1933, № 5 – 6, стр. 63).
7 … объективность и тенденциозность. — Имеется в виду марксистский анализ этих понятий (в «Граните кинонауки» есть ссылка на анализ их у Энгельса, см. там же).
8 Техника направленной фактографии. — Здесь — система осмысленного, целевого сбора и отбора фактов.
9 Эдисон Томас Альва (1847 – 1931) — выдающийся американский электротехник-изобретатель, основатель крупных электротехнических предприятий и компаний.
10 Форд Генри (1863 – 1947) — основатель американского автомобильного треста, ставшего одной из крупнейших монополий США. На предприятиях Форда впервые стала применяться потогонная конвейерная система организации производства, получившая название фордизма.
11 ГУКФ — Главное управление кинофотопромышленностью. ГУКФ был образован 15 марта 1933 г. В 1938 г. все организации ГУКФа были переданы Комитету по делам кинематографии при СНК СССР (постановление СНК СССР от 23 марта 1938 г.)
12 Режиссер на Западе и в СССР. — В «Граните кинонауки» к этому разделу Эйзенштейн дает большой список фильмов (см. «Советское кино», 1933, № 5 – 6, стр. 65 – 66).
13 … присвоена квалификация технического помрежа. — В «Граните кинонауки» Эйзенштейн писал: «Нами взят за принцип метод, по которому окончание каждого курса института дает законченную производственную подготовленность к определенному разделу производственной деятельности по циклу режиссерских функций: от разведчика (технического помрежа) через помрежа по художественной части (два курса), ассистента (три курса) к сопостановщику и режиссеру (четыре курса и защита дипломного проекта)» («Советское кино», 1933, № 5 – 6, стр. 67).
14 Мизансцена-резонэ — от франц. «raisonner» — обдумывать, обсуждать, рассуждать — один из центральных терминов эйзенштейновского учения о мизансцене: не случайная, а обдуманная, всесторонне обсужденная мизансцена, законы которой можно теоретически обосновать. В лекции на режиссерском факультете ВГИКа (1936 г.) Эйзенштейн говорит: «Что такое мизансцена-резонэ? Это мизансцена “в порядке рассуждения”, когда на каждом этапе ведется рассуждение по ее поводу. Термин взят из французской практики — каталог-резонэ, то есть исследовательский каталог» (Архив кабинета кинорежиссуры ВГИКа, фонд С. М. Эйзенштейна, папка № 52, лекция от 22 июня 1936 г.).
15 4) Несостоятельность формальной логики и недостаточность «здравого смысла» (Ф. Энгельс). — Имеется в виду следующее место из работы Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке»: «Здравый человеческий смысл, весьма почтенный спутник в домашнем обиходе, между четырьмя стенами, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится пуститься в далекий путь исследования» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения, 1955, т. II, стр. 121). Приведя в «Граните кинонауки» эту цитату, Эйзенштейн добавляет: «Метафизическое мышление канонами формальной логики совершенно так же безнадежно и в вопросах композиции» («Советское кино», 1933, № 7, стр. 66).
16 Гелиотропизм (греч. hēlios — солнце + tropos — поворот, направление) — иначе фототропизм — свойство растений (например, подсолнечника) 511 поворачиваться к источнику света (положительный гелиотропизм) или отворачиваться от него (отрицательный гелиотропизм).
17 Геотропизм (греч. gë — земля + tropos — поворот, направление) — свойство растущих органов растений принимать определенное положение по отношению к центру Земли, например корни — вниз (положительный геотропизм), стебель — вверх (отрицательный геотропизм).
18 Тропизм низших животных… — Здесь вернее употребить термин не тропизм (относящийся к растению), а таксисы (греч. taxis — расположение в порядке) — биологические движения подвижных одноклеточных организмов, являющиеся реакцией на определенные раздражения и направленные к источнику раздражения (положительные таксисы) или от него (отрицательные таксисы).
19 Платон (420 – 347 до н. э.) — древнегреческий философ.
20 Аристотель (384 – 322 до н. э.) — великий древнегреческий мыслитель.
21 Лукиан (р. ок. 120, ум. после 180) — древнегреческий писатель-сатирик.
22 Квинтилиан Марк Фибий (ок. 35 – 95) — римский оратор, автор книги «Наставления в ораторском искусстве».
23 Цицерон Марк Тулий (106 – 43 до н. э.) — оратор, писатель, политический деятель древнего мира.
24 Декарт Рене (1596 – 1650) — французский философ и ученый.
25 Спиноза Бенедикт (1632 – 1677) — голландский философ.
26 Лессинг Готхольд Эфраим (1729 – 1781) — немецкий писатель, философ, теоретик искусства.
27 Энгель Иоганн Якоб (1741 – 1802) — немецкий писатель, автор двухтомного сочинения «Ideen zu einer Mimik» («Мысли о мимике»), вышедшего в 1785 г. (Эйзенштейн ошибочно указывает инициал М.)
28 Дюшен Гильом-Бенжамен (1806 – 1875) — французский врач, основатель электротерапии.
29 Грасиоле (или Гратиоле) Луи Пьер (1815 – 1865) — французский физиолог, занимавшийся преимущественно структурой мозга. Автор книги «О физиономии человека и о выразительных движениях» (1865).
30 Дарвин Чарльз Роберт (1809 – 1882) — английский ученый, создатель теории развития органического мира. Здесь имеется в виду его работа «Выражение эмоции».
31 Бехтерев Владимир Михайлович — русский психиатр и невролог, один из основоположников русской экспериментальной психологии. (См. прим. 8 к статье «Перспективы»).
32 Д’Удин Жан — автор книги «Искусство и жест» («L’art et le geste», 1910).
33 Гавеллок Эллис — английский ученый, в одной из его работ «Танец жизни» («The dance of life»), Нью-Йорк, 1923, имеется глава, посвященная танцу как выразительному движению.
34 Джемс Уильям (1842 – 1910) — американский психолог и философ.
35 Клагес Людвиг (1872 – 1956), немецкий философ, социолог, занимался также вопросами выразительности человека. Ему принадлежит работа «Выразительное движение и формирующая сила» (1913).
36 Пидерит Теодор (1826 – ?) — немецкий врач, психолог. Автор книги «Мимика и физиогномика» (1886). Занимался также вопросами выразительности человека.
37 512 Карус Карл Густав (1789 – 1869) — немецкий врач и естествоиспытатель.
38 Кэнон Уолтер Бредфорд (1871 – 1945) — американский физиолог, исследователь физиологии эмоций.
39 Фрейд Зигмунд (1856 – 1939) — австрийский врач, психолог, создатель «теории психоанализа». О взглядах Эйзенштейна на фрейдизм см. его «Автобиографические записки», т. I настоящего издания.
40 Лешли Карл (р. 1890) — американский психолог, сводящий сознание человека к его поведению.
41 Павлов — Эйзенштейн имеет в виду известного физиолога, академика Ивана Петровича Павлова (1849 – 1936).
42 Дельсарт Франсуа-Александр Никола (1811 – 1871) — французский вокалист и теоретик сценического жеста.
43 Волконский Сергей Михайлович (1860 – 1937) — автор книги «Выразительный человек», пропагандировавший в России в 1910-х гг. учение Дельсарта о пластике и жесте.
44 Раздел IV. Процесс выразительного проявления. — В подготовительных материалах к программе (1928) Эйзенштейн, анализируя данную проблему, писал: «В отличие от формулы — выражение есть “знак” (Клагес) действия (намерения) или “уподобление” (Бехтерев) действию, я утверждаю, что выражение есть не статический знак или подобие, а есть процесс самого этого действия…» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
45 Филогенез — процесс развития всех органических форм возникновения жизни на земле.
46 … как переход к выразительному произведению. — «Ключ к этому указан еще Энгельсом: “Мы в состоянии вызвать определенное движение, создав те условия, при которых оно происходит в природе”» («Диалектика природы», М., Госполитиздат, 1950, стр. 182). Теория конфликта и старается с возможной степенью приближения постигнуть и изложить условия, в которых и при которых «протекает выразительное проявление в природе, дабы на основе знания их и подлежащих им законах быть в состоянии конструировать и реконструировать необходимые выразительные проявления в образах искусства» («Гранит кинонауки». — «Советское кино», 1933, № 7, стр. 68).
47 б) ошибка формалистов и теория остранения. — Имеются в виду представители так называемой «формальной школы» в русском литературоведении (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский и др.), выступившие в 10 – 20-е гг. с теорией, в которой придавалось первенствующее значение форме произведения и отдельным ее элементам, причем форма рассматривалась в отрыве от содержания. Идеалистическая теория формалистов была подвергнута в 1927 – 1929 гг. критике со стороны марксистов-литературоведов.
Теория остранения — термин, предложенный В. Б. Шкловским в его статье «Искусство как прием» (сборник «Поэтика», 1919): «… не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание “видения” его, а не “узнавания”», — то есть вещь (предмет) не называлась своим именем, «не узнавалась», а описывалась, как в первый раз виденная; в качестве примера такого «остранения» В. Б. Шкловский приводил в своей статье описание Л. Н. Толстым оперного представления в «Войне и мире».
В исследовании «Художественная проза. Размышления и разборы» («Советский писатель», М., 1959, изд. 2-е, М., 1961) В. Б. Шкловский, не упоминая 513 термина «остранение» и не отменяя его, дает новую трактовку этого теоретического положения, опираясь на мысли Ленина о диалектике (см. главу «О заостриваниях притупившихся различий» — стр. 136, изд. 1959 г.) и анализируя новый опыт искусства, в частности — «эпический» театр Брехта (см. главу «Обновление понятия» — стр. 443, изд. 1959 г.).
48 «Ленинградская школа». — Имеется в виду ряд картин киностудии «Ленфильм», в которых имелись ошибки эстетского характера, в частности преувеличивалось значение изобразительного момента в ущерб содержанию драматургии («СВД», «Чертово колесо» и др.). «Ленинградской школой» часто называли коллектив мастеров киностудии «Ленфильм». Художественной школы, объединенной единством стилевых признаков, под таким названием не существовало.
49 Театр Мэй Лань-фана. — Мэй Лань-фан (1884 – 1961) — крупнейший актер китайского классического театра, лучший исполнитель женских ролей (по традиции в классическом театре Китая женские роли исполняются мужчинами). Во время гастролей в СССР в 1935 г. познакомился с Эйзенштейном. Знакомство переросло в тесную дружбу. Эйзенштейн внимательно изучал творчество Мэй Лань-фана и посвятил ему статьи «Театр Мэй Лань-фана» и «Чародею грушевого сада».
50 Японский композиционный метод — см. в настоящем томе статью Эйзенштейна «За кадром».
51 Обертонный монтаж — см. в настоящем томе статьи Эйзенштейна «Четвертое измерение в кино» и «Вертикальный монтаж».
52 Подобных специальностей имеется три… — Ныне ВГИК присваивает дипломантам звания: режиссер документального фильма, режиссер научно-популярного фильма, режиссер учебного фильма, режиссер художественного фильма.
53 Психологический фильм — по-видимому, имеется в виду жанр камерной психологической драмы.
54 … не менее одной цельной постановки на производстве. — Эйзенштейн всегда резко протестовал против «защиты» выпускником диплома «на бумаге» и требовал экранных работ как единственного критерия для аттестации дипломанта. Но слабая техническая база ВГИКа тех лет и трудности съемки дипломного фильма на кинопроизводстве заставили Эйзенштейна пойти на компромисс. Ныне требование Эйзенштейна стало правилом: выпускник режиссерского факультета ВГИКа в качестве диплома представляет готовый фильм.
Монтаж 1938*
Статья написана в марте – мае 1938 г. Впервые опубликована в журнале «Искусство кино», 1939, № 1, стр. 37 – 49. В ЦГАЛИ хранится рукопись Эйзенштейна — четыре редакции (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1180 – 1186). Последняя, четвертая редакция наиболее полно воспроизведена в кн.: Л. В. Кулешов, Основы кинорежиссуры, М., 1941, стр. 310 – 333, по тексту которой и печатается с небольшими исправлениями по авторскому подлиннику. Сделана небольшая купюра текста, чтобы избежать дословного повторения одного и того же абзаца.
Проблематикой киномонтажа и вопросами, связанными с ним, Эйзенштейн занимался на протяжении всей своей творческой жизни. «Предтечей» 514 основополагающего цикла работ Эйзенштейна о монтаже была первая же его декларация «Монтаж аттракционов» (печатается в настоящем томе) основные принципы которой были распространены с театра на кино в статье «Метод постановки рабочей фильмы». Положения этих ранних деклараций были развиты либо пересмотрены в основных теоретических статьях конца 20-х гг. — «Бела забывает ножницы», «Нежданный стык», «Будущее звуковой фильмы. Заявка», «За кадром», «Перспективы», «Четвертое измерение в кино», исследованиях и лекциях 30-х гг. — «Э! О чистоте киноязыка», «Примеры изучения монтажного письма» и ряде других работ. Сравнивая их с данной статьей, нетрудно заметить, как эволюционировали взгляды Эйзенштейна на место и функции монтажа в построении фильма. Отказываясь от ограниченности и категоричности выводов своих первых манифестов, Эйзенштейн постепенно расширяет область кинематографического монтажа. Он рассматривает его как средство не только связного, последовательного, но и образного, взволнованного раскрытия темы, как средство познания и воссоздания на экране действительности, опираясь на возможности звукового фильма. Критикуя как тех, кто считал монтаж «всем», так и тех, кто считал его «ничем», Эйзенштейн подчеркивает его особую важность для киноискусства настоящего и будущего.
Начатая в 1937 г. работа над книгой «Монтаж» (см. настоящий том, Приложения) должна была обобщить взгляды Эйзенштейна на эту проблему. К сожалению, она не была окончена. Статья «Монтаж 1938» открывает самостоятельный цикл исследований, посвященных разработке отдельных вопросов монтажной концепции звукового кино.
Апеллируя к опыту литературы, живописи и актерской практики, Эйзенштейн стремится показать неизбежность обращения к широко понимаемому монтажному принципу во всех искусствах, если автор хочет создать образ, а не изображение явления. Уже в этом статья выходит за рамки частной области внутри монтажа и затрагивает общеэстетическую проблему образа и образности, что имеет первостепенное значение в понимании эстетических воззрений Эйзенштейна. Принципиально важным является здесь доказательство динамической природы образа. Обобщающий образ произведения в целом или отдельной сцены, равно как и образ человека, создаваемый актером, «не дается, а возникает, рождается» (курсив Эйзенштейна), то есть становится во времени. Основой этого динамического становления образа Эйзенштейн и считает принцип монтажного сопоставления частных изображений, причем он демонстрирует действие этого принципа как на процессе создания произведения, так и на процессе его восприятия зрителем (читателем).
Методология и ход доказательства этого тезиса придают статье еще один важный аспект, включая ее в ту группу исследований, где Эйзенштейн анализирует творческий процесс воплощения художником замысла (см., например, в настоящем томе «Выступление на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 1935 года»).
1 Бирс Амброз (1842 – 1914) — американский писатель-новеллист.
2 … в свое время сами впервые указывали… — Здесь Эйзенштейн имеет в виду свои теоретические статьи 20-х гг., в частности «Перспективы», «Бела забывает ножницы» и «За кадром», в которых он декларировал принцип образного монтажного сопоставления.
3 … отношением самого исследователя к изображаемой действительности… — Эйзенштейн неоднократно отклонял обвинения в формализме в его 515 адрес, он подчеркивал разницу между содержанием произведения (которое заключается в его идейно-образном комплексе и продиктовано отношением художника к действительности) и содержимым произведения (то есть материалом художника). Подробно на этом вопросе Эйзенштейн останавливается в статье «Перспективы» (настоящий том, стр. 35 – 44).
4 … рождали «некое третье» и становились соотносительными. — Внимание к результату склейки «двух безотносительных кусков» весьма характерно для ряда режиссеров-экспериментаторов начала 20-х гг., и в первую очередь для Л. В. Кулешова. Широкоизвестные опыты Кулешова заключались, например, в том, что он соединял два куска пленки, зафиксировавшие идущих в разное время и в разных местах людей, и у зрителя создавалось впечатление их одновременного подхода друг к другу; либо монтировал один и тот же крупный план спокойного лица актера Мозжухина с планами «безотносительных» к нему предметов (тарелка супа или гроб), и зритель сам приписывал актеру соответствующую эмоцию (голод или скорбь). Опыты молодого Эйзенштейна обозначали новое направление в этом круге киноэкспериментов. Так, например, монтируя в «Стачке» бойню со зверским избиением рабочих, он стремился вызвать определенную эмоциональную и интеллектуальную оценку у зрителя — ненависть к царизму, то есть перевести опыт из плана преимущественно технического в план идейно-образной выразительности. Более подробно об этом см. в исследованиях «Перспективы», «Четвертое измерение в кино», «Вертикальный монтаж», «Монтаж».
5 … цепи промежуточных изображений, собирающихся в образ. — Этот теоретический вывод во многом объясняется подходом Эйзенштейна к самой профессии режиссера театра и кино, одной из основных черт которого он считал «дар амплификации», то есть разработки, развертывания действия в образном построении. Он связан также с эйзенштейновским педагогическим принципом «замедленного творческого процесса», который заключался в том, что педагог совместно со студентами в течение многих часов анализировал процесс разработки действия, протекающий у опытного мастера, может быть, всего несколько минут. Последовательный анализ каждого этапа творческого процесса призван был выработать у студентов навыки «амплификации» и, следовательно, подготовить к образному построению произведения. Большой материал преподавательской деятельности во ВГИКе послужил Эйзенштейну опорой в окончательном формулировании его зрелых теоретических положений, в частности в статье «Монтаж 1938».
6 «Милый друг» — роман Мопассана (1885). Главный герой романа Жорж Дюруа, делающий головокружительную карьеру, решает изменить написание своей фамилии; он отделяет первый слог Дю, благодаря чему она начинает звучать аристократически.
7 Черкасов Николай Константинович (р. 1903) — народный артист СССР. Исполнитель главных ролей в фильмах Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный».
8 Охлопков Николай Павлович (р. 1900) — народный артист СССР. Исполнитель роли Буслая в фильме «Александр Невский».
9 Чирков Борис Петрович (р. 1901) — народный артист СССР.
10 Свердлин Лев Наумович (р. 1902) — народный артист СССР.
11 Арлисс Джордж (1868 – 1946) — английский актер театра и кино. В кино создал ряд образов исторических лиц — Гамильтона, Вольтера, Ришелье, 516 Дизраэли и др. Его книга «Автобиография Джорджа Арлисса» вышла в Нью-Йорке в 1927 г.
12 Волынский Аким Львович (1863 – 1926) — писатель и искусствовед. Его книга «Леонардо да Винчи» вышла, отдельным изданием в 1900 г. (печаталась отдельными главами в журнале «Северный вестник» в 1897 – 1898 гг.).
13 Пеладан Жозефен — французский исследователь творчества Леонардо да Винчи, ему принадлежит первый французский перевод «Трактата о живописи» (Париж, 1907).
14 Гвадалахара — город и провинция в Испании; в марте 1937 г. республиканские войска нанесли при Гвадалахаре тяжелое поражение армии Франко.
15 Представители разных течений видят ведущую роль и ставят акценты внимания на различных узловых пунктах актерской техники. — Этот вопрос Эйзенштейн подробно рассматривал в своем цикле лекций, прочитанном на четвертом курсе режиссерского факультета ГИКа в 1934/35 учебном году. Анализируя и сопоставляя теоретические системы и практику К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда, Эйзенштейн доказывает, что творческие принципы этих крупнейших мастеров театра являются не взаимоисключающими, а лишь разрабатывающими проблемы разных этапов создания спектакля. В силу ряда причин Станиславский акцентирует внимание преимущественно на первом этапе — периоде освоения режиссером и актерами драматургической основы спектакля, в то время как Мейерхольд на втором этапе — разработке спектакля в период его воплощения на сцене.
16 … запечатлен этот «шаг Петра» В. Серовым в его знаменитой картине. — Картина В. А. Серова (1865 – 1911) «Петр I», написанная в 1907 г., находится в Третьяковской галерее.
17 Этот пример является образцом и для самой сложной звукозрительной композиции. — Подробно вопросы звукозрительных построений рассмотрены в статье «Вертикальный монтаж» (см. настоящий том) и в исследовании «Неравнодушная природа» (см. том III).
18 … пишет В. Жирмунский в «Введении в метрику»… — Жирмунский Виктор Максимович (р. 1891) — советский литературовед, специалист по вопросам теории стихосложения. Его книга «Введение в метрику» («Academia», Л., 1925) являлась в 20-е гг. основной работой в этой области.
19 Полонский Яков Петрович (1819 – 1898) — русский поэт; цитируемое четверостишие взято из стихотворения «Старый Сазандар» (1833). (Я. Полонский, Стихотворения, большая серия «Библиотеки поэта», Л., 1954, стр. 125).
20 Тынянов Юрий Николаевич (1894 – 1943) — советский писатель и литературовед, автор ряда исследований и романов о Пушкине, Грибоедове, Кюхельбекере. Исследование «Проблемы стихотворного языка», цитируемое здесь, вышло в свет в 1924 г. в издательстве «Academia».
21 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867 – 1942) — русский поэт-символист и переводчик.
22 Мильтон Джон (1608 – 1674) — английский поэт, публицист и общественный деятель.
23 Томсон Джемс (1700 – 1748) — английский поэт, представитель сентиментализма.
24 517 Китс Джон (1795 – 1821) — английский поэт-романтик.
25 Шелли Перси Биши (1792 – 1822) — английский поэт-романтик.
26 Шенье Андре (1762 – 1794) — французский поэт и публицист.
Вертикальный монтаж*
Цикл статей написан в июле — августе 1940 г. Опубликован в журнале «Искусство кино», 1940, № 9, стр. 16 – 25; № 12, стр. 27 – 35; 1941, № 1, стр. 29 – 38, по тексту которых и воспроизводится с небольшими уточнениями по авторскому подлиннику (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1279 – 1283).
Как указывается в начале первой статьи, «Вертикальный монтаж» является прямым продолжением статьи «Монтаж 1938». В личном архиве Эйзенштейна сохранился план книги о монтаже, в который помимо названия «Монтаж 1938» с подзаголовком «Горизонтальный монтаж» включены названия «Монтаж 1939 (Вертикальный монтаж)» и «Монтаж 1940 (Хромофонный монтаж)». Как видно из подзаголовков этой неосуществленной книги, ее материал вошел в основном в исследование «Вертикальный монтаж».
Кроме того, «Вертикальный монтаж» как по замыслу, так и по материалу связан с исследованием 1937 г. «Монтаж» (подробнее об этом см. в комментариях к «Монтажу», настоящий том, стр. 543 – 547).
Первая статья исследования посвящена общему теоретическому обоснованию идеи вертикального (звукозрительного) монтажа. Ее родословная восходит к декларации 1928 г. «Будущее звуковой фильмы. Заявка» (см. настоящий том, стр. 315), подписанной Эйзенштейном, В. И. Пудовкиным, Г. В. Александровым. Отказываясь от максимализма вывода этой декларации, требовавшей обязательного несовпадения (несинхронности) звука и изображения, Эйзенштейн развивает в «Вертикальном монтаже» принцип звукозрительного контрапункта. Основное внимание при этом уделяется поискам соизмеримости изображения и музыки, слияния их в единое гармоническое целое. К решению этой задачи Эйзенштейн подходит с разных сторон, анализируя возможности образного соотнесения музыки с цветом, световой тональностью, линейным контуром — или, по определению самого Эйзенштейна, «обертонами» монтажного кадра. Впервые «обертонный монтаж» изображения был применен им в фильме «Старое и новое» и теоретически обоснован в статье «Четвертое измерение в кино» (см. настоящий том, стр. 45 – 59).
Вторая статья данного исследования, известная также под названием «Желтая рапсодия», представляет собой исторический обзор и критический анализ многочисленных попыток навязать каждому цвету определенный смысл. Основные положения этой статьи были изложены Эйзенштейном еще в 1937 г. в неопубликованном фрагменте, предназначавшемся для III раздела исследования «Монтаж». Отстаивая и обосновывая принцип образного смысла цвета, устанавливаемого самим художником, Эйзенштейн отвечает на вопрос, поставленный им в декларации 1940 г. «Не цветное, а цветовое» (полный текст см. в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956). В дальнейшем идеи «Желтой рапсодии» были развиты в статьях и заметках 1947 – 1948 гг., посвященных цвету в кино (см. настоящее издание, том III).
В третьей статье «Вертикального монтажа» на примере звукозрительного построения эпизода из фильма «Александр Невский» Эйзенштейн демонстрирует 518 технику гармонизации изображения и музыки в случае, когда за основу берется принцип соотнесения их линейных контуров. Подробный анализ образного смысла, раскрываемого линейным построением кадра и пластическим развитием изображения, дан им ранее в статье «Э! О чистоте киноязыка» и в I разделе исследования «Монтаж» (см. настоящий том).
В статьях, объединенных заголовком «Вертикальный монтаж», Эйзенштейн более глубоко по сравнению с его ранними статьями анализирует проблему взаимодействия формы и содержания художественного произведения, раскрывает определяющее значение темы, идеи. Полемизируя со сторонниками «чистой формы», он пишет: «… не мы подчиняемся каким-то “имманентным законам” абсолютных “значений” и соотношений цветов и звуков… мы сами предписываем цветам и звукам служить тем назначениям и эмоциям, которым мы находим нужным». Далее Эйзенштейн, отвергая упреки в том что его фильмы якобы являются иллюстрациями к научным опытам, дает развернутую характеристику особенностей творческого процесса. В частности, он пишет: «Выстраиваешь мысль не умозаключениями, а выкладываешь ее кадрами и композиционными ходами».
С другой стороны, «Вертикальный монтаж» продолжает линию основных статей Эйзенштейна о театре — «Нежданный стык» и «Воплощение мифа». В первой из них Эйзенштейн обращал внимание на важность для звукового кино традиций японского театра Кабуки, в котором образный строй происходящего на сцене действия, его эмоциональное богатство обусловлены использованием «разных измерений» театрального спектакля — от жеста и мизансцены до декорации и музыки. В «Воплощении мифа» он пишет, в частности, об идеале «синтетического театра» Рихарда Вагнера, опираясь на свой опыт постановки в Большом театре оперы «Валькирия».
Таким образом, «Вертикальный монтаж» как бы подытоживает несколько направлений, по которым шел Эйзенштейн в исследовании законов киномонтажа. Окончательный итог своей концепции он подвел в фундаментальном теоретическом труде «Неравнодушная природа» (см. том III настоящего издания).
1 … о принадлежности выразительных средств к самым разнообразным областям толкуют почти все примеры от Леонардо да Винчи до Пушкина и Маяковского включительно. — Примечательна связь этого высказывания с первой декларацией Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» (см. настоящий том). Уже давно не делая упора на физиологическое воздействие произведения, Эйзенштейн сохраняет «рациональное зерно» своей ранней декларации, подчеркивая активную роль всех выразительных средств театра и кино в создании образной ткани произведения.
2 Как и всегда, неисчерпаемым кладезем опыта останется и остается человек. — В подготовительных материалах к статье «Монтаж 1938» сохранилась следующая выписка Эйзенштейна: «“Природу можно мыслить независимо от человека; искусство же необходимо приурочено к человеку; ибо искусство существует только через человека и для него”. Гете, 1799, “Коллекционер и его семья” (“Der Sammler und die Seinige”)» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1414).
3 … «Явление Христа народу», Иванова и эскизы к нему… — Иванов Александр Андреевич (1806 – 1858) — русский художник; речь идет об эскизах для монументального полотна «Явление Христа народу», работа над которым продолжалась много лет. Было создано более трехсот эскизов, многие из 519 которых по своим художественным достоинствам считаются наиболее высокими образцами творчества А. А. Иванова.
4 Гонкуры — братья Эдмон (1822 – 1896) и Жюль (1830 – 1870) — французские писатели. Всегда выступали в соавторстве, вплоть до смерти Жюля; после 1870 г. Эдмон продолжал публиковать свои собственные романы. «Дневник Гонкуров» — мемуары обоих писателей, охватывающие два десятилетия, с 1850 до 1870 г.
5 … мы совместно с Пудовкиным и Александровым подписывали нашу «Заявку» о звуковом фильме еще в 1929 году. — «Будущее звуковой фильмы» написано и опубликовано в 1928 г.; публикуется в настоящем томе.
6 … я писал в связи с выходом фильма «Старое и новое» (1929). — Эйзенштейн имеет в виду статью «Четвертое измерение в кино» (см. настоящий том).
7 … синкопированных сочетаний… — Синкопа в музыке — перенесение ударения с акцентированной ноты на неакцентированную.
8 Дидро Дени (1713 – 1784) — французский философ-материалист, писатель, автор ряда философско-эстетических произведений.
9 Вагнер Рихард (1813 – 1883) — немецкий композитор.
10 Скрябин Александр Николаевич (1871 – 1915) — русский композитор и пианист.
11 Эккартсгаузен Карл, фон (Эйзенштейн ошибочно указывает инициал Г.) (1752 – 1803) — немецкий писатель.
12 Рембо Артюр (1854 – 1891) — французский поэт, один из основоположников символизма.
13 Рене Гиль — псевдоним французского писателя Р. Жильбера (1862 – 1925). Обособившись в конце 1880-х гг. от символистов, Гиль создал свою поэтическую школу «инструменталистов», утверждающих, что звук каждого слова должен вполне соответствовать выражаемой идее. Впоследствии он создал теорию научной поэзии, являющейся «верховным актом мысли» и долженствующей пополнять выводы науки.
14 Гельмгольц Герман (1821 – 1894) — один из крупнейших немецких естествоиспытателей, ему принадлежат фундаментальные работы в области физиологии слуха и зрения. Таблицы, о которых упоминает Эйзенштейн! приведены в работе Гельмгольца «Акустика».
15 Шлегель Август Вильгельм (1767 – 1845) — немецкий критик, литературовед и переводчик.
16 Хёрн Лафкадио — английский писатель; прожил долгие годы в Японии, написав о ней несколько книг.
17 Ян и Инь — древние восточные символы, обозначающие отрицательное (пассивное) и положительное (активное) начала.
18 Завитки волют… — Волюта — архитектурный термин, завиток канители ионической или коринфской колонны.
19 Массне Жюль-Эмиль-Фредерик (1842 – 1912) — французский композитор, мастер лирической оперы.
20 Ницше Фридрих (1844 – 1900) — немецкий реакционный философ.
21 Дюрер Альбрехт (1471 – 1528) — немецкий живописец, гравер и рисовальщик.
22 Ван Эйк Ян (ум. 1441) — нидерландский художник, ему приписывалось изобретение масляной живописи.
23 … планы Коломенского дворца… — Коломенское — подмосковная вотчина русских царей в XV – XVII вв., их летняя резиденция. В XVII в. в 520 Коломенском существовал большой Коломенский дворец (снесен в 1768 г.), являвшийся образцом русского деревянного зодчества. В музее «Коломенское» хранится деревянный макет этого дворца, дающий полное представление о расположении всех дворцовых строений и их внешнем виде. Там же хранятся и планы дворца.
24 Якулов Георгий Богданович (1884 – 1928) — живописец и театральный декоратор, ему принадлежат декорации по многим спектаклям Камерного театра, студии «Габима». Спектакль «Мера за меру» Шекспира осуществлен им в Показательном театре в Москве в 1919 г.
25 «Школьные театры» — тип нравоучительного театра, существовавший с конца XV по XVIII в. при духовных учебных заведениях Западной Европы, в России в XVII – XVIII вв.
26 Анненков Юрий Павлович (р. 1890) — русский живописец, театральный художник, график. Речь идет о портрете режиссера Н. В. Петрова работы Ю. П. Анненкова.
27 Эль Греко, или Теотокопули Доменико (1541 – 1614) — испанский живописец.
28 Бурлюк Давид Давидович (р. 1882) — русский художник, поэт, художественный критик, один из основателей «русского футуризма». С 1918 г. живет за границей.
29 Энгармоничность (или энгармонизм) — приравнивание и отождествление музыкальных звучаний. Употребляется главным образом для облегчения чтения нот, когда большое число музыкальных знаков заменяется меньшим.
30 Секста — интервал, охватывающий шесть ступеней диатонического звукоряда. Девять полутонов (например, до-ля) составляют так называемую большую сексту.
31 Апподжиатура — приукрашивающая нота, чуждая тому аккорду, к которому она прибавлена.
32 «Млада» (1891) — «волшебная опера-балет» Н. А. Римского-Корсакова.
33 «Золото Рейна» — музыкальная драма Рихарда Вагнера, часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов».
34 Уистлер Джемс, Мак Нейль (1834 – 1903) — американский живописец, офортист и литограф. Называл музыкальными терминами свои пейзажи и портреты.
35 Бёклин Арнольд (1827 – 1901) — швейцарский живописец, один из виднейших представителей стиля «модерн» в живописи конца IX в.
36 Флёрке — автор книги «10 лет с Бёклином» (1902).
37 Коппе Франсуа (1842 – 1908) — французский прозаик и поэт, творчество которого проникнуто сентиментальностью и идиллическим приукрашиванием действительности.
38 Пикколо — самый маленький музыкальный инструмент самого высокого звучания в каком-либо семействе инструментов, например флейта-пикколо, домра-пикколо и др.
39 Кандинский Василий Васильевич (1866 – 1944) — русский художник, представитель крайнего формализма, пришедший к беспредметному декоративизму. С 1921 г. жил в Германии. Сборник «Голубой всадник» («Der blaue Reiter») был издан им совместно с Ф. Марком в Мюнхене в 1912 г.
40 Гоген Поль (1848 – 1903) — французский живописец.
41 Канакская девушка. — Канаки — полинезийское племя.
42 521 … страх Сусанны, застигнутой старцами. — Библейская легенда, по которой Сусанна, славившаяся своей красотой и добродетелью, была ложно обвинена двумя старцами в измене мужу. Этот сюжет был разработан в живописи многими художниками.
43 Бонди Юрий Михайлович (ум. 1926) — драматург, художник, работавший с В. Э. Мейерхольдом.
44 Стриндберг Август (1849 – 1912) — шведский романист и драматург. Пьеса «Виновны — невиновны» была поставлена в Петербурге группой молодых актеров с А. А. Мгебровым и В. П. Веригиной в главных ролях.
45 Ахматова Анна Андреевна (р. 1888) — русская советская поэтесса, до революции — участница литературного направления «акмеизм». Эйзенштейн цитирует ее стихи из сборников «Вечер», «Белая стая».
46 Белый Андрей — см. комментарий 6 к статье «“Э!” О чистоте киноязыка».
47 Автопортрет, на который указывает Эйзенштейн, написан в 1666 г. (Венская картинная галерея), то есть тогда, когда Рембрандту было не шестьдесят пять, а шестьдесят лет.
48 … в фильме Лаутона и Корда «Рембрандт». — Лаутон (Лафтой) Чарльз (1899 – 1962) — крупный английский актер и театральный режиссер. Корда Александр (1893 – 1956) — продюсер и кинорежиссер, автор главным образом постановочных фильмов. В фильме «Рембрандт» (производство «Лондонфильм», 1937) А. Корда является продюсером и режиссером, Ч. Лаутон исполняет главную роль.
49 Суд Париса — древнегреческий миф, согласно которому юноша Парис должен был отдать яблоко самой прекрасной из трех богинь — Гере, Афине или Афродите. Парис отдал яблоко последней, что вызвало гнев двух других и привело к Троянской войне. Отсюда выражение «яблоко раздора».
50 Атланта из Аркадии — девушка из древнегреческого мифа, быстрая и беге, как самый быстроногий олень.
51 Геспериды — дочери титана Атласа, охранявшие яблоки, росшие на золотом дереве. Одиннадцатый подвиг Геракла состоял в том, что он раздобыл три золотых яблока Гесперид.
52 Крейцер Георг Фридрих (1771 – 1858) — немецкий филолог, профессор Гейдельбергского университета, автор ряда работ по античной филологии и мифологии, в частности «Религия античности», которую цитирует Эйзенштейн.
53 Амбивалентность — одновременно испытываемое чувство влечения и неприязни к одному и тому же лицу или предмету.
54 Пикассо Пабло (р. 1881) — современный французский художник; испанец по происхождению, член Французской коммунистической партии, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
55 Ван-Гог Винцент (1853 – 1890) — французский живописец, голландец по происхождению. После его смерти были опубликованы его «Письма» к брату Тео и Э. Бернару, ставшие важным художественно-историческим и литературным памятником эпохи.
56 Есенин Сергей Александрович (1895 – 1925) — русский советский поэт.
57 Карл Бурбонский (1489 – 1527) — вассал французского короля Франциска I (1515 – 1547). Карл Бурбон изменил королю, перейдя на сторону его врагов — испанского императора Карла V и английского короля Генриха VIII.
58 «Трансатлантическая карусель» — американский фильм, уголовная драма с элементами музыкальной комедии. Производство «Релай-энс», прокат 522 «Юнайтед Артисте», 1934, режиссер Бенджамен Столов, сценарий Дж. Марча и Г. Конна.
59 Мак-Орлан Пьер (р. 1882) — французский писатель.
60 В своем письме от 31 октября 1931 года Масару Кобайоши мне пишет… — В архиве Эйзенштейна это письмо не сохранилось.
61 Сведенборг Эммануил (1688 – 1772) — шведский натуралист, теософ.
62 Шартрский собор — один из знаменитых памятников готического искусства во Франции (XIII в.). Витражи — цветные стекла в окнах готических соборов, которые, подобно мозаике, воспроизводили сцены из священной истории, легенды, гербы, узоры. В Шартрском соборе находятся замечательные образцы витражей.
63 Минерва — римская богиня, покровительница ремесел и искусств, отождествлялась с греческой Афиной.
64 … писал Дидро в письме к м-м Воллар. — Переписка Д. Дидро (1713 – 1784) с м-ль Volland (а не Воллар, как пишет Эйзенштейн) относится к 70 – 80-м гг. XVIII в. Многочисленные письма Дидро к ней, посвященные различным вопросам литературы, искусства, общественной жизни, вошли в двадцатитомное Собрание сочинений Дидро (Paris, 1825 – 1877).
65 Плутарх (ок. 46 – 126) — древнегреческий писатель и историк.
66 Плиний-старший (23 – 79) — древнеримский писатель и ученый, автор «Естественной истории в 37 книгах».
67 Фрезер Джемс Джон (1854 – 1941) — английский ученый-этнограф, его основной труд — «Золотая ветвь. Исследование о магии и религии».
68 Верлен Поль (1844 – 1896) — французский поэт.
69 … войны Алой и Белой розы — междоусобные династические сословные войны в Англии во второй половине XV в., названные так по эмблемам Лан кастерской и Йоркской партий.
70 Император Тит (39 – 81) — римский император из династии Флавиев.
71 … заключения в Бастилию кардинала де Роган в связи с знаменитым делом об «ожерелье королевы». — Роган Эдуард де (1734 – 1803) — французский кардинал. Известно, что он поверил интриге графини де Ла Мотт, сообщившей ему о том, что королева Мария Антуанетта мечтает об ожерелье стоимостью в 1 600 000 ливров, в котором ей будто бы отказал король. Стремясь заслужить благосклонность королевы, кардинал приобретает ожерелье у ювелиров Бомаре и Бассанжа и отдает его де Ла Мотт для передачи королеве. Ожерелье исчезает, кардинал не может уплатить за него, дело открывается, и де Рогана заключают в Бастилию, а затем высылают из Парижа, а де Ла Мотт наказывают розгами и каленым железом, после чего отправляют в богадельню Сальпетриер.
72 Бине Альфред (1857 – 1912) — французский психолог-позитивист, профессор Сорбоннского университета. Эйзенштейн ссылается на его «Исследование об изменениях сознания у истериков».
73 Нордау Макс (1849 – 1923) — немецкий писатель, выступавший в конце XIX в. с рядом статей, написанных в острой парадоксальной форме с «разоблачением» вырождения европейской культуры.
74 Блейк Вильям (1757 – 1827) — английский писатель, рисовальщик и график, предтеча английских романтиков и символистов. Как художник оказал большое влияние на английскую школу прерафаэлитов, стремившихся возродить «наивное» искусство раннего Ренессанса.
75 Малявин Филипп Андреевич (1869 – 1939) — русский живописец. Один из главных мотивов его полотен — русские бабы в ярких цветистых 523 сарафанах. Эйзенштейн имеет в виду его картину «Вихрь» (Третьяковская галерея).
76 Гете. «Учение о цвете».
77 Выготский Лев Семенович (1896 – 1934) — советский психолог.
78 Лурия Александр Романович (р. 1902) — советский психолог, профессор Московского университета, друг Эйзенштейна.
79 Нона — музыкальный термин, интервал, девятая ступень в гамме.
80 Дебюсси Клод Ашиль (1862 – 1918) — французский композитор, родоначальник импрессионизма в музыке.
81 Валер (Valeur) — термин, употребляемый в живописи: оттенки тона или градации света и тени в пределах одного цвета.
82 Павленко Петр Андреевич (1899 – 1951) — советский писатель; его роман «На Востоке» опубликован в 1936 г.
83 Баркарола из «Сказок Гофмана» — часть романтической оперы Жака Оффенбаха (1819 – 1880).
84 Сен-Санс Камиль (1835 – 1920) — французский композитор, автор симфонической поэмы «Пляска смерти».
85 Дисней Уолт (р. 1901) — американский художник-мультипликатор и режиссер. Приведенный пример относится к одному из короткометражных фильмов Диснея.
86 Бах Иоганн Себастьян (1685 – 1750) — немецкий композитор.
87 Гуно Шарль (1818 – 1893) — французский композитор.
88 Подробнее по тому вопросу — в другом месте. — См. «О строении вещей» и «Неравнодушная природа», т. III настоящего издания.
89 Делакруа Эжен (1798 – 1863) — французский живописец, автор статей о художниках и широко известного «Дневника» (русское издание в двух томах изд. Академии художеств, М., 1961).
90 Филиппики — обличительные речи. Когда македонский царь Филипп (в IV в. до н. э.) стал подготавливать нападение на Грецию, Демосфен выступил с резким обличением и раскрыл его тайные замыслы. Эти речи Демосфена получили название филиппик.
91 Рейнольде Джошуа (1723 – 1792) — английский художник, автор исторических полотен и портретист.
92 Микеланджело Буонаротти (1475 – 1564) — итальянский живописец, скульптор, архитектор и поэт.
93 … о нем пишет Гоголь… — Эйзенштейн имеет в виду статью Н. В. Гоголя «Последний день Помпеи», в которой сопоставляются К. П. Брюллов и Микеланджело (см.: Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, М., 1952, стр. 111).
94 Пиранези Джованни Баттиста (1720 – 1778) — итальянский гравер и архитектор, автор гравюр, изображающих архитектурные памятники. Широко известны его серии «Римские древности» и «Темницы».
95 Сезанн Поль (1839 – 1906) — французский живописец.
96 Так сделан, например, какой-нибудь «Крах банка». Так же сделан и «Никита Пустосвят». — «Крах банка» — картина художника В. Г. Маковского (1881). «Никита Пустосвят» — картина художника В. Г. Перова (1881). Обе хранятся в Третьяковской галерее.
97 Боутс Дирк ван Хаарлем (ок. 1415 – 1475) — фламандский живописец.
98 Гирландайо Доменико (1449 – 1494) — итальянский живописец.
99 Мемлинг Ганс (ок. 1435 – 1494) — нидерландский живописец.
100 524 … книгу Поля Гзелля о Родене. — В книге Огюста Родена «Искусство» (беседы, собранные Полем Гзеллем, 1912) приводится толкование Родена, касающееся расположения фигур на картине Антуана Ватто (1684 – 1721) «Отправка на остров Цитеры», которое обозначает сложное развитие действия во времени.
101 Уайльд Оскар (1856 – 1900) — английский писатель.
102 Вагнер в разгаре творческого подъема 1853 года — В 1853 г. Р. Вагнер создал первую часть своего «Кольца Нибелунгов» — «Золото Рейна»; середина 1850-х гг. была периодом наивысшего творческого расцвета в жизни Р. Вагнера.
525 Статьи
Монтаж аттракционов*
В ЦГАЛИ хранится автограф статьи (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 900) с авторской датой 20 мая 1923 г. Статья опубликована в журнале «Леф», М., 1923, № 3, стр. 70 – 75. Воспроизводится журнальный текст с уточнением по автографу.
Весной 1923 г. в Московском театре Пролеткульта был показан поставленный Эйзенштейном спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль этот нельзя считать постановкой пьесы А. Н. Островского, ибо от пьесы остались только название да внешняя сторона фабулы, взятая как повод для злободневной агитсатиры на политическую тему. Все это было воплощено эстрадно-мюзик-холльными и цирковыми средствами: от средств психологического театра режиссер отказался. Целью его было — создать сценическое зрелище нового типа. Какое именно — Эйзенштейн попытался объяснить в статье «Монтаж аттракционов».
Опубликованная в журнале «Леф», руководимом В. В. Маяковским, первая программная статья Эйзенштейна выразила стремление художника к активному идейному воздействию на общественную практику людей ценой разрушения любых традиционных форм искусства, стремление превратить театральные подмостки в трибуну массовой агитации. Эти настроения, замыслы Эйзенштейна были близки устремлениям многих представителей революционного «левого» искусства (см., например, слова Маяковского о том, что открытия «надо прикладывать… к жизни, к производству, к массовой работе» — Собр. соч. в 12 томах, т. 4, М., 1957, стр. 352).
Статья получила сенсационную известность и на протяжении почти четырех десятилетий вызывала самые различные оценки: то ее считали едва ли не важнейшим манифестом новаторства, то объявляли порочной и формалистической. Сейчас читатель сможет подойти к «монтажу аттракционов» более спокойно и оценить его действительное значение. Бесспорно, что время опровергло провозглашенный в начале статьи лефовский лозунг «упразднения театра». (Об утопизме программы «левого искусства» см. комментарий 526 к статье «Перспективы» в настоящем томе.) Ошибочным оказался и отказ от театральных традиций, искусственная замена их мюзик-холльными и цирковыми приемами. Полную несостоятельность такой замены доказывал и спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».
Но в статье «Монтаж аттракционов» было и живое, творческое начало.
Цель нового театрального зрелища, по мысли Эйзенштейна, в максимальном агитационном воздействии на зрителя. Сначала нужно точно рассчитать цель и смысл воздействия — а уже исходя из этого, решать, что показывать зрителю и какие выбирать средства, приводя их в определенную систему воздействий (именно в этом главный смысл термина «монтаж аттракционов»). Таким образом, Эйзенштейн видит задачу искусства в активном отклике на реальную современную жизнь. Во имя этого арсенал режиссерских средств пересматривается заново. Поняв это, мы поймем статью «Монтаж аттракционов» как необходимый, неотъемлемый этап в творческом развитии Эйзенштейна. Важная особенность этой статьи — то, как на театральном материале в ней фактически намечаются контуры теории кинематографа. Яснее всего кинематографический смысл этого выступления Эйзенштейна выразился в отборе и применении термина «монтаж аттракционов». То, что здесь в общей форме уже намечен принцип идейно-смыслового монтажа, — совершенно очевидно. Остановимся на том, как понимает автор природу сценического «аттракциона». В качестве средств идейного воздействия в статье как бы уравнены «все составные части театрального аппарата». Бросается в глаза неестественное для театра уравнение актерских и неактерских средств.
Но как раз в искусстве кино (и прежде всего в немом кинематографе), где по-новому в сравнении с театром воплощаются соотношения человека со средой, такое подчеркивание «неактерских» элементов образа становится естественным. Тем более это оправдано для теории и практики 20-х гг., когда кинематограф в борьбе утверждал свое право на самостоятельность в системе искусств.
Термин «аттракцион» в трактовке Эйзенштейна предполагает точно выверенное многостороннее воздействие на различные чувства зрителя, и в этом можно видеть некий отдаленный прообраз его теории «вертикального монтажа» (см. статью под этим названием в настоящем томе).
Эйзенштейн отказался впоследствии от спорных и ошибочных положений статьи и от самого термина «аттракцион». Но принципы монтажной композиции, первоначально связывавшиеся с этим термином, развивались им неизменно и последовательно. Мы ясно увидим это, сопоставив полемическую бутаду из «Монтажа аттракционов» («говорок Остужева — не более цвета трико примадонны») — со словами из последней, недописанной статьи Эйзенштейна «Цветовое кино»: «… выразительное целое кинопроизведение должно строиться не на взаимном ущемлении отдельных областей, “нейтрализации” их в угоду другим, но на разумном выявлении в нужный момент на первый план именно тех средств выражения, через которые в данное мгновение наиболее полно выражается этот элемент, который в данных условиях наиболее непосредственно ведет к наиболее полному раскрытию содержания, смысла, темы, идеи произведения».
Плодотворное «зерно» исканий Эйзенштейна, различимое уже в «Монтаже аттракционов», созрело и развилось в глубокую концепцию кинематографического образа, включившего в себя и те элементы, которые полемически 527 отвергались Эйзенштейном на раннем этапе (например, многогранное раскрытие человеческого характера актерскими средствами).
1 … по двум линиям под общим знаком революционного содержания. — В журнале «Рабочий зритель» (1924, № 6) театральный критик С. Левман писал: «Пролеткульт метнулся от одной крайности к другой, отказавшись от жанра переживаний, настроений и натурализма, он ударился в клоунаду, буффонаду, гротеск». Это положение Эйзенштейн раскрывает в своей статье.
2 «Зори Пролеткульта» — спектакль театра Пролеткульта, в котором были инсценированы стихи пролетарских поэтов. Он появился как полемический ответ на постановку Мейерхольдом пьесы «Зори» Верхарна.
3 «Лена» — пьеса В. Ф. Плетнева (1886 – 1942) о ленских событиях 1912 г., поставленная к открытию Московского театра Пролеткульта 11 октября 1921 г. Вместе с художником Никитиным Эйзенштейн был автором оформления этого спектакля.
4 Арватов Борис Игнатьевич (1896 – 1940) — искусствовед, автор книги «Искусство и классы», изданной в 1923 г., и сборника «Искусство и производство», изд. Московского Пролеткульта, 1926 г., участник группы «ЛЕФ».
5 «Мексиканец» — инсценировка рассказа Джека Лондона — первая постановка Эйзенштейна (совместно с В. С. Смышляевым) на сцене театра Пролеткульта в январе — марте 1921 г. Эйзенштейн являлся также автором декораций и костюмов.
6 Смышляев Валентин Сергеевич (1891 – 1936) — актер и режиссер Первой студии МХАТ, ставший в 20-х гг. режиссером Первого рабочего театра Пролеткульта. Ему принадлежит книжка «Техника обработки сценического зрелища», изд. Всероссийского Пролеткульта, 1922.
7 «Над обрывом» — пьеса В. Ф. Плетнева, поставленная в театре Пролеткульта в 1922 г.
8 «Мудрец» — переделанная С. М. Третьяковым комедия А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (см. также примечания к статье «Два черепа Александра Македонского»).
9 Перетру — сокращенное название передвижной труппы Московского театра Пролеткульта.
10 Остужев Александр Алексеевич (1874 – 1953) — народный артист СССР, исполнитель ряда ролей классического репертуара.
11 Сверчок на печи — имеется в виду программный для Первой студии МХАТ спектакль «Сверчок на печи» Ч. Диккенса, поставленный в 1915 г.
12 Театр Гиньоль, или Гран-Гиньоль — один из парижских бульварных театров, существующий со второй половины XIX в., создавший особый стиль «театра ужасов», приближающийся по типу воздействия на аудиторию к паноптикуму.
13 Гросс Георг (р. 1893) — немецкий художник, особенно известный как график и карикатурист, в рисунках которого преобладают элементы острой социальной сатиры. С 1933 г. живет в США.
14 Родченко Александр Михайлович (1891 – 1956) — советский художник-график, фотограф, автор декораций к ряду спектаклей Мейерхольда (в частности ко второй части «Клопа» Маяковского в театре Мейерхольда), один из создателей жанра фотомонтажа. Входил в группу «ЛЕФ».
15 Эпилог «Мудреца» состоял из двадцати пяти «аттракционов», которые и перечисляет Эйзенштейн в своей статье. Ниже приводится примерная режиссерская схема этого эпилога, восстановленная по просьбе составителей настоящего издания ныне здравствующими участниками спектакля 528 (М. С. Гомеровым, А. П. Курбатовым, А. И. Левшиным, В. П. Шаруевым, И. Ф. Языкановым, под общим руководством М. М. Штрауха) в той последовательности «аттракционов», которая указана в статье Эйзенштейна.
1) На сцене (манеже) Глумов, который в [«экспозитивном»] монологе говорит о том, что у него похищен его дневник и что это угрожает ему разоблачением. Глумов решает срочно жениться на Машеньке, для чего вызывает на сцену «Манефу» (клоуна) и предлагает выступить в роли попа.
2) Свет гаснет, на экране — похищение дневника Глумова человеком в черной маске — Голутвиным. Пародия на американский детективный фильм.
3) Свет в зале. Появляется Машенька в костюме спортсмена-автомобилиста, в подвенечной фате, а вслед за ней три отвергнутых ею жениха — офицеры (в пьесе Островского — Курчаев), будущие шаферы на ее свадьбе с Глумовым. Разыгрывается сцена разлуки («грусти»): Машенька поет «жестокий» романс «Пускай могила меня накажет», офицеры исполняют, пародируя Вертинского, «Ваши пальцы пахнут ладаном». (В первоначальном замысле Эйзенштейна — эта сцена намечалась как эксцентрический музыкальный номер (ксилофон), игра Машеньки на бубенцах, нашитых в виде пуговиц на мундирах офицеров.)
4, 5, 6) После ухода Машеньки и трех офицеров на сцене снова Глумов. К нему из зрительного зала выбегают один за другим Городулин, Жоффр, Мамилюков — три клоуна, каждый из которых исполняет свой цирковой номер (жонглирование шариками, акробатические прыжки и т. п.), и требуют за это плату. Глумов отказывает им и уходит. («Двухфразное клоунское антре» — при каждом выходе — две фразы текста: реплики клоуна и Глумова.)
7) Появляются Мамаева, одетая с вызывающей роскошью («этуаль»), с цирковым хлыстом в руках, и вслед за ней три офицера. Мамаева хочет расстроить свадьбу Глумова, утешает отвергнутых женихов и после их реплики о лошади («ржет моя знакомая кобыла») щелкает хлыстом — и офицеры разбегаются по манежу. Двое изображают лошадь, третий — всадника.
8) На сцене — поп («Манефа»), начинается «венчание». Все присутствующие на свадьбе поют: «У попа была собака». «Манефа» исполняет цирковой номер («каучук»), изображая собаку.
9) В рупоре — крик газетчика. Глумов, бросив венчание, убегает, чтобы узнать, не появился ли его дневник в печати.
10) Появляется похититель дневника — человек в черной маске (Голутвин). Гаснет свет. На киноэкране — дневник Глумова; в фильме рассказывается об его поведении перед высокими покровителями и соответственно об его превращениях в различные условные образы (в осла перед Мамаевым, в танкиста перед Жоффром и т. п.).
11) Венчание возобновляется. Место сбежавшего Глумова занимают отвергнутые женихи — три офицера («Курчаев»).
12) Ввиду того что Машенька венчается сразу с тремя женихами, четыре униформиста выносят на доске из зрительного зала муллу, который продолжает начатое венчание, исполняя пародийные куплеты на злободневные темы — «Алла верды».
13) Закончив свои куплеты, мулла танцует лезгинку, в которой принимают участие все. Мулла поднимает доску, на которой он сидел, на обороте надпись: «Религия — опиум для народа». Мулла уходит, держа эту доску в руках.
14) 529 Машеньку и трех женихов укладывают в ящики (откуда они незаметно для зрителей исчезают). Участники свадебной церемонии бьют глиняные горшки об ящик, пародируя старинный свадебный обряд «при укладывании молодых».
15) Три участника свадебной церемонии (Мамилюков, Мамаев, Городулин) исполняют свадебную песню: «А кто у нас молод, а кто не женат».
16) Свадебную песню прерывает вбегающий Глумов с газетой в руках: «Ура! В газете ничего нет!» Все высмеивают его и оставляют одного.
17) После обнародования дневника и неудачи со свадьбой Глумов в отчаянии. Он решает покончить жизнь самоубийством, требует от униформиста «веревочку». С потолка ему спускают лонжу. Он прикрепляет к спине «ангельские крылья», и его с зажженной свечой в руках начинают поднимать к потолку. Хор поет «По небу полуночи ангел летел» на мотив «Сердце красавицы». Эта сцена пародирует «вознесение на небо».
18) На сцене появляется Голутвин («злодей»). Глумов, увидев своего врага, начинает осыпать его ругательствами, спускается на сцену и бросается на «злодея».
19) Глумов и Голутвин бьются на эспадронах. Побеждает Глумов. Голутвин падает, и Глумов срывает с брюк Голутвина большую наклейку, под ней слово «нэп».
20) Голутвин исполняет куплеты о нэпе. Глумов ему подпевает. Оба танцуют. Голутвин приглашает Глумова «идти к нему в подручные», ехать в Россию.
21) Голутвин, балансируя зонтиком, проходит по наклонной проволоке над головами зрителей на балкон — «уезжает в Россию».
22) Глумов решается последовать его примеру, взбирается на проволоку, но срывается (цирковой «каскад») и со словами: «Ох скользко, скользко, я лучше переулочками» следует за Голутвиным «в Россию», по менее опасному пути, через зрительный зал.
23) На сцену выходит «рыжий» (клоун), который плачет, приговаривая: «Уехали, а человека-то забыли». С балкона по проволоке, на зубах спускается другой клоун.
24, 25) Между двумя «рыжими» возникает перебранка; один обливает другого водой, тот от неожиданности падает. Один из них объявляет: «конец» и раскланивается с публикой. В этот момент под сидениями в зрительном зале происходит пиротехнический взрыв.
Бела забывает ножницы*
Статья опубликована под двумя заглавиями («О позиции Бела Балаша» и «Бела забывает ножницы») в газ. «Кино», М., 20 июля и 10 августа 1926 г. В ЦГАЛИ хранится автограф статьи с одним заглавием «Бела забывает ножницы» (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 920), с авторской датой — 22 июня 1926 г. Публикуется газетный текст, но объединенный в одну статью, с некоторыми уточнениями по автографу.
В этой подчеркнуто полемической статье молодого Эйзенштейна очевидны некоторые крайности, характерные для программы «левого искусства» 20-х гг., — автор, например, демонстративно отвергает самые термины «искусство» и «творчество», и это явный отголосок лефовской теории 530 «жизнестроения». Главное здесь, однако, не в этих крайностях, впоследствии изжитых самим Эйзенштейном. Главное то, что взгляды Эйзенштейна, взятые даже на сравнительно ранней ступени, здесь — в столкновении с тогдашними взглядами Бела Балаша, обусловленными практикой западного кино, — наглядно обнаруживают свое превосходство, свои наиболее сильные и перспективные стороны, полностью выдержавшие проверку временем.
Бела Балаш (1884 – 1949) — венгерский писатель, сценарист и видный теоретик кино, в 20-х гг. работавший в Германии, в 1933 – 1944 гг. в СССР, а с 1944 г. — в Венгрии. В своей статье «О будущем фильмы», опубликованной у нас в газ. «Кино» от 6 июля 1926 г. (№ 27 (147), стр. 3), он выступил в защиту творческой индивидуальности оператора, ущемляемой в условиях буржуазного кинопроизводства. Эйзенштейн, отвечая Балашу, вскрывает односторонность его выводов и истоки этой односторонности: преувеличивая творческую роль одного из создателей фильма — оператора и абсолютизируя частную проблему внутрикадрового изображения, Балаш тем самым остался на почве творческой практики буржуазного кино, не обеспечивающего подлинную коллективность творчества.
Эйзенштейн противопоставляет этому реальную практику советского кино 20-х гг., которое в лучших своих образцах показало, какие результаты дает полное развертывание творческих сил каждого из людей, создающих фильм. Здесь уже вполне определилось эйзенштейновское понимание коллективности творчества в кино, впоследствии сформулированное в заключительном слове на творческом совещании 1935 г. следующим образом: «… только бездарный коллектив может существовать на подавлении одной творческой индивидуальности другою».
Полемика с Балашем по вопросу о кадре и монтаже заставила Эйзенштейна подчеркнуть сильнейшие стороны своей монтажной теории: пафос активной и последовательной художественной мысли, выражаемой монтажом, и признание за монтажом решающей роли в воплощении образно-поэтических элементов фильма (что впоследствии получило зрелое продолжение и развитие в статье «Диккенс, Гриффит и мы» — см. настоящее издание, том VI, либо кн.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., «Искусство», 1956). И лишь как намек, как отзвук отразились здесь те крайности эйзенштейновской монтажной концепции 20-х гг., которые были оспорены временем: утверждение исключительности монтажных средств и осмысление монтажа как некоего символического языка.
1 Пикабиа Франсис — поэт и художник, лидер так называемого дадаизма, затем один из вдохновителей французского кинематографического «Авангарда». Леже Фернан — французский художник. Шометт Анри — французский кинорежиссер. Эйзенштейн имеет в виду фильмы — «Антракт», поставленный Рене Клером по сценарию Пикабиа, «Механический балет» Ф. Леже и «Отражения света в воде» А. Шометта — формалистические эксперименты, в которых испытывались монтажные и другие выразительные возможности кинематографа.
2 Сирин и Алконост — сказочные птицы с человеческим лицом.
3 Фрейнд Карл — немецкий оператор. Фильм «Варьете» (1926) К. Фрейнд снимал с реж. Э. А. Дюпоном, фильм «Метрополис» (1926) — с реж. Фрицем Лангом.
4 «Прометеус» — немецкая прогрессивная производственная и прокатная киноорганизация, созданная в середине 20-х гг. при участии Коммунистической 531 партии Германии. Демонстрировала на экранах Германии советские фильмы, в частности фильм «Броненосец “Потемкин”».
5 «Универсум-фильм Акцией Гезельшафт», сокращенно «УФА», — крупнейший киноконцерн буржуазной Германии.
6 Риттау Вальтер — немецкий архитектор и художник кино.
7 Недаром на этом углу кишит «хаккенкрейцеровскими» (немецкие фашисты) газетами и листками. — «УФА» последовательна. «Хаккенкрейц» — немецкое название свастики. Характеристика, данная здесь Эйзенштейном немецкому киноконцерну, оказалась пророческой. «УФА» стал впоследствии оплотом фашистской пропаганды, получив от гитлеровского рейхсминистра Геббельса полную монополию на кино.
8 «Тэглихе рундшау» — немецкая газета, выходившая в Берлине.
9 «Фильм-курьер» — немецкая киногазета.
10 «Фебус» — немецкая кинофирма.
11 «Старизм» — в примечании к газетному тексту статьи слово пояснялось как «ставка на стар, на звезду» (от англ. star).
12 «Железная пятерка» — так называли группу ассистентов Эйзенштейна — Г. Александрова, М. Штрауха, М. Гомерова, А. Левшина и А. Антонова. В статье шутливо названа «полосатой», потому что во время съемок фильма «Броненосец “Потемкин”» «пятерка» носила одинаковые полосатые рубашки.
13 Стаккато — музыкальный термин, обозначающий короткое, отрывистое воспроизведение звуков. Балаш и Эйзенштейн употребляют его для обозначения резкого зрительного столкновения различных кадров, сопоставляемых в монтаже.
14 «Кино сегодня» — книга Александра Беленсона, вышедшая в 1925 г. и излагавшая в искаженной форме тогдашние творческие установки режиссеров-новаторов советского кино (Л. Кулешова, Д. Вертова, С. Эйзенштейна).
15 … Балаш кроет яликами самого себя и своими же, даже не нашими определениями — эффект опускания парусов (одновременного) как раз создан символикой коллективного жеста (Gebärde), а не объективом. — Стремясь доказать творческую роль оператора в создании образной системы фильма, Балаш приводит в своей статье как пример построения эпизода «Ялики» из фильма «Броненосец “Потемкин”». В частности, он пишет: «… Ялики, летящие навстречу броненосцу. По фабуле они перевозят пищевые продукты восставшим матросам. В картине кажется, что они мчат им миллионы сердец. В этой-то скрытой образности кадра — ничего общего с “декоративной красотой” не имеющего, и кроются творчески-поэтические возможности оператора.
Мы видим затем парусники, снятые с палубы. Как по команде — разом опускают они паруса. Логическое “содержание” — лодки остановились около броненосца. Действие же этой картины — как будто сотня парусов — сотня стягов склонилась перед героем. В этой образности картин заключена их собственная поэзия, та, которая возникает только в картине, только через съемку».
Полемизируя с Балашем, Эйзенштейн не отвергает творческой роли оператора — он лишь подчеркивает синтетический характер образности цитируемого кадра, которая создается образностью драматургической ситуации, внутрикадрового действия и изобразительного решения (образ и композиция кадра). Последнее, то есть характер «операторской» образности 532 в эпизоде «Ялики», Эйзенштейн проанализировал позднее в статье «“Э!” О чистоте киноязыка» (см. настоящий том, стр. 87 – 91).
16 Осинский Валериан Валерианович (1887 – 1938) — деятель Октябрьской революции, журналист, дипломат, партийный работник.
17 Гриффит Дэвид Уарк (1880 – 1948) — американский кинорежиссер, один из основоположников американской кинематографии. Фильм «Рождение нации» (1915) создан по мотивам расистских романов Томаса Диксона «Леопардовы пятна» и «Куклуксклановец». В 1930 г. выпущен озвученный вариант этого фильма.
18 «Десять заповедей» — американский постановочный фильм на библейский сюжет (1923), режиссер Сесиль де Милль.
19 «Исход из Египта» — по библейскому преданию, уход еврейского народа из египетского плена в Палестину.
20 «Золотой телец» — в том же библейском предании — рассказ о тельце, сделанном из чистого золота, которому поклонялись евреи, странствующие в пустыне.
Два черепа Александра Македонского*
Статья написана в августе 1926 г. Опубликована в журнале «Новый зритель», 1926, № 35, стр. 10, по тексту которого и воспроизводится. Авторского подлинника не сохранилось.
Она представляет собой характерный для тех лет отклик на вызывающую острые споры проблему взаимоотношений исторических судеб театра и кино. Тот активный и, может быть, несколько неожиданный для современного читателя пафос «антитеатральности», которым проникнута эта статья, по-своему несет на себе следы вульгаризаторских идей, оказавших влияние на С. Эйзенштейна в ранний период его деятельности, когда он работал в театре Пролеткульта.
Здесь сказываются и увлеченность огромными возможностями нового искусства и несомненно односторонний взгляд на театр.
Однако содержание происходивших в театральном искусстве процессов далеко не ограничивалось теми четырьмя спектаклями, на которые ссылается в своей статье Эйзенштейн: «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка (1922), «Земля дыбом» М. Мартине (1923) в постановке Вс. Мейерхольда, «Противогазы» С. Третьякова и «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского (1923) в постановке самого С. Эйзенштейна. Спектакли эти, очень разные, противоречивые сами по себе и не свободные от увлечений чисто формальными моментами, конечно, нельзя было считать прямым и исчерпывающим воплощением тенденций исторического развития театрального искусства. Эйзенштейн не случайно проходит мимо практики МХТ, Малого театра, театра им. МГСПС и не видит перспектив, которые несло в себе их искусство.
Надо иметь в виду, что это был знаменательный для С. Эйзенштейна период, когда он порывает с театром, чтобы отныне связать все свои творческие интересы с новым искусством — кино. В этом переходе, от театра к кино, от «Противогазов» — к «Стачке», несомненно отразилась внутренняя логика художественных поисков Эйзенштейна в те годы.
Стремясь осуществить идею «агит-аттракционного зрелища» (см. статью «Монтаж аттракционов») и в соответствии с этим освободиться от присущей 533 «старому», традиционному театру условности, — в постановке «Противогазов» он переносит действие на реальный завод, определяет режиссуру как «монтаж аттракционов», вступая, однако, в спор не столько со «старым» театром, сколько с принципами театрального искусства вообще. «Спектакль провалился. А мы оказались в кинематографе», — писал Эйзенштейн впоследствии (см. статью «Средняя из трех», «Советское кино», 1934, № 11 – 12, стр. 81).
Действительно, кино оказывается искусством гораздо более подходящим для «приближения» к реальной обстановке действия и т. д., хотя и здесь попытки реализовать теорию «монтажа аттракционов» приводят к противоречиям, которыми отмечена «Стачка».
В действительности этот переход от театра к кино гораздо больше выражал логику творческой эволюции самого Эйзенштейна, чем логику исторического развития искусства вообще. В дальнейшем Эйзенштейн в своей теоретической, педагогической и творческой деятельности решительно преодолевает концепцию, изложенную в статье «Два черепа Александра Македонского».
1 Кунсткамера — одна из первоначальных форм музея, где бессистемно собраны разнородные редкости.
2 Штундист — член религиозной секты, учение которой было распространено главным образом на юге России.
3 Анабаптисты — или перекрещенцы — сектанты, требовавшие крещения взрослых. Их верование распространено в Западной Европе и в США.
4 Китон Бестер (р. 1895) — американский комедийный актер немого кино. В фильме «Наше гостеприимство» (1923) режиссера Джека Блайстона, который демонстрировался в СССР, важную роль играл «пыхтящий Билл» (так называли в Америке первые паровозы).
5 «Рогоносец» — пьеса Ф. Кроммелинка «Великодушный рогоносец», поставленная В. Э. Мейерхольдом в театре его имени в 1922 г.
6 «Мудрец» — пьеса А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в переделке С. М. Третьякова была поставлена Эйзенштейном на сцене Первого рабочего театра Пролеткульта в апреле 1923 г. «Противогазы» — пьеса С. М. Третьякова, поставлена Эйзенштейном в ноябре 1923 г. «Земля дыбом» — пьеса М. Мартине, поставленная В. Э. Мейерхольдом в 1923 г.
7 Николаи. — По-видимому, Эйзенштейн имеет в виду Евгения Леопольдовича Николаи (1880 – 1951), советского ученого-физика, разрабатывавшего вопросы теоретической механики, в частности раздел «динамика твердого тела».
8 «Мандат» — пьеса Н. Р. Эрдмана, поставленная В. Э. Мейерхольдом в 1925 г.
9 Голейзовщина. — В спектакле театра Мейерхольда «Д. Е.» (по роману И. Эренбурга «Трест Д. Е.»), выпущенном в 1925 г., танцы были поставлены балетмейстером К. Я. Голейзовским.
10 Поиски прозодежды становятся зелеными и золотыми париками «Леса»… — В постановке пьесы А. Н. Островского «Лес» в театре Мейерхольда в 1924 г. актеры играли в цветных париках.
11 «Рыли, Китай» — пьеса С. М. Третьякова (1926).
12 «Шторм» — пьеса В. Н. Билль-Белоцерковского (1925).
13 «Воздушный пирог» — пьеса Б. С. Ромашова (1925).
534 За кадром*
Статья написана в феврале 1929 г. Опубликована в виде послесловия к книге Н. Кауфмана «Японское кино» («Теакинопечать», М., 1929, стр. 72 – 92), по тексту которой и печатается. Авторского подлинника не сохранилось.
В статье разрабатываются узловые проблемы теории монтажа, которую Эйзенштейн рассматривает как часть общей теории киноискусства.
Он уделяет преимущественное внимание системе понятий, возникающих на экране в результате столкновения «конфликта» кадров («от столкновения двух данностей возникает мысль»). На втором плане в этом рассуждении — эмоциональное воздействие фильма. В статье не ставится еще проблема изображения на экране человека. К разработке этой проблемы Эйзенштейн приближается позднее. (Подробнее об «интеллектуальном кино» см. комментарии к статье «Перспективы», рассматривающей тот же круг вопросов.)
Содержание статьи «За кадром» не ограничивается дискуссионными поисками теоретических основ киноискусства. В ней Эйзенштейн, переходя от общих закономерностей монтажа к конкретной практике, дает острую и яркую характеристику вредного влияния американской и европейской рыночной завали на японское кино того времени и приходит к верному заключению: «Понять и применить свою культурную особенность к своему кино, вот что на очереди в Японии».
Статья «За кадром» помогла многим мастерам японского кино глубже осознать свои творческие задачи.
1 Хай-кай (хокку) — жанр японской лирической поэзии. Трехстишие хокку обладает устойчивым метром. В каждом стихе определенное количество слогов: пять в первом и третьем, семь во втором. Исторически хокку является первой строкой танки. Танка — буквально «короткая песня» — один из древнейших видов японской поэзии. Первоначально была народной песней. В VII – VIII вв. стала популярнейшей формой книжной поэзии.
2 Сяраку — японский художник XVIII в., известный серией портретов актеров своего времени.
3 Курт Юлиус — немецкий искусствовед, автор монографии о японском художнике Сяраку (1922).
4 Томисабуро Накаяма — японский актер второй половины XVIII в.
5 Театр «Но» — «Ногаку» — первый в истории Японии вид театрального искусства. Его образование относится к середине XIV в. Представления театра «Но» вначале устраивались в дни праздников при монастырях, а затем — при дворах правителей Японии. Основные элементы театра «Но» — сценическая речь, выступающая в форме речитатива или ариозного пения, музыка, соединенная со словом и инструментальная, и движение — сочетание поз и жестов и танец. К XIV – XV вв. относится абсолютная стабилизация театра «Но» во всех его частях. Музыкальная, драматургическая и исполнительская стороны «Но» неподвижны и закончены. Дальнейшего развития театр «Но» не получает.
6 Перцепция (лат. perceptio) — восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств. «Позитивистским реализмом» Эйзенштейн называет здесь плоско натуралистическое, мертвое, пассивное отражение внешних черт действительности.
7 Кабуки — см. комментарий в настоящем томе к статье «Четвертое измерение в кино».
8 535 «Так по винтику, по кирпичику…» — слова популярной в 20-х гг. песни «Кирпичики».
9 Кулешов Лев Владимирович (р. 1899) — советский кинорежиссер, старейший педагог ВГИКа.
10 МКХ — Московское коммунальное хозяйство.
11 «Веселая канарейка» — фильм Л. В. Кулешова, производства «Межрабпомфильм» (1929).
12 Пудовкин Всеволод Илларионович (1893 – 1953) — советский кинорежиссер, народный артист СССР.
13 ГТК — Государственный техникум кинематографии (ныне ВГИК). Эйзенштейн преподавал в нем режиссуру с 1928 по 1948 г. (с небольшими перерывами).
14 Щукинский музей — или «Музей новой западной живописи» в Москве.
15 И мы снова в Японии! — Далее Эйзенштейн анализирует спектакли театра Кабуки, гастролировавшего в СССР в 1928 г.
16 «Наруками» — пьеса Цуути Хандзюро, один из популярнейших спектаклей репертуара Кабуки.
17 Садандзи Итикава (1880 – 1939) — руководитель театра и актер, крупнейший представитель искусства Кабуки.
18 … в нашей новой деревенской картине. — Имеется в виду эпизод из фильма Эйзенштейна и Г. В. Александрова «Старое и новое» (1929).
19 «Сорок семь верных» — пьеса Такеда Идзуно из гастрольною репертуара Кабуки 1928 г.
20 «Багдадский вор» — фильм режиссера Рауля Уолша (США, 1924). В главной роли — Дуглас Фербенкс.
21 «Звенигора» — фильм А. П. Довженко (1926).
22 «Человек с киноаппаратом» — фильм Дзиги Вертова (1927).
23 «Гибель дома Уэшеров», или «Падение дома Эшеров», — имеется в виду фильм французского режиссера Жана Эпштейна, 1928.
24 … этому я посвятил целую статью… — Речь идет о статье «Нежданный стык».
25 «Нутрецы» — имеются в виду актеры и режиссеры, не владевшие осознанной методикой и профессиональной техникой работы над образом и пытавшиеся строить свое творчество на голой интуиции («нутре»).
О форме сценария*
Статья написана в 1929 г. как предисловие к сценарию «Генеральная линия». Опубликована в «Бюллетене киноконторы торгпредства СССР в Германии», Берлин, 1929, № 1 – 2, стр. 29 – 32, по тексту которого и воспроизводится. Авторского подлинника не сохранилось.
В статье Эйзенштейн убедительно критикует взгляд на сценарий как на сухой, технический перечень будущих кадров фильма, «оптическое описание того, что предстоит увидеть». Такое понимание существа сценарного дела открывало широкий простор для ремесленников от кинодраматургии, тормозило развитие искусства кино и не соответствовало высокому уровню, которого достигли к тому времени наши мастера экрана. Так называемый «номерной сценарий» сковывал режиссера, превращал его в фиксатора «анекдотической цепи событий сценария», поэтому Эйзенштейн искал новых взаимоотношений между авторами фильма.
536 Выдвигая требование «эмоциональности» сценария, Эйзенштейн стремился повысить значение кинодраматурга; он видел в нем художника, писателя, который ставит перед режиссером задачи образного воплощения темы.
Однако проблема «эмоциональности» сценария в этой статье трактовалась еще односторонне, отвлеченно. Сценарист как бы освобождался от необходимости видеть, находить кинематографический эквивалент, экранное решение литературного замысла. Поэтому статья давала повод толковать «эмоциональность» сценария весьма произвольно. Сценарий мог рассматриваться не как основа фильма, а лишь как повод, толчок для режиссерского творчества.
Художников, усвоивших отрицательные стороны «эмоционального сценария», ожидали творческие неудачи («Простой случаи» В. Пудовкина, «26 комиссаров» Н. Шенгелая, «Бежин луг» С. Эйзенштейна — все три фильма по сценариям А. Ржешевского, приверженца «эмоционального сценария»). Родившаяся в борьбе с ремесленничеством в кино, теория «эмоционального сценария» в известной мере вновь открывала двери ремесленничеству.
Отрицательная роль, которую сыграло увлечение Эйзенштейна и других режиссеров «эмоциональным сценарием», усугубилась после появления звукового кино. Теория, изложенная Эйзенштейном в комментируемой статье, не подразумевала звучащего с экрана диалога. Поиски режиссера, естественно, ограничивались главным образом чисто изобразительными соответствиями.
Впоследствии, с появлением звукового кино, в своих теоретических воззрениях и в творческой практике сценариста (достаточно вспомнить сценарий «Ивана Грозного») Эйзенштейн преодолел отрицательные стороны теория «эмоционального сценария», но остался верным пафосу статьи, направленной против укоренившихся сценарных штампов, против ремесленного отношения к работе кинодраматурга.
1 Дребух (Drehbuch) — по-немецки обозначает сценарий.
Родится Пантагрюэль*
Статья написана в 1933 г. Опубликована в газете «Кино», М., 4 февраля 1933 г., по тексту которой и воспроизводится с небольшими уточнениями по черновому автографу (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1088).
Статья «Родится Пантагрюэль» является ответом на статью Е. Вейсмана «Гаргантюа растет», опубликованную в том же номере газеты «Кино», 4 февраля 1933 г.
В этой статье и в публикуемой в этом же томе статье «Одолжайтесь!» Эйзенштейн указывает на одно важное качество кино, присущее ему на звуковой стадии. Это «отражение действительности в движении психического процесса», воссоздание средствами экрана мысли человека. Наиболее близкой, адекватной формой выражения мысли в кино служит, по мнению Эйзенштейна, внутренний монолог: он явится структурной основой кинодиалога на новом, звуковом этапе развития экранного искусства.
Мысль Эйзенштейна о конкретной форме, какую примет внутренний монолог, в этой статье, конечно, еще недостаточно прояснена. Многое, очевидно, требовало экспериментов, проверки опытом.
537 Сегодня внутренний монолог в киноискусстве занимает подобающее ему место: трудно себе представить поэтику современного фильма без этого выразительного средства. Многое из того, о чем сказано в статье «Родится Пантагрюэль», воплощается в картинах советских режиссеров и их зарубежных коллег. Достаточно припомнить, например, о сценариях Довженко «Поэма о море» и «Повесть пламенных лет».
1 «Киноглаз» — возникшее в 20-е гг. течение советского немого кино, возглавляемое Дзигой Вертовым и основанное на документальном воспроизведении жизни, снятой «врасплох».
2 Сологубки — полемический выпад в адрес Е. Вейсмана, который отождествил «внутренний монолог» Эйзенштейна с махрово идеалистическим, реакционным творчеством литератора Ф. Сологуба (псевдоним Ф. К. Тетерникова, 1863 – 1927).
3 Пруст Марсель (1871 – 1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени». Яркий представитель упадочнической литературы, для которой единственной реальностью является идеалистически истолкованный «поток сознания» изображаемых героев.
4 … традиции усекновенных глав Аристотеля… — Речь идет о механическом приспособлении в кино классических положений теории драмы греческого философа Аристотеля (384 – 322 гг. до н. э.), изложенной в его «Поэтике». Выражение «усекновенных глав» употреблено Эйзенштейном пародийно, по аналогии с евангельским выражением об «усекновенной главе Иоанна Крестителя».
Волки и овцы. Режиссер и актер*
Статья написана в 1935 г. В ЦГАЛИ хранится основной текст статьи — автограф С. М. Эйзенштейна с рукописными вставками П. М. Аташевой (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1146). Текст без авторского заглавия. Напечатана впервые в кн.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 300 – 302. Статья публикуется по авторскому подлиннику.
Середина 30-х гг. в истории советской кинематографии — время глубоких и всесторонних изменений, обусловленных новым этапом социалистического строительства в нашей стране и необходимостью решать новые, более сложные идейно-художественные задачи. Одной из важнейших и самых узловых и спорных стала проблема актера, новых его возможностей в звуковом кино. Эта проблема очень активно обсуждалась в кино и театральной прессе. Так, газета «Кино» в сентябре — октябре 1935 г. провела дискуссию о месте актера в кино, о специфике игры актера в кино и театре, о взаимоотношениях актера с другими создателями фильма. В ней приняли участие крупнейшие режиссеры, актеры, сценаристы советского кино. Особенно остро обсуждались вопросы творческого метода актера, сопоставлялись различные школы актерской игры, анализировались системы Станиславского и Мейерхольда и степень их применимости в кино. Статья «Волки и овцы», в то время не опубликованная, излагает точку зрения Эйзенштейна на самую больную проблему — «режиссер и актер». Изложенные в ней положения сохранили все свое значение и в наши дни и, по существу, являются общепринятыми. В то же время статья отвечает тем критикам, которые, исходя из плоско понятой и абсолютизированной поэтики бытовой психологической драмы, игнорируя своеобразие творчества Эйзенштейна и особенности его 538 художественной практики, упрекали его в том, что он «не умеет работать с актером» и «подавляет актерскую индивидуальность».
1 Всесоюзное совещание по кино — Всесоюзное творческое совещание работников советской кинематографии проходило в Москве 8 – 13 января 1935 г.
2 «Железная пята» — парафраз заглавия романа Джека Лондона.
3 Шишкинской «Медведицы с медвежатами». — Эйзенштейн имеет виду картину И. И. Шишкина (1832 – 1898) «Утро в сосновом лесу».
4 … построение серовского типа. — Серов Валентин Александрович (1865 – 1911) — русский художник; к его творчеству Эйзенштейн обращается в своих статьях неоднократно.
Пушкин и кино. Предисловие*
Статья написана в 1939 г. Опубликована в журнале «Искусство кино», 1955, № 4, стр. 78 – 95. Подлинник хранится в ЦГАЛИ (ф. 1923, оп. 2). Публикуется журнальный текст с исправлением по автографу.
Публикуемая статья представляет собой предисловие к намечавшемуся Эйзенштейном исследованию «Пушкин и кино».
В комментируемой статье Эйзенштейн высказывает ряд важнейших положений относительно связей кинематографа со всей художественной культурой человечества, и в частности — с литературой. Поэтому статья «Пушкин и кино» должна рассматриваться как своеобразное теоретическое введение ко всем работам Эйзенштейна, в которых поставлены вопросы взаимосвязи кинематографа с другими искусствами и литературой.
Первое важное положение, с которого начинается статья, гласит: «… нет прямых предков кино, а предки все косвенные». Тем самым Эйзенштейн дает единственно верный ключ для последующего анализа соотношения кинематографа и других искусств. Младший брат в семье искусств, кинематограф рассматривается режиссером как наследник высоких традиций реалистической художественной культуры прошлого и одновременно как новый этап в развитии искусства, а не как «конкретизированная литература» или «ожившая живопись» (такое понимание искусства экрана еще можно встретить среди современных теоретиков кино).
Вводя вместо ограничительного принципа (учиться только у литературы, только у писателей, отличающихся «кинематографичностью письма») принцип широкого охвата значительных с художественной точки зрения явлений, Эйзенштейн справедливо указывает, что «споры о том, кто лучше или на кого ориентироваться, в таком случае отпадут».
Следует отметить, что в этой статье Эйзенштейна нет указаний на определенные отрывки из классиков литературы, которые являются «чистейшим сценарием», «абсолютно сценарным куском» и т. д. Он смотрел на этот вопрос шире. Призывая кинематографистов учиться на опыте уже сложившихся давно искусств, Эйзенштейн показывает необходимость дифференциации этого процесса в зависимости от тех или иных художественных индивидуальностей. «Обращаться к каждому писателю за тем, в чем он мастер», «скромно учиться у одного лепке характера, а у другого — пластическому воплощению характера на плоскости холста и т. д. А главное: не путать адреса. Не требуя у Флобера достоинств Гоголя и не учась у Достоевского тому, в чем неповторим Толстой…». Статья «Пушкин и кино» помогает верно понять позицию Эйзенштейна в этом вопросе, являясь серьезным теоретическим 539 обоснованием в разработке режиссером проблем, связанных с соотношением видов искусства и значением культурных традиций для развития кино.
1 «Герман и Доротея» — эпическая поэма Гете (1797), «Ифигения в Тавриде» — драма Гете (1787).
2 Клейст Генрих, фон (1777 – 1811) — немецкий писатель-романтик, драматург и новеллист.
3 Клопшток Фридрих Готлиб (1724 – 1803) — немецкий поэт.
4 Цвейг Стефан (1881 – 1942) — австрийский писатель.
5 «Мейстерзингеры» — музыкальная драма Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868), сюжет которой взят из нюрнбергской хроники XVII в. Бекмессер — персонаж этой оперы, городской писарь, выступающий в роли иронического критика.
6 … цитатой Энгельса о превосходстве Бальзака над Золя… — Эйзенштейн имеет здесь в виду слова Энгельса из письма к М. Гаркнесс: «Бальзак, которого я считаю гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого, настоящего и будущего» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVIII, стр. 28). Статьи против Эйзенштейна были напечатаны в журнале «Советский экран», 1928, № 48.
7 «Земля» — роман Э. Золя из серии «Ругон-Маккары» (1887). «Шагреневая кожа» — роман О. Бальзака (1831).
8 Веласкес Диего де Сильва (1599 – 1660) — испанский живописец. Эйзенштейн здесь, по-видимому, имеет в виду его автопортрет.
9 И старик Горио… — Эйзенштейн далее перечисляет действующих лиц «Человеческой комедии» Бальзака.
10 Мане Эдуард (1832 – 1883) — французский художник. В 1867 г. Э. Золя посвятил Эдуарду Мане критико-биографический этюд. В 1868 г. Мане написал портрет Золя.
11 … его бара в Мулен-Руже. — По-видимому, здесь допущена неточность, так как имеется в виду картина Э. Мане «Бар в Фоли-Бержер». Вторая упоминаемая Эйзенштейном картина — это «Служанка с кружкой пива» того же художника.
12 Нала — героиня одноименного романа Золя (1880).
13 Эжен Ругон — герой ряда романов Золя из серии «Ругон-Маккары».
14 Наполеон III — французский император, провозгласивший в 1852 г. Вторую империю; его сын принц Наполеон, родившийся в 1856 г., был убит в Африке в 1879 г. Крестины принца Наполеона описаны в романе Золя «Его превосходительство Эжен Ругон» (1876).
15 Нюсинжен — герой романа Бальзака «Банкирский дом Нюсинжен» (1837).
16 Саккар — фамилия целой семьи действующих лиц в серии романов Э. Золя «Ругон-Маккары». Здесь, по-видимому, подразумевается Аристид Саккар.
17 Бусыгин Александр Харитонович (р. 1907) — рабочий-кузнец, один из зачинателей стахановского движения в машиностроительной промышленности; в 1935 г. установил свои первые производственные рекорды.
18 (Горький о Толстом: что отсвет печки при таком соразмещении печки и стола на скатерти быть не может). — А. М. Горький в своей статье «О том, как я учился писать» (1928) вспоминает о разговоре с Толстым: «“А печь стоит у вас не так”, — заметил Л. Н. Толстой, говоря о рассказе “Двадцать шесть и одна”. Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня» (А. М. Горький, Собр. соч., т. 24, М., 1953, стр. 489 – 490).
540 Приложения
Будущее звуковой фильмы. Заявка*
В ЦГАЛИ хранится текст «Заявки», написанный рукой Г. В. Александрова, с дополнениями В. И. Пудовкина и пометами С. М. Эйзенштейна, а также машинописная копия этого текста с редакторской правкой П. М. Аташевой, с подписью С. М. Эйзенштейна и датой — 20 июля 1928 г. (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 909). В почти не измененном виде «Заявка» была опубликована в журнале «Советский экран», 1928, № 32, стр. 5, с примечанием от редакции и за тремя подписями: С. М. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина и Г. В. Александрова. Публикуется журнальный текст.
Как известно, появление в конце 20-х гг. звукового кино вызвало ожесточенные споры и резко отрицательную реакцию многих деятелей кино, среди которых были такие крупные художники, как Ч. Чаплин, Р. Клер, такие авторитетные теоретики, как П. Рота, Р. Арнхейм и другие.
Многим из них казалось, что приход звука ведет кино в сторону натуралистической иллюзорности, к чему-то вроде «раскрашивания статуй» (Ч. Чаплин); ничего не прибавляет к его выразительным возможностям и даже напротив — ограничивает их, оставляя гораздо меньше места творческому началу в художественном отражении жизни.
На этом фоне решительное принятие звука, которое было прямо провозглашено в «Заявке» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова, выступает как факт сам по себе достаточно знаменательный.
В этом утверждении звукового фильма и его будущего состояла историческая заслуга авторов «Заявки».
В требовании органического включения звука в фильм было свое рациональное зерно. Оно заключалось в предостережении — имевшем, как показала практика, достаточно оснований — против действительно иллюстративного использования звука и слова, против механического подражания театральному спектаклю.
Соотнесение «Заявки» с современным кино поучительно и в другом отношении. Если мы обратимся к его новым завоеваниям в области звука, то увидим, что многие из них (в том числе и такие, как закадровый текст, 541 внутренний монолог) возникают в направлении общих идей «Заявки» — они появляются там, где кино не ограничивается задачей просто создать «созвучное изображение», где звук и прежде всего слово становятся все более активным элементом кинематографического образа.
Известная односторонность «Заявки» заключается в недооценке всего многообразия форм использования звука и слова, не всегда непременно «контрапунктических» и «асинхронных». Сегодня, после пути, пройденного звуковым кино, и опыта самих авторов «Заявки», это достаточно очевидно.
Несмотря на эту односторонность, «Заявка» С. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина и Г. В. Александрова принадлежит не только истории; ее основные идеи сохраняют значение и для сегодняшнего кино, указывая один из путей развития его художественного языка.
1 … использовать в неправильном направлении. — Стремясь извлечь наибольшие прибыли из сенсационного изобретения, американские дельцы эксплуатировали интерес публики к самому факту звука, диалога и музыки в кино. Первый американский звуковой фильм «Певец джаза» (1927, режиссер Алан Кросслэнд) был фактически демонстрацией песенок известного мюзик-холльного актера Ол Джонсона. За ним последовала серия фильмов, механически переносивших на экран нашумевшие бродвейские спектакли. Такой метод использования звука зачеркивал все достижения немого кино и грозил отбросить кинематограф далеко назад, к периоду «сфотографированного театра», что, естественно, взволновало крупнейших мастеров немого кино.
2 … не будет заперта в национальные рынки… — один из основных аргументов противников звукового кино, опасавшихся, что звучащий диалог сделает фильм непонятным в странах другого языка. В период немого кино эта проблема решалась простой заменой титров. До изобретения субтитрирования и дубляжа диалог действительно создавал трудности в международном обмене фильмами. Выход из этого положения продюсеры пытались найти в одновременной съемке нескольких вариантов на разных языках.
Динамический квадрат*
В ЦГАЛИ хранится черновой текст (на английском языке) выступления С. М. Эйзенштейна на дискуссии о «широком фильме», организованной 17 сентября 1930 г. Академией кинематографического искусства и науки в Голливуде (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1066). Переработанный текст этого выступления с кратким предисловием С. М. Эйзенштейна был напечатан в журнале «Клоз-ап» 1931 г., т. VIII, № 1 – 2. Публикуется перевод этого текста, сделанный П. Аташевой и В. Познером для сборника «Вопросы киноискусства», вып. IV, М., 1960, стр. 218 – 257.
В своем докладе Эйзенштейн, по существу, впервые в истории кинематографа выдвинул идею экрана, способного в зависимости от художественных задач изменять свои пропорции и форму, — идею, представляющую собой наиболее радикальное и гибкое решение проблемы «широкого фильма»; эта идея опередила свое время и только сегодня приблизилась к своему практическому воплощению в проектах так называемого «вариоэкрана» — экрана с меняющимися пропорциями. Помимо большого практического интереса и несомненной перспективности предложения Эйзенштейна здесь чрезвычайно существенна и плодотворна сама методология подхода к новым формам кино.
542 В этом смысле особенно поучительны два момента. Во-первых, говоря о наследовании кинематографом художественного опыта других искусств, Эйзенштейн настойчиво подчеркивает опасность прямого заимствования их приемов и достижений, не преломленных через специфическую природу кино и основанных, по существу, на «поверхностно обнаруживаемых аналогиях» и «сходстве внешних проявлений», что способно привести лишь к серьезным художественным ошибкам.
Во-вторых, рассматривая закономерность рождения новых форм кинематографа, Эйзенштейн ставит во главу угла фактор художественной необходимости, а не развитие формальных, технических приемов киноизображения.
Сегодня, когда кинематограф, завоевывая новые области в использовании слова, цвета, звука, приходит в особенно тесное соприкосновение с другими искусствами (и прежде всего с литературой, живописью и музыкой) и оказывается в поисках новых форм (панорамное кино, циркорама, стереокино) перед необходимостью эстетического «освоения» новой техники, эти положения доклада Эйзенштейна заслуживают особого внимания.
Спорным в докладе является безоговорочное утверждение, что «доимпрессионистический период XIX века» — самый худший период в истории живописи; или оценка роли «сценической композиции» и господствующих пропорций в изобразительном искусстве этого периода. Нельзя не обратить внимания и на категорическое отрицание в докладе значения для современного искусства принципа «золотого сечения», которое получает подробное и тщательное эстетическое обоснование позднее в статье «О строении вещей» (см. III том настоящего издания).
1 Траянов столб, или Траянова колонна, высотой в 39 м, воздвигнутая римским императором Траяном на Римском форуме в начале II в. н. э. (113 г.). Сохранилась до наших дней.
2 … эра математического знания выкрикивает свой гимн небу… — и дальше Эйзенштейн называет наиболее показательные архитектурные объекты нашей эры: Эйфелеву башню, построенную в 1899 г. в Париже (высотой 300 м), высочайшие небоскребы Нью-Йорка: «Таймс» и «Крайслербилдинг».
3 Тоска по «большим дорогам», «сражающимся караванам», «крытым фургонам» и бесконечной ширине «старика Миссисипи»… — Эйзенштейн имеет в виду американские фильмы под этими названиями, посвященные романтике американской колонизации, продвижению американских поселенцев в глубь степных просторов Восточной Америки.
4 Бруклинский и Гудзоновский мосты — крупнейшие мосты Нью-Йорка, особенно последний, построенный в 1931 г. и достигающий 2,3 км в длину.
5 «Долина смерти» — межгорная впадина пустыни Мохаве (Маявской пустыни) в Калифорнии, длина которой примерно в четыре раза больше ее ширины.
6 … генералов Шермана и Гранта — Грант Улисс Симпсон (1822 – 1885) — главнокомандующий армией северных штатов во время гражданской войны в США; с 1869 по 1877 г. — президент США. Шерман Вильям (1820 – 1891) — американский генерал, соратник Гранта, во время гражданской войны был командующим западной армией.
7 Тотемические столбы индейцев — сооружения, связанные с культом тотема, то есть обожествлением сил природы или отдельных животных и растений.
8 543 Примо Карнера — боксер, чемпион мира, славившийся своим высоким ростом.
9 Леже Фернан (1881 – 1955) — французский художник, коммунист. В архиве Эйзенштейна сохранилось семь писем Ф. Леже за 1930 – 1935 гг.
10 Хогарт Уильям (1697 – 1764) — английский художник, высмеивавший в своих сериях картин «Модный брак» и «Карьера мота» пороки современного ему общества.
11 … мистерий и мираклей… — Миракли — средневековые религиозно-назидательные драмы, особенно распространенные во Франции в XIII – XIV вв. Мистерии — религиозные театральные представления эпохи позднего западноевропейского средневековья XIV – XVI вв.
12 Фуке Жан (ок. 1415 – ок. 1480) — французский портретист и автор многочисленных книжных миниатюр.
13 Зеркало сцены — термин, обозначающий величину проема сцены, обрамленную порталом (в кв. метрах).
14 Хокусаи Кацусика (1760 – 1849) — японский живописец и автор рисунков для гравюры на дереве; особой известностью пользуются его пейзажи горы Фудзи.
15 Блумсбери — район Лондона, где расположен Британский музей, который и имеется здесь в виду.
16 Хоуэлл и Вабрэй, Лейн, Уастерберг и Дитерих, Майлз и др. — участники дискуссии о форме экрана, так же как Лестер Коуэн, Ллойд А. Джонс, Рейтон и Спонэбл.
17 Видор Кинг (р. 1894) — американский кинорежиссер.
18 «На Западном фронте без перемен» — американский фильм режиссера Льюиса Майлстона (1931) по одноименному роману Эриха М. Ремарка.
19 «Сентиментальный романс» — короткометражный звуковой фильм, снятый Г. В. Александровым во Франции в 1930 г. при консультации Эйзенштейна.
[Монтаж]*
Рукопись Эйзенштейна хранится в ЦГАЛИ (ф. 1923, оп. 2). Публикуется впервые.
Исследование «Монтаж» занимает особое место в публикуемом теоретическом наследии С. М. Эйзенштейна. Необычен замысел исследования, его методология и значение в эволюции Эйзенштейна-теоретика.
Первые наброски и заметки к обобщающему исследованию о законах монтажа, сохранившиеся в архиве С. М. Эйзенштейна, относятся к 1935 г. Однако вплотную к работе над исследованием «Монтаж» Эйзенштейн приступил в июне 1937 г. К этому времени для него стал очевидным максимализм некоторых деклараций «монтажного» кинематографа 20-х гг., образные открытия которого заняли свое, частное место в сложной композиции звукового фильма. За плечами Эйзенштейна была постановка незавершенного фильма «Да здравствует Мексика!», где много творческого труда и исследовательского внимания было отдано проблемам образности кадра и, по принятой ныне терминологии, внутрикадрового монтажа.
Датой 30 октября 1934 г. помечена последняя главка учебника «Режиссура» (т. 1), в котором Эйзенштейн начал систематическое изложение своей 544 теории о природе художественной выразительности. Общие закономерности этой теории раскрывались здесь на материале выразительного движения актера и театральной мизансцены. Второй том должен был основываться на цикле лекций в ГИКе (третий курс режиссерского факультета, 1933/34 г.), в котором анализировалась стадиальная связь построений — «мизансцена — мизанкадр — монтаж». К сожалению, Эйзенштейн не успел переработать стенограммы этих лекций в учебник. Однако, так или иначе, к 1935 г. эстетическая концепция Эйзенштейна уже была изложена в общих чертах. Появилась возможность такого структурного анализа произведения, чтобы выявилась связь между наиболее общими закономерностями этой концепции и отдельными выразительными средствами, в том числе монтажом (в узком, привычном смысле термина).
Позади 1936 год — работа над фильмом «Бежин луг», первая возможность на практике проверить гипотезу о звукозрительном контрапункте — о монтаже «будущего звуковой фильмы», высказанную еще в 1928 г. Как известно, этот фильм Эйзенштейна постигла трагическая судьба, — он не был завершен, и снятый материал не сохранился (см. об этом во вступительной статье к I тому настоящего издания) — и творческим открытиям «сегодняшнего» Эйзенштейна не суждено было стать достоянием всего киноискусства. В эти же годы стала реальной мечта о цвете в кино, и Эйзенштейн — уже весь в мыслях о будущем виде монтажа, который он назовет позже «хромофонным» («цветозвуковым»).
Так определилась общая задача исследования 1937 г. — не только дать «свободный обзор» монтажа ушедшего периода, но и «засечь координаты этого дрейфующего понятия на сегодняшней точке его понимания» и дать заявку на будущее его развитие.
Задача определила и композицию исследования. Эйзенштейн разделил историю монтажа на три последовательных этапа развития: съемка действия с одной точки, многоточечно-монтажная разработка действия в 20-е гг. и звукозрительный монтаж новейшего кинематографа. Соответственно он разбивает исследование на три главы, однако пишет не историю уже осуществленных монтажных концепций, а предпринимает анализ тех выразительных возможностей, которые давал каждый этап.
В ходе анализа обнажается единство принципов выразительности всех трех периодов, и это позволяет Эйзенштейну поставить вопрос о монтаже — в широком смысле термина — как о выражении самых глубоких принципов образного мышления, общих для всех искусств. Полемизируя с устарелыми концепциями, согласно которым именно в монтаже — специфика кино, Эйзенштейн обращается к огромному историческому опыту искусства. Если не считать упомянутой выше «Режиссуры» (см. т. IV настоящего издания), это фактически первое исследование, в котором он с такой широтой и щедростью использует свои обширные знания, с такой свободой строит повествование, каждым «отступлением» готовя бросок к новому выводу, к новому этапу рассмотрения основной проблемы.
Исследование «Монтаж» — итог прежних экспериментов и достижений, обобщение гипотез Эйзенштейна в области теории киномонтажа. Читатель неоднократно отсылается к ранним статьям — «За кадром», «Четвертое измерение в кино», «“Э!” О чистоте киноязыка». Здесь развиваются мысли, высказанные гипотетически в «Нежданном стыке» и «Заявке».
С другой стороны, можно установить прямую связь работы «Монтаж» с проблематикой более поздних исследований.
545 В 1938 г. в печати появляется статья «Монтаж 1938» (см. настоящий том и комментарии), написанная независимо от «Монтажа», но непосредственно с ним связанная. Возвращаясь к частной проблеме монтажного тропа, стоявшей в центре внимания кинематографа 20-х гг., Эйзенштейн стремится прежде всего рассмотреть монтаж «на сегодняшней точке его понимания».
Работа над фильмом «Александр Невский» завершилась известным теоретическим исследованием «Вертикальный монтаж», целиком посвященным звукозрительному контрапункту и образности цвета в кино. Именно эти проблемы должны были занять основное место в третьей главе «Монтажа». Однако теперь Эйзенштейн мог оперировать новым, существенно важным материалом. То, что было во многом гипотезой в 1937 г., блистательно подтверждалось практикой «Александра Невского». Связь двух исследований обнаруживается еще и в том, что соотнесение линейного контура изображения с «контуром» мелодии (третья статья «Вертикального монтажа») становится особенно убедительным после знакомства с первым разделом «Монтажа».
В набросках к «Вступлению» Эйзенштейн писал, что хотел бы дать в конце исследования «представление о том, как живой человек, его сознание и деятельность, является не только основой отображения в содержании (изображении) фильма, но как он же отражается в закономерностях формы как законе строения вещи (обобщенного образа произведения)». Два года спустя он опубликовал статью «О строении вещей», подводившую итог его многолетним наблюдениям над природой человеческой выразительности и природой выразительного в искусстве. Подробной разработке и историческому обоснованию тезисов этой статьи Эйзенштейн посвятил свои труды послевоенного периода (см. «Пафос» и «Неравнодушная природа», том III настоящего издания). При этом одним из аспектов рассмотрения проблемы был анализ монтажа в полифоническом построении фильма — обобщение опыта работы над «Иваном Грозным». В частности, были подтверждены закономерности уже осуществленного цветозвукового (хромофонного) монтажа.
Таким образом, «Монтаж» является не только итогом ранних концепций, но и прелюдией ко всему циклу трудов зрелого периода. При составлении рукописи обнаружилось, что многие примеры из «Монтажа» включены в опубликованные статьи («Диккенс, Гриффит и мы», «Монтаж 1938» и др.), а ряд отрывков был подложен к материалам неоконченных работ («История крупного плана», «Монтаж 1939», «Монтаж 1940», «Grundproblem», «Неравнодушная природа»).
Осенью 1937 г. Эйзенштейн прервал работу над исследованием, и оно осталось неоконченным. Об этом свидетельствует уже внешний вид рукописи, столь непохожей на тщательно отделанные статьи, подготовленные Эйзенштейном к печати. Отдельные части исследования оказались разрозненными, вместо некоторых важных текстовых кусков написаны только конспективные наброски, многие цитаты не вставлены автором.
Из обещанных в предисловии трех разделов рукописи полностью был обнаружен в архиве Эйзенштейна лить первый. Второй оказался незавершенным, хотя основные проблемы этого раздела получили достаточно подробную разработку. К нему примыкает значительное количество вставок и добавлений, часть из которых (наиболее законченных) печатается в острых скобках либо описывается в примечаниях к исследованию. Долго не удавалось найти основную часть третьей главы. Когда этот том был уже сверстан, ее обнаружили в ЦГАЛИ, среди автографов III статьи «Вертикального монтажа». Построенные на разном материале, они действительно очень 546 близки по проблематике и обобщающим выводам. Эта находка позволила установить, что термин «вертикальный монтаж» был впервые введен Эйзенштейном в свою теорию не в 1939 г. (как считалось до сих пор), а двумя годами раньше.
Материалы третьего раздела представлены здесь в четырех отрывках: вступительной части, формулирующей принцип звукозрительного монтажа и устанавливающей связь его с предыдущими этапами; этюда «Девушка как луч» — практического примера построения звукозрительного образа, анализа «звукозрительного контрапункта» в построении сцены скачек из «Анны Карениной» Л. Н. Толстого (Эйзенштейн намеревался использовать этот пример как приложение к III разделу) и заключительного отрывка, в котором обосновывается «принцип человечности» композиции.
Не оказалось в рукописи и законченного предисловия. Однако в рабочих материалах исследования сохранилось несколько набросков и заметок с пометками «Вступление», «О монтаже», «Prologue» и т. д. Наиболее значительные и законченные из них публикуются в настоящем издании под названием [«Наброски к вступлению»]. Первые три отрывка датированы соответственно 16 июня, 20 июня и 1 августа 1937 г. На рукописи четвертого отрывка рукой автора сделана пометка: «Между вступлением и I разделом». Исследованию предшествует «Предисловие», датированное 7 ноября 1937 г., своеобразный манифест зрелого Эйзенштейна.
Помимо основного текста Эйзенштейн намеревался включить в исследование ряд приложений. Однако некоторые из них не были написаны (например, анализ композиции фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»), другие — в том числе фундаментальный анализ «Эль Греко и кино», посвященный пластической композиции, световому и цветовому монтажу в картинах великого испанского художника, ввиду их конспективности в настоящую публикацию не входят. В настоящем томе кроме упомянутого выше анализа сцены из «Анны Карениной» публикуются два приложения. В соответствии с пометками автора они помещены между основными разделами. Это анализ композиции портрета М. Н. Ермоловой кисти В. А. Серова и этюд «Пушкин-монтажер», часть которого («Шары чугунные») была опубликована в журн. «Искусство кино» (1955, № 4, стр. 90 – 96).
На истории написания первого из них надо остановиться особо. Эйзенштейн очень ценил портрет Ермоловой В. А. Серова, считал принципиальной удачу его композиционного решения и неоднократно возвращался к нему. Впервые он обратился к портрету Ермоловой на занятиях своей мастерской в ГИКе (см. Стенограммы лекций, хранящиеся в Кабинете режиссуры ВГИКа, 1934/35 учебный год, IV курс, апрель 1935 г., лекция № 28, стр. 7 – 8). В 1937 г. он записал анализ портрета для исследования «Монтаж», точно определив его место в рукописи (в конце I раздела рукой автора сделана пометка: «На переходе [ко II разделу] дать “Ермолову”»). В связи с тем, что рукопись «Монтажа» осталась незавершенной, Эйзенштейн вынул из нее этюд о портрете Ермоловой, намереваясь использовать его в другом исследовании. Переработанный частично в 1945 г., он должен был войти отдельной главкой в книгу «Неравнодушная природа». Однако «Ермоловой» не везло — она не попала ни в окончательный вариант этой книги, ни в исследование «Пафос», ни в «Историю крупного плана», в черновых материалах которой были обнаружены некоторые страницы рукописи 1937 года.
Таким образом, в настоящее время анализ серовского портрета Ермоловой существует в виде варианта 1945 г., нескольких страниц рукописи 547 1937 г., а также целого ряда вставок и дополнений, посвященных в основном сравнению творчества И. Е. Репина, В. В. Сурикова и других живописцев с художественными принципами В. А. Серова. Чтобы наиболее полно представить эти материалы, составителям пришлось пойти на соединение обоих вариантов и вставок. Так как первый вариант этой работы полностью не сохранился, вначале дается текст 1945 г. Допустимость такого решения подтверждается следующей фразой самого Эйзенштейна из второго варианта этюда: «Ниже я привожу почти без изменений то, что я тогда (в 1937 г. — Ред.) писал о портрете Ермоловой». Упоминание об изменениях относится, по-видимому, прежде всего к той части анализа, в которой Эйзенштейн сравнивает принцип композиционного решения Серова с выводами по материалу I раздела «Монтажа» (пример с баррикадой) и которую он, естественно, изъял при переработке для другой книги. Однако именно этой купюрой и является сохранившаяся часть рукописи 1937 г.! Она стала второй частью публикуемой главки. Сличение совпадающих по материалу кусков обоих вариантов показало, что Эйзенштейн улучшил стилистику, совершенно не изменив существа утверждений. Поэтому они даются здесь в более поздней редакции. Все случаи составительской обработки рукописи оговорены в примечаниях. В настоящую публикацию не вошли некоторые примеры из второго варианта «Ермоловой», написанные в 1945 г. и явно связанные с проблематикой «Неравнодушной природы».
В публикуемом тексте «Монтажа» сделаны некоторые сокращения, в основном за счет отступлений либо мест, записанных конспективно и явно незавершенных автором.
1 Но неправы и многие, с улюлюканьем «хоронящие» монтаж на сегодняшний день… — Эйзенштейн имеет в виду некоторых режиссеров и теоретиков, которые в 30-е гг., уделяя основное внимание вопросам сюжета, построения человеческого характера на экране и творчества актера в кино полемически отвергали некоторые художественные принципы ведущих мастеров немого кино 20-х гг. и, в частности, монтаж как доминирующее выразительное средство кинорежиссуры.
2 В конце дается представление о… как закона строения вещи (обобщенного образа произведения). — Это утверждение, очень существенное в эстетике зрелого Эйзенштейна, расшифровано в отрывке, который публикуется здесь в конце III раздела исследования. По сохранившимся заметкам и наброскам видно, что этот фрагмент, затрагивающий проблему лишь в самом общем виде, должен был стать введением к подробному доказательству целой концепции. Вероятно, материал отсутствующего здесь продолжения анализа стал основой исследования 1939 г. «О строении вещей» (см. т. III настоящего издания).
3 … обилие цитат, касающихся… системы Станиславского. — При жизни Эйзенштейна некоторые критики безоговорочно противопоставляли его творческий метод учению Станиславского. Публикация «Монтажа» помогает опровергнуть подобный взгляд, упрощающий и вульгаризующий проблему соотношения принципов двух великих режиссеров. Обращение в «Монтаже» к творчеству Станиславского не было для самого Эйзенштейна ни неожиданностью, ни случайностью. Еще в 1934 г., начиная цикл лекций о творческом методе на четвертом курсе режиссерского факультета ГИКа, он глубоко проанализировал теорию и практику МХАТ и показал связь своей теоретической и практической «платформы» как с деятельностью своего учителя Мейерхольда, так и с системой Станиславского.
4 548 … в английском издании ее «An Actor Prepares»… — Эйзенштейн пользовался при работе над «Монтажом» английским переводом книги Станиславского «Работа актера над собой», опубликованным в 1936 г., на два года раньше оригинала. Поэтому все цитаты в рукописи приводятся на английском языке. В настоящем издании они заменены соответствующими выдержками из авторского текста по изданию: К. С. Станиславский, Собр. соч. в 8 томах, т. 2, М., «Искусство», 1954. — «Работа актера над собой» (часть I, «Работа над собой в творческом процессе переживания»).
5 … направленчески по совсем иному крылу… чем шел возглавляемый Станиславским театр. — Имеется в виду школа Мейерхольда, учеником которого считал себя Эйзенштейн.
6 … тонфильме, как образце синтетического искусства. — Сохранился фрагмент «Монтажа», посвященный проблеме синтеза звука и цвета в киноискусстве. В настоящем издании этот фрагмент не публикуется, так как материал его, дополненный и развитый, вошел в исследование «Вертикальный монтаж».
7 … моя статья «За кадром», 1929 г. … — Статья «За кадром» публикуется в настоящем томе, стр. 283 – 296.
8 … обертонный знак звучания куска… — Среди многочисленных вставок к «Монтажу» сохранилась следующая заметка, дающая характеристику понятию «обертона монтажного куска»: «… Обертон куска я определял как суммарное или, вернее, производное общее чувственное “звучание” куска. Общее, складывающееся и из содержания и из композиции; из фактуры игры (актера) и игры линейных элементов; из чувственных ассоциаций форм и игры самих объемов и т. д. и т. д. Я устанавливал возможность монтировать куски по этим суммарным элементам, а не по отдельным слагающим (“по движению”, “по свету” и т. д.). Такое понимание обертона укладывается также в разобранные здесь случаи: он является чувственным обобщением в отношении всех элементов куска (определение, не совпадающее с обычным музыкальным понятием обертона).
Когда он является одновременно мыслью, еще не принявшей иной формы выражения, обертон начинает звучать образом куска. Еще шаг — и он прочитывается как “смысл” куска. Этого не следует забывать, но еще опаснее только об этом помнить! Здесь высшая точка встречается с… низшей: один “смысловой” монтаж — то есть только по смыслу сюжета, анекдотическому [Слово “анекдотический” Эйзенштейн употребляет в смысле “событийный”. — Ред.] содержанию куска — без учета комплекса всех остальных элементов и их совокупности — еще ничего общего с настоящим произведением искусства не имеет, сколько бы потуг ни предъявляли экранные явления, сверстанные лишь по этому признаку. Совершенно так же, как… бессмысленны произведения, сверстанные без учета смысла кусков в угоду всему иному!»
О принципах «обертонного монтажа» и примерах его экранного воплощения Эйзенштейн писал также в статьях «Четвертое измерение в кино» и «Вертикальный монтаж» (см. настоящий том).
9 В «Средней из трех»… — «Средняя из трех» — статья, написанная Эйзенштейном в 1934 г. к 15-летию советского кино, в которой, в частности, характеризуются особенности «среднего пятилетия» (1924 – 1929). Публикуется в VI томе настоящего издания. Выступление на творческом совещании работников советской кинематографии (1935 г.) публикуется в настоящем томе.
10 549 … в такие периоды, как указал Энгельс… что именно двигается… — Эйзенштейн ссылается здесь на следующее высказывание Ф. Энгельса: «Мы видим сперва общую картину, в которой частности пока более или менее стушевываются, мы больше обращаем внимания на ход движения, на переходы и связи, чем на то, что именно движется, переходит, находится в связи…» («Анти-Дюринг», Введение I. Общие замечания, М.-Л., ГИЗ, 1928, стр. 15).
11 К тому же этот период кинематографии… — «Периодом единой точки съемки» Эйзенштейн называет период существования кинематографа с 1896 г. до середины 10-х годов нашего века, когда большие эпизоды и иногда даже целые фильмы снимались неподвижной камерой с одной точки.
12 Эйзенштейн ссылается на почти завершенный им I том учебника «Режиссура», при жизни автора так и не увидевший свет. (Входит в настоящее издание, т. IV).
13 Я давал… на одной из своих лекций в ГИКе. — Сценическую разработку сцены ареста Вотрена из «Отца Горио» Бальзака см. подробнее в кн.: В. Нижний, На уроках режиссуры С. Эйзенштейна, М., «Искусство», 1958, стр. 13 – 30.
14 Антокольский Марк Матвеевич (1842 – 1902) — русский скульптор.
15 Ван Вей — китайский художник VIII в., автор трактата «Тайное откровение науки живописца».
16 Бог Вишну — одно из индусских божеств, первоначальное олицетворение Солнца, позднее, в VI – V вв. до н. э., превратившееся в великое пантеистическое, верховное над всеми богами божество.
17 Фирс — действующее лицо пьесы Чехова «Вишневый сад», старый лакей, которого хозяева забывают в покинутом доме. Слова Фирса «человека забыли» стали крылатыми.
18 Шагинян Мариэтта Сергеевна (р. 1888) — русская советская писательница.
19 Талейран Шарль-Морис (1754 – 1838) — французский политический деятель, дипломат.
20 Фейхтвангер Лион (1884 – 1958) — немецкий писатель.
21 … Гоген, возвращающийся к примитиву человечества… — Эйзенштейн называет французского художника Поля Гогена (1848 – 1903), уехавшего из Европы на остров Таити и принявшего за образец мироощущение и творчество примитивных культур, «Жан-Жаком XIX века», намекая на призыв великого философа XVIII века Жан-Жака Руссо «Назад, к природе!».
22 Храм Эрехтейон (или Эрехфейон) — архитектурный памятник афинского Акрополя, относящийся к 421 – 406 гг. до н. э.
23 Кьеркегор Серен (1813 – 1855) — датский писатель и философ. Книга «О понятии иронии особенно по отношению к Сократу» вышла в 1841 г.
24 Тортильяс — пресные маисовые лепешки.
25 Диас Порфирио — диктатор Мексики с 1877 по 1911 г. (с перерывом 1881 – 1884), власть которого олицетворяла блок латифундистов, клерикалов и иностранных интервентов. Вилья Панчо — вождь мексиканского крестьянства на севере в 1916 – 1917 гг. Сапата Эмилиано — вождь крестьянского движения на юге Мексики. Карранса Вепустиано — лидер конституционалистов, возглавивший движение на востоке Мексики и разгромивший отряды Сапаты.
26 … незаконно возведенную в самостоятельную картину. — Здесь подразумевается фильм «Буря над Мексикой», смонтированный американским 550 продюсером Солом Лессером из материала фильма «Да здравствует Мексика!» (новелла «Магей»).
27 Юкатан — полуостров, один из штатов Мексики. Техуантепек — район Техуантепекского перешейка на юге Мексики.
28 Кортес Фернандо (1485 – 1547) — испанский завоеватель Мексики.
29 Хасиендадо — помещик (исп.).
30 Гуатемок — последний монарх государства ацтеков, сдавший свою столицу Теночтитлан испанцам (1521) и подвергнутый по приказу Кортеса жестоким пыткам.
31 Посада Хосе Гуадалупе (1851 – 1913) — мексиканский художник-график, автор народных календарей, лубков и картинок сатирического характера.
32 Эккерман Иоганн Петер (1792 – 1854) — немецкий писатель, ему принадлежит книга «Разговоры с Гете» (1837 – 1848) — дневник с повседневными записями о Гете и работе над собранием его сочинений.
33 Гибель Бильбао — захват фашистами 17 июня 1937 г. главного города басков в Испании — Бильбао, одного из основных центров испанского рабочего движения и антифашистской борьбы в годы гражданской войны в Испании.
34 «Трактора… поджечь поле». — Здесь приводятся примеры метафорического построения кадра в фильмах Эйзенштейна «Старое и новое», «Броненосец “Потемкин”» и «Бежин луг».
35 Жерар Франсуа (1770 – 1837) — французский художник, автор картин на исторические темы.
36 … тот столбик конфликтов, который мы когда-то давно установили… — Проявление конфликтов в кинематографической композиции классифицированы Эйзенштейном в статье 1929 г. «За кадром» (см. настоящий том).
37 «Веер леди Уиндермиер» — фильм режиссера Эрнста Любича (по пьесе Оскара Уайльда), поставлен им в 1925 г. — Ред.
38 «Бекки Шарп» — цветной американский фильм режиссера Рубена Мамуляна, производство «РКО-Пайонир», 1935 г., экранизация романа М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
39 … в противоречиях действительности в целом. — Здесь изложен чрезвычайно интересный замысел исследования, в котором Эйзенштейн намеревался дать анализ диалектических противоречий внутри формы художественного произведения. Замысел этот, к сожалению, остался неосуществленным.
40 … над одним маленьким фрагментом из «Потемкина». — Эйзенштейн отсылает читателя к своей статье «“Э!” О чистоте киноязыка» (см. настоящий том), которая в новой редакции должна была войти в книгу «Монтаж» как приложение. Аналогичной проблеме, столь же существенной на новом, более высоком этапе звукозрительного контрапункта, Эйзенштейн посвятил позже третью статью «Вертикального монтажа».
41 Аксенов Иван Александрович (1884 – 1935) — см. прим. 23 к статье «Одолжайтесь!».
42 Мозаики Равенны. — Равенна — итальянский город, в котором сохранилось много архитектурных памятников VI – VII вв. н. э. — церквей с очень ценной, высокохудожественной мозаикой. См. о ней кн.: Е. Редин, Мозаика равеннских церквей, СПб., 1897.
43 Что же касается основного и решающего фактора… — Эйзенштейн 551 во многих статьях и исследованиях доказывал, что кинематограф по сравнению с другими искусствами является более высокой стадией в развитии художественного мышления, благодаря чему в кино можно реалистически решить многие из тех задач, которые в иных искусствах приводят к разрушению реалистической формы. Так, помещенная в настоящем томе статья «Одолжайтесь!» посвящена решению этой проблемы на примерах воплощения внутреннего монолога в литературе и в кино. В книге «Неравнодушная природа» (см. том III настоящего издания) Эйзенштейн подробно обосновал высказанную в «Монтаже» мысль о том, что лишь кинематографу под силу разрешить противоречие между сложностью художественных задач, выдвинутых Пабло Пикассо в живописи, и реалистичностью их воплощения.
Синьяк Поль (1863 – 1935) — французский художник-пуантилист.
44 Тинторетто, или Якопо Робусти (1519 – 1594), — итальянский художник.
45 Пафос разрешается как единство противоположностей… — Данное здесь определение пафоса как проявления закона единства противоположностей в композиции художественного произведения подробно доказывается Эйзенштейном в исследовании «Пафос» (том III настоящего издания).
46 … савонароловской нетерпимости Толстого даже в отношении Шекспира! — Имеется в виду резко отрицательная оценка Л. Н. Толстым драматургии Шекспира. Савонарола Джиованни (1452 – 1498) — католический монах, фанатичный обличитель папства, доходивший в своих проповедях до крайностей. Одной из этих крайностей Савонаролы было требование уничтожить «греховное», «языческое» искусство Возрождения.
47 Грабарь Игорь Эммануилович (1871 – 1960) — советский живописец и историк искусства, член Академии наук и Академии художеств. Цитируется его двухтомный труд «Репин».
48 Гальс Франс (ок. 1580 – 1666) — голландский живописец-портретист.
49 Гольбейн Ганс-младший (1497 – 1543) — немецкий живописец и график.
50 Ниже, в вопросе об Эль Греко… — В качестве приложения к «Монтажу» Эйзенштейн намеревался дать свое исследование «Эль Греко и кино».
51 Лукиан (ок. 120 – 180 гг. н. э.) — греческий писатель-сатирик, разоблачавший античную и христианскую религии. Энгельс называл его «Вольтером классической древности».
52 Протей — персонаж древнегреческой мифологии, морской бог, сын Посейдона, наделенный способностью менять свое лицо.
53 … где случился подобный «разлом». — Эйзенштейн имеет здесь в виду рисунок Домье из серии «Актуалите», появившийся в газете «Шаривари» 25 сентября 1851 г. и изображающий кавалера Ратапуаля, согнувшегося в подобострастной позе перед величественной женщиной, олицетворяющей Французскую республику. Ратапуаль — действующее лицо многих листов Домье, фигура, в которой он заклеймил все ничтожество, лживость и наглость агентов бонапартизма.
54 Мемлинг Ганс (1435? — 1494) — нидерландский художник.
55 «Путешествие на остров Питеры» Ватто — см. прим. 100 к «Вертикальному монтажу».
56 Дюшен — имеется в виду его книга «Mécanisme de la physionomie 552 humaine ou analyse électro-physiologique de l’expression des passions» («Механизм движения физиономии человека или электрофизиологический анализ выражения страстей», 1876).
57 «Большое ограбление поезда» (1903) — фильм американского режиссера Эдвина Портера, в котором впервые были драматургически использованы укрупнение и монтажная смена планов.
58 Кокто Жан (1889 – 1963) — современный французский поэт, романист, драматург, театральный критик, художник и кинематографист, член Французской Академии.
59 Глез Альбер (1881 – 1953) — французский художник-кубист, автор ряда книг. В соавторстве с художником Жаном Метценже (р. 1883) написал книгу «О кубизме» (1912).
60 Северини Джино (р. 1883) — итальянский художник-футурист.
61 Делоне Робер (1885 – 1941) — французский живописец, автор теории так называемого симультанизма. Характеризуя метод Делоне в своей статье о цвете в кино «Из раннего детства помню…» (1947), Эйзенштейн писал: «Делоне попытался на плоскости одного холста объединить не одну, а все восемь главных проекций, в которых с восьми главных точек зрения всесторонне раскрывается предмет. В результате — на холсте осколки, щепки и фрагменты, подобные обломкам корабля, попытавшегося выброситься на берег и попавшего на риф» (том. III настоящего издания).
62 Эйдетика, или эйдетизм, — способность человеческого сознания сохранять некоторое время во всей непосредственности образ предмета, уже вышедшего из поля зрения. Эйдетическую особенность психики использует кинематограф: на экран с определенным временным промежутком проецируются статичные фазы движения, но зритель, «накладывая» сохранившийся в его сознании образ предыдущего кадрика на последующий, воспринимает движение непрерывным (основной кинофеномен, по определению Эйзенштейна).
63 Солипсизм — крайний, абсурдный вывод всех систем философии субъективного идеализма: единственной реальностью оказывается «я» воспринимающего мир субъекта, что приводит к отрицанию существования всего мира вне «я».
64 Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957) — русский живописец, график и театральный декоратор.
65 Ходасевич Валентина Михайловна (р. 1894) — советская театральная художница.
66 Москвин Иван Михайлович (1874 – 1946) — народный артист СССР, один из основоположников МХАТ. Образ городничего в «Ревизоре» создан им в 1921 г.
67 «У камина» и «Позабудь про камин» — модные романсы предреволюционного времени, один из которых («Позабудь про камин») был ответом на другой.
68 «Нюрнбергские мастера пения» (1867) — комическая опера Рихарда Вагнера.
69 Попов Гавриил Николаевич (р. 1904) — советский композитор, тесно связанный с кино, автор музыки к фильмам «Чапаев» (1934), «Бежин луг» (1937), «Поэма о море» (1957), «Повесть пламенных лет» (1961) и др.
70 Доклад в Иельском университете в США (летом 1930 г.)… — Текст доклада не сохранился.
71 Грез Жан-Батист (1725 – 1805) — французский художник.
72 553 Энгр Жан-Огюст-Доминик (1780 – 1867) — французский художник.
73 «Конец Санкт-Петербурга» (1927) — фильм В. И. Пудовкина. «Аэроград» (1934) — фильм А. П. Довженко. «Юность Максима» (1935) — фильм Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга, первая часть трилогии о Максиме.
74 На этот раз автором монтажных листов выступает… Леонардо да Винчи. — В рукописи 1937 г. отсутствует текст Леонардо да Винчи. Описание его замысла «Потоп» Эйзенштейн использовал в статье «Монтаж 1938» (см. настоящий том, стр. 167 – 170).
75 Вергилий (70 – 19 гг. до н. э.) — древнеримский поэт, который в поэме «Георгики» (37 – 30 гг. до н. э.) воспевает природу и земледельческий труд.
76 Маццуоли Франческо (по прозвищу Пармеджанино; 1504 – 1540) — итальянский художник, первым в Италии применивший технику гравюры на меди.
77 Тициан (1489 – 1576) — итальянский живописец.
78 Кайлюс Клод, де (1692 – 1765) — французский археолог, путешественник, писатель. Главный противник Лессинга в «Лаокооне».
79 Пуантилисты — группа художников «постимпрессионизма» (П. Синьяк, Ж.-П. Сера и др.), предложивших новую технику живописи — нанесение на холст краски точками чистых тонов, смешивающихся оптически при восприятии картины.
80 Далее II раздел строится на многочисленных примерах из литературы, мифологии, психологии и т. д. Эта часть рукописи носит настолько отрывочный и черновой характер, что печатать ее в настоящем издании нецелесообразно. Любопытен, однако, сам материал этих примеров, показывающий, насколько широко стремился Эйзенштейн доказать свою концепцию «монтажности» образа во всех искусствах. Публикуемую рукопись продолжает анализ «Лаокоона», однако предметом его является теперь не эстетика Лессинга, а «монтажность» описаний в «Илиаде» Гомера. Попутно Эйзенштейн касается творчества французского поэта-символиста С. Малларме и стихотворения В. В. Маяковского «Сергею Есенину». После этого он переходит к принципу «короткой строки», примененному русским очеркистом В. М. Дорошевичем в книге «Сахалин» (1907), однако примеров не приводит. На этом рукопись обрывается. Ко II разделу относится также ряд фрагментов и вставок, не вошедших в основной текст рукописи. В одном из этих фрагментов Эйзенштейн обращается к древнеегипетскому мифу о боге Озирисе, тело которого было рассечено на части и разбросано по всей земле. Он пользуется этим мифом как условным образом «монтажности» художественного мышления вообще. Подобно тому как богиня Изида странствует по земле, собирая по частям тело своего супруга Озириса, художник, дифференцировавший явление на первом этапе творчества, собирает (интегрирует) его затем в целостный образ. Эйзенштейн доказывает, что на этом втором этапе творчества во всех искусствах действуют те самые «монтажные» законы, которые просто стали наглядными и очевидными в кинематографе благодаря «технологии» интеграции образа из «изобразительных» элементов на этапе «монтажного кино» 20-х гг. С точки зрения «метода Озириса» анализируется в другом отрывке творчество Шекспира.
В конце II раздела Эйзенштейн подчеркнул глагольный, действенный характер метафор, использованных К. С. Станиславским при работе над этюдом по пьесе Г. Ибсена «Бранд». Разработке этого вопроса посвящены два больших отрывка, названных соответственно «Глагольность метафоры 554 у Гете» и «К вопросу о глагольности метафоры у Гете. Метафора у Шекспира».
81 … его превосходит разве что Леонардо да Винчи в приведенных отрывках… — См. прим. 74.
82 «Отказному движению» (термин заимствован у В. Э. Мейерхольда) Эйзенштейн посвятил ряд лекций во ВГИКе, а также специальную главу в учебнике «Режиссура», где давалось следующее определение: «То движение, которое вы, желая двинуться в одну сторону, предварительно производите в направлении противоположном (частично или целиком), в практике сценического движения называется движением “отказа”» (рукопись хранится в архиве П. М. Аташевой).
83 По Эдгар Аллан (1809 – 1849) — американский писатель-новеллист.
84 Керженцев Платон Михайлович (1881 – 1940) — председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР (с 1936 г.), публицист и историк.
85 … эти строчки попадают в область золотого сечения отрывка… — «Золотое сечение» («гармоническое деление», «деление в крайнем и среднем отношении») — деление целого на такие две неравные части, при котором большая часть так относится к меньшей, как целое относится к большей части.
В архиве сохранились наброски, свидетельствующие о том, что Эйзенштейн собирался остановиться в «Монтаже» на проблеме ритмической композиции произведения и роли в ней «золотого сечения».
Впоследствии эта проблема заняла важное место в статье «О строении вещей» (см. том III настоящего издания).
86 … я подробно говорил в своем докладе в Сорбонне… — См. том I настоящего издания. Выступление Эйзенштейна в Сорбоннском университете в Париже в 1930 г.
87 … в моей программе курса режиссура 1935 года. — Очевидно, имеется в виду «Программа преподавания теории и практики режиссуры», опубликованная впервые в 1936 г. (см. настоящий том, стр. 131 – 155).
88 … «явление тонфильма народу» — парафраз названия картины А. А. Иванова «Явление Христа народу».
89 … ученой маски — Полонского доктора. — Одна из масок итальянской комедии дель арте. Прототипом ее были ученые-юристы Болонского университета, бывшего когда-то центром европейской юриспруденции. К XVI в. он превратился в цитадель схоластики, ремесленничества и праздного пустословия.
90 «Серая тень» («Серый дух»), «Дом ненависти», «Тайны Нью-Йорка» — ранние американские «боевики», в основном приключенческого жанра. Перл Уайт — американская актриса эпохи немого кино, героиня приключенческих фильмов.
91 … достойной львиной головы «Метро-Голдвин-Майера». — Изображение петуха было маркой фирмы французского кинопромышленника и прокатчика Шарля Пате, рычащий лев в кольце — марка крупнейшей голливудской фирмы Метро-Голдвин-Майер.
92 В рукописи пропуск, но цитата не приведена. В «Постскриптуме» к статье «О строении вещей», опубликованной в журн. «Искусство кино» (№ 6 за 1939 год, стр. 16), Эйзенштейн так цитировал брошюру В. Шкловского: «На внешнюю парадоксальность и неожиданность того обстоятельства, 555 что у меня из эксцентрического театра родилось патетическое кино, давно еще указывал В. Шкловский. Он писал:
“… Для создания героического стиля Эйзенштейна нужно было, чтобы Эйзенштейн прошел через монтаж эксцентрических аттракционов…”
И проиронизировал, пародируя евгенику:
“… Если бы был заказан какому-нибудь человековеду Пушкин, то вряд ли человековед догадался, что для того, чтобы получить Пушкина, хорошо выписать дедушку из Абиссинии…”» (В. Шкловский, «Их настоящее», М., 1927, стр. 69).
93 Недостаток внимания… ко многим ошибкам политического порядка. — Такая оценка «Октября» самим Эйзенштейном вызвана, несомненно, точкой зрения на фильм, господствовавшей в конце 30-х гг. В обстановке, порожденной усиливавшимся влиянием культа личности, в критике утвердился зачастую вульгарный, неверный подход ко многим явлениям искусства, и в частности к ранним фильмам Эйзенштейна. Впоследствии Эйзенштейн не раз возвращался к характеристике «Октября», заново оценивая место этого фильма в собственном творчестве и его вклад в киноискусство (см., например, в томе 1 «Автобиографические записки»).
94 Центон — Сохранился фрагмент рукописи, озаглавленный «Центон» и примыкающий ко II разделу. Эйзенштейн, в частности, пишет: «Еще ближе к монтажу… вид поэтического курьеза, так называемый центон. В основе его — интересный метод сопоставления фрагментов, изъятых из различных ансамблей с целью нового осмысления их. По существу, такими “кино-центонами” являются замечательные фильмы Эсфири Шуб».
95 Майзель Эдмунд — немецкий композитор, написавший в 20-х гг. музыку к фильмам «Броненосец “Потемкин”» и «Октябрь».
96 (для ряда рядом стоящих кадров… прил[ожения] №…) — Эйзенштейн намеревался использовать как приложение к «Монтажу» свою статью «“Э!” О чистоте киноязыка».
97 Здесь мы не вдаемся… отдельного исследования. — Образность актерского исполнения — одна из основных проблем эйзенштейновского курса лекций во ВГИКе, на основе которого писался учебник «Режиссура».
98 Рутман Вальтер (1888 – 1942) — режиссер немецкого документального кино, наиболее известным фильмом которого является «Берлин, симфония большого города» (1927).
99 Это было не обобщение ритма… пластическим обобщающим образом. — Два года спустя после работы над «Монтажом» Эйзенштейн практически подтвердил этот тезис эпизодом «У Вороньего камня» в фильме «Александр Невский». Дальнейшее теоретическое развитие тезис получил в третьей статье «Вертикального монтажа» (см. наст. том, стр. 235 – 266).
100 Обобщение выходит… линию движения музыки. — Этот вывод подробно обоснован в «Вертикальном монтаже» и разработан затем в книге «Неравнодушная природа» (том III настоящего издания).
101 Каменский Василий Васильевич (1884 – 1961) — советский поэт; в дореволюционное время — один из лидеров русского футуризма.
102 Гильбер Иветта (1867 – 1948) — французская эстрадная певица, автор мемуаров «La chanson de ma vie», «Mes lettres d’amour». Свою встречу с И. Гильбер Эйзенштейн описывает в «Автобиографических записках» (см. том I, стр. 379 – 382).
103 … писал еще Дидро. — Цитата в рукописи не приведена. Вероятно, Эйзенштейн имел в виду следующие высказывания в «Племяннике Рамо» 556 Дидро: «Что же служит образцом для композитора или певца? Речь, если этот образец — живой и мыслящий, шум, если это — образец неодушевленный. Речь следует рассматривать как одну линию, а пение — как другую, извивающуюся вокруг первой. Чем сильнее и правдивее будет речь, прообраз пения, тем в большем количестве точек ее пересечет напев… Нет ничего более бесспорного, чем следующие слова, которые я где-то прочел: “интонация есть питомник мелодии”». (Дени Дидро, Монахиня, Племянник Рамо, Жак-фаталист, М., Гослитиздат, 1961, стр. 257 – 258).
104 … обобщения явления. — В этом месте в рукописи сделана пометка: «Цитировать “За кадром”».
105 … но просто грамотном тонфильме! — На этом обрывается рукопись вводной части третьего раздела. Судя по заметкам и наброскам 1937 г., основная часть раздела, в которой анализ «целиком погрузился вовнутрь третьего звукозрительного этапа кинематографии», вошла впоследствии как материал в исследования «Вертикальный монтаж» и «Неравнодушная природа».
106 … только цветное кино… — Далее в рукописи следует обстоятельный анализ законов «соизмеримости» звука и цвета в кино. Материал этот был впоследствии дополнен Эйзенштейном и стал основой первых двух статей исследования «Вертикальный монтаж». Стереоскопическому кино Эйзенштейн посвятил специальную статью, которая публикуется в III томе настоящего издания.
107 … которым мы уже пользовались. — В рукописи Эйзенштейном сделана пометка: «Пройти по оригиналу и использовать Гачева о Дидро (стр. 155 – 156 – 157 – 158)». Однако цитата из «Третьего диалога» книги Д. Дидро «Побочный сын» в рукопись вставлена не была. Д. Гачев — советский литературовед, автор книги «Эстетические взгляды Дидро», М., ГИХЛ, 1936.
108 Известно же, что принцип «золотого сечения»… роста, органических тел природы. — Это положение развито Эйзенштейном в статье «О строении вещей».
109 Гропиус Вальтер (р. 1883) — немецкий архитектор; в 1918 г. основал художественно-промышленную школу «Баухауз» — один из центров европейского конструктивизма.
110 Калмыков Бетал Эдыгович (1893 – 1940) — один из организаторов Советской власти в Кабардино-Балкарии, первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б).
111 Пиранези Джиованни Баттиста (1720 – 1778) — итальянский гравер и архитектор.
112 Термы Каракаллы — знаменитая постройка, осуществленная в III в. н. э., во времена правления римского императора Каракаллы. Термы — первоначально источники горячей воды, где были сооружены бани. Позднее, во времена римских императоров, термы превратились в обширные общественные сооружения, в которых кроме бань были места для прогулок, гимнастические залы, библиотеки, художественные галереи.
113 «Кино-глаз» и «Радио-ухо» — теоретические концепции школы советского кинодокументалиста Дзиги Вертова. На первых порах «киноки» считали главной задачей кинематографа фиксировать «жизнь врасплох», не искажая ее придуманной фабулой, участием актеров и т. д.
114 … см. мою статью 1925 г. «К вопросу диалектики киноформы». — Эйзенштейн неточно называет здесь свою статью «К вопросу о материалистическом 557 подходе к форме» («Кино-журнал АРК», М., 1925, № 4 – 5, стр. 5 – 8).
115 … «киноинтеллект» как динамический процесс функции этого мозга. — Имеется в виду теория интеллектуального кино, изложенная Эйзенштейном в 1929 г. в статье «Перспективы» (см. настоящий том).
116 … горящее эмоциями «киносердце» (под пластинку… музыкальной комедии). — Подразумевается теория эмоционального сценария. Эйзенштейн иронически сравнивает с ней популярную в те годы песенку И. О. Дунаевского на слова В. И. Лебедева-Кумача «Сердце, тебе не хочется покоя…» из музыкальной комедии Г. В. Александрова «Веселые ребята» (1933).
117 При этом еще внутренней! — См. в настоящем томе статью «Одолжайтесь!» и комментарии к ней.
118 Дидерот — характерное для XVIII в. русское произношение фамилии Дени Дидро (фр. Diderot).
119 … Лютер, стрелявший чернильницами по чертям и переводами Библии по… папам. — Лютер Мартин (1483 – 1546) — видный деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии. Будучи представителем бюргерства, выступал за известную демократизацию церкви, против ряда догматов католичества. Перевод Лютером Библии на немецкий язык (1521 – 1534) был одним из актов Реформации, направленным против папского запрета отступать от канонического латинского текста Библии. Протестантизм отказывается от рационального обоснования веры в бога, утверждая, что вера вложена богом в человека при рождении. Очевидно, для того чтобы доказать несокрушимость этой веры, Лютер рассказывал, якобы его самого посещал черт, искушавший его вопросами и сомнениями. Когда Лютер исчерпал все доводы в пользу бога, он швырнул в черта чернильницей.
120 Улицы — наши кисти, площади — наши палитры. — Из стихотворения В. В. Маяковского «Приказ по армии искусств» (Полн. собр. соч. в 13 томах. М., 1956, т. 2).
121 И вот над методикой чего уже в течение ряда лет я учебно работаю. — Эйзенштейн имеет в виду свою педагогическую деятельность во ВГИКе и работу над учебником «Режиссура». Одна из особенностей метода Эйзенштейна-педагога заключалась в так называемом «замедленном творческом процессе» — тщательном разборе со студентами каждой детали общей композиции произведения.
558 Указатель имен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
Аксенов И. А. — 67, 308, 376, 497, 550
Александр Македонский — 280, 532, 533
Александров Г. В. — 192, 316, 328, 504, 517, 519, 531, 535, 540, 541, 543, 557
Аллен Д. — 219
Амори граф (Рапгоф И. П.) — 91, 502
Анненков Ю. П. — 208, 209, 520
Анри-Кристоф — 496
Аристотель — 143, 302, 511, 537
Арнхейм Р. — 540
Аташева П. М. — 487, 537, 540, 541, 554
Байдуков Г. Ф. — 367
Балаш Б. — 274 – 279, 529, 530, 531
Бальзак О. — 67, 107, 108, 137, 225, 242, 286, 308, 309, 310, 339, 396, 539, 551
Бальмонт К. Д. — 184, 424, 516
Баррес М. — 211
Бауманн Г. — 224
Бах И.-С. — 238, 239, 310, 466, 467, 481, 523
Белинский В. Г. — 484
Беляков А. В. — 367
Бетховен Л. — 48
Бехтерев В. М. — 143, 491, 492, 511, 512
Бечче — 459
Бизе Р. — 77
Билль-Белоцерковский В. Н. — 533
Бодлер Ш. — 402
Брехт Б. — 513
Брешко-Брешковский Н. Н. — 91, 502
Бриан А. — 491
Бэлза И. Ф. — 501
Вагнер Р. — 200, 207, 211, 266, 310, 518, 519, 520, 521, 539, 552
Ван-Гог В. — 221, 243, 352, 521
Васильевы Г. Н. и С. Д. — 411
Ватто А. — 254, 396, 416, 431, 524, 551
Вейсман Е. — 300, 301, 302, 303, 536, 537
Веласкес Д. — 309, 310, 388, 539
Вертов Д. — 58, 455, 494, 531, 535, 537, 556
Вессен М. — 224
Виллат Ц. — 223
Вилумсен — 211
Водопьянов М. В. — 367
Гачев Д. — 556
Гегель Г. — 58, 106, 107, 109, 433, 505
Ге-Дай — 285
Гете И.-В. — 65, 107, 225, 231, 232, 308, 330, 368, 497, 505, 518, 521, 539, 550, 554
Глизер Ю. С. — 497
Гоген П. — 215, 359, 360, 520, 549
Гоголь Н. В. — 65, 67, 84, 92, 116, 117, 137, 207, 218, 243, 310, 366, 367, 410, 495, 497, 498, 501, 523, 538
Голейзовский К. Я. — 533
Гольдони К. — 362
Горький А. М. — 36, 67, 69, 81, 83, 92, 107, 170, 228, 230, 310, 329, 397, 491, 498, 500, 505, 539
Го-Син — 285
Гофман Э.-Т.-А. — 77, 237, 499
Грасиоле Л. — 143, 357, 384, 511
Грибоедов А. С. — 185, 186, 187, 361, 516
Григорьев В. — 392
Гриффит Д. — 70, 279, 327, 495, 498, 530, 532, 545
Гюго В. — 63, 107, 108, 184, 344
Данте — 293
Дебюсси К. — 47, 48, 50, 234, 493, 523
Дейтчбейн М. — 202
Делакруа Э. — 242, 351, 416, 523
Демуцкий Д. П. — 501
Джойс Д. — 68, 77, 78, 495, 498, 499,
Дидро Д. — 200, 227, 355, 461, 462, 466, 477, 480, 481, 519, 522, 555, 556, 557
Диккенс Ч. — 239, 495, 498, 527, 530, 545
Динамов С. С. — 75, 93, 95, 97, 105, 125, 130, 499, 504
Добролюбов Н. А. — 469
Добужинский М. В. — 405, 406, 408, 552
Довженко А. П. — 84, 470, 501, 535, 537, 553
Домье О. — 68, 286, 351, 379, 380, 394, 396, 404, 498, 551
Дорошевич В. М. — 553
Достоевский Ф. М. — 67, 310, 501, 538
Драйзер Т. — 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 101, 494, 498, 499, 505
Дюма А. (отец) — 62, 63, 64, 65, 67, 240, 495
Дюпон Э.-А. — 530
Дютюи Д. — 359
Дюшен Г.-Б. — 143, 397, 511, 551
Екатерина II – 470
Ермолова М. Н. — 376, 377, 378, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 388, 392, 409, 546, 547
Есенин С. А. — 184, 221, 222, 223, 521, 553
Жирмунский В. М. — 183, 184, 512, 516
Зархи Н. А. — 67, 102, 497, 498
Золя Э. — 68, 85, 137, 229, 308, 309, 310, 498, 501, 539
Иванов А. А. — 191, 254, 391, 431, 518, 519, 554
Кальвин Ж. — 73
Каменский В. В. — 465, 466, 555
Кандинский В. В. — 213, 215, 520
Кант Э. — 368
Каракалла, римский император — 478, 556
Карер — 211
Кассирер Э. — 37
Кастель П. — 200
Керенский А. Ф. — 97, 471, 499
Кивилевич — 276
Кино Ф. — 461
561 Козинцев Г. М. — 126, 507, 553
Колумб Х. — 363
Конштамм — 143
Корбюзье, Ле — 123, 478, 479, 506
Крукенберг — 143
Крылов И. А. — 240
Ксакроф Л. — 466
Кублицкая-Пиоттух А. А. — 201
Кулешов Л. В. — 95, 289, 513, 515, 531, 535
Кульганек — 276
Лапшин И. И. — 415
Леви Э. — 349
Ленин В. И. — 58, 62, 124, 126, 127, 131, 132, 133, 137, 138, 307, 308, 386, 509, 513
Леонардо да Винчи — 157, 167, 169, 171, 172, 189, 190, 191, 207, 208, 242, 391, 401, 426, 427, 428, 433, 516, 518, 546, 553, 554
Лессинг Г. — 143, 429, 430, 431, 432, 433, 457, 511, 553
Лист Ф. — 415
Лондон К. — 459
Луи-Филипп, франц. король — 64, 496, 497
Людовик XI, франц. король — 389
Люмьер Л. — 430
Майзель Э. — 458, 459, 460, 555
Мандельштам И. — 116
Мария-Антуанетта, франц. королева — 85, 230, 502, 522
Маркс К. — 106, 137, 171, 229, 478, 490, 509, 510, 539
Марр Н. Я. — 123, 147, 220, 506
Мартинец Г. — 210
Маяковский В. В. — 92, 184, 187, 188, 189, 518, 525, 527, 553, 557
Мейер-Греффе — 211
Мейерхольд В. Э. — 44, 134, 436, 509, 510, 521, 527, 532, 533, 537, 547, 548, 554
Меллер — 274
Мемлинг Г. — 253, 396, 523, 551
Меншиков А. Д. — 389, 390, 416
Мерсье Л. — 85
Микеланджело — 242, 243, 286, 396, 397, 523
Минин К. — 426
Мозжухин И. И. — 515
Мопассан, де Г. — 137, 164, 165, 166, 171, 172, 515
Нанде Г. — 334
Наполеон I – 63, 360, 361, 371, 372, 389, 496
Наполеон III – 310, 311, 478, 539
Наполеон, принц — 539
Островский А. Н. — 269, 346, 426, 454, 464, 501, 525, 527, 528, 532, 533
Павлова А. П. — 385
Патридж Е. — 224
Петр I – 180, 181, 182, 183, 186, 356, 450, 516
Пеше — 64
Пикассо П. — 220, 221, 321, 377, 521, 551
Пиранези Д. — 243, 479, 523, 556
Плетнер О. — 286
Плеханов Г. В. — 36, 37, 38, 39, 109, 196, 302, 465, 489, 491
Поп А. — 432
Потемкин Г. А. — 470
Преображенский А. — 38
Принцхорн — 143
Прокофьев С. С. — 236
Пудовкин В. И. — 95, 192, 290, 316, 490, 493, 498, 517, 519, 535, 536, 540, 541, 553
Пушкин А. С. — 92, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 240, 256, 307 – 311, 330, 358, 359, 384, 389, 408, 433, 434, 435, 437, 439, 450, 495, 498, 516, 518, 538, 546, 555
Радлов Н. Э. — 392
Расин Ж. — 460
Рембо А. — 201, 212, 228, 229, 230, 231, 519
Рембрандт — 219, 242, 310, 521
Репин И. Е. — 310, 384, 388, 390, 391, 392, 416, 425, 464, 547, 551
Римский-Корсаков Н. А. — 211, 415, 520
Роден О. — 254, 396, 397, 415, 430, 524
Сабанеев Л. — 400, 414, 467, 470
Саймондз — 202
Сезанн П. — 243, 351, 352, 523
Селевк — 84
Серов В. А. — 181, 310, 376, 377, 381, 382, 384, 385, 388, 390, 392, 397, 431, 516, 538, 546, 547
Сиоцио — 295
Скрябин А. Н. — 47, 48, 50, 51, 200, 399, 400, 415, 493, 519
Смышляев В. С. — 269, 270, 527
Спенс — 432
Станиславский К. С. — 138, 333, 361, 369, 376, 381, 384, 409, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 428, 429, 433, 469, 483, 516, 537, 547, 548, 553
Степанчикова — 276
Суворов А. В. — 390
Суриков В. И. — 388, 389, 391, 439, 547
Тинторетто — 379, 380, 394, 396, 551
Тит, римский император — 230, 522
Толстой Л. Н. — 137, 161, 182, 239, 307, 308, 310, 358, 371, 384, 385, 388, 391, 392, 394, 416, 464, 472, 473, 512, 538, 539, 546
Тренин В. В. — 187
Тулуз-Лотрек А. — 68, 498, 499
Туссен-Лувертюр П.-Д. — 63, 101, 496
Удин, д’ Ж. — 143, 233, 234, 511
Уитмен У. — 423, 424, 425, 428
Фалья М. — 210
Федин К. А. — 170
Фейхтвангер Л. — 240, 359, 549
Фере Ч. — 231
Флобер Г. — 127, 137, 310, 507, 538
Франциск I, французский король — 223
Хемингуэй Э. — 307
Хитомаро — 286
Чаплин Ч. — 166, 271, 489, 510
Чемберлен Б. — 202
Честертон Ж. — 412
Чианг Йи — 350
Чиаурели М. Э. — 504
Чкалов В. П. — 367
Шапошников Г. В. — 401
Швейцер А. — 238
Шекспир В. — 105, 184, 208, 308, 310, 385, 520, 551, 553, 554
Шкловский В. Б. — 67, 408, 455, 497, 506, 512, 554, 555
Шлезингер М. — 211
Штраух М. М. — 67, 497, 528, 531
Шуб. Э. И. — 555
Шуман Р. — 237
Эйнштейн А. — 49
Эль-Греко — 208, 209, 210, 211, 388, 520, 546, 551
Энгель И. — 143, 357, 384, 512
Энгельс Ф. — 73, 117, 119, 120, 137, 142, 171, 308, 309, 335, 386, 509, 510, 512, 539, 549, 551
Эрмлер Ф. М. — 130, 504, 505, 507
Юсупова — 382
Юткевич С. И. — 100, 102, 126, 127, 129, 504, 505
Ястребцев В. В. — 211
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* — само по себе (нем.).
2* Откуда неразрывность в немецком языке «können» — мочь и «erkennen» — познавать. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
3* В черновом автографе сноска: «Тут имеет место такая же дезиндивидуализация характера категории ощущения, как, напр[имер], при другом “психологическом” феномене: при ощущении наслаждения, возникающем от чрезмерного страдания (до известной степени всем знакомое ощущение). О нем пишет Штеккель4: “Боль при аффективном перенапряжении перестает восприниматься как боль, а ощущается лишь как нервное напряжение… Всякое же сильное напряжение нервов оказывает тонизирующее действие. Повышение же тонуса вызывает чувство удовольствия и наслаждения”».
4* Soft — мягкий (англ.).
5* От «идентичный» (лат. identicus).
6* Далее в тексте зачеркнуто: Наиболее сложным и захватывающим типом построения последней категории будет случай, когда не только учтен конфликт кусков, как физиологических комплексов «звучания», но когда соблюдена еще возможность отдельным слагающим его раздражителям сверх того вступать с соответствующими раздражителями соседних кусков в самостоятельные конфликтные взаимоотношения.
Тогда мы получаем своеобразную полифонию. Своеобразный оркестр, органически сплетающий самостоятельные партии отдельных инструментов, проводящих свои линии сквозь общий комплекс оркестрового звучания.
В наиболее удачных разрешениях «Генеральной линии» местами этого удалось достигнуть (например, часть вторая и особенно в ней «крестный ход»).
7* От лат. dis-seco — рассекать, разрезать.
8* — «Странная интерлюдия» (англ.).
9* На значение Джойса для кино я обращал внимание в журнале «На литературном посту»49, еще задолго до поездок по Европе и Америке. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
10* В авторском подлиннике далее зачеркнуто: Однако мистер Шульберг «Би-Пи» совместно с Вашингтоном «Ди Си» (дистрикт Колумбия) не дали «красным собакам» (официальная наша кличка в фашистских кругах) все это воплотить на экране, бросить «чудовищный вызов» американскому обществу и реализовать эту продвижку культуры тонфильма на 180° вперед… Мы разошлись как в море корабли…
11* — «русская резка» (нем., англ.).
12* — «салат по-русски» (франц.).
13* — объявят (франц.).
14* Античный философ I века до нашей эры. (Прим. С. М. Эйзенштейна.)
15* Восстанавливается по стенограмме.
16* Подъем Керенского по лестнице, «боги» и еще кое-что. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
17* В силу тенденциозности своих композиционных установок они так и остались неосуществленными в Америке, о чем вы все знаете. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
18* Восстанавливается по стенограмме.
19* Далее (до стр. 121) публикуемый текст доклада по сравнению со стенограммой значительно расширен и переработан; в стенограмму, правленную Эйзенштейном, вложены листы, заново написанные его рукой.
20* Последнее положение отнюдь не ново. И Гегель и Плеханов в равной мере говорят о чувственном мышлении. Новым здесь является конструктивное распознавание закономерностей этого самого чувственного мышления, во что классики не вдавались. Между тем без этого никакого оперативного приложения этих самых утверждений к художественной практике и обучению мастерству сделано быть не может. Излагаемые далее соображения, материалы и анализы как раз эту оперативную цель практического использования себе и ставят. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
21* Не следует эту фразу понимать вульгарно, как механический «перевод» заданного лозунга в образ произведения! Процесс творчества идет с «обоих концов», но взаимосвязь между формулировкой и образом на одну и ту же тему именно такова, как я излагаю ниже. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
22* — часть вместо целого (лат.).
23* Большое мастерство, достигнутое в этой последней области нашей немой кинематографией, в значительной степени упало с момента перехода на звуковое кино, как об этом свидетельствует большинство наших звуковых фильмов. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
24* Хотя известны и такие эпизоды: вспомним хотя бы ребят на «Чапаеве», стрелявших из рогаток по наступающим на экране (!!) каппелевцам. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
25* Остановиться. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
26* Разницей обоих случаев здесь будет то, что детали походки и выбранные движения, как бы они изысканны ни были, у подлинного мастера всегда будут вместе с тем и проводником обобщенного содержания того, что он в частном воплощении производит. Особенно тогда, когда от простого «приближения» его задачей будет сложное воссоздание игрой психологических состояний. Без этого невозможны ни типическое, ни реализм. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
27* По этому пункту помимо монографического анализа предусматривается и живой обмен опытом путем личных докладов-выступлений соответствующих мастеров. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
28* Рекомендуется присутствие студентов других факультетов на всех этапах работы, но непосредственно творческое соучастие их предусматривается на указанных этапах. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
29* Ниже увидим, что этот же динамический принцип лежит на основе подлинно живых образов, такого, казалось бы, неподвижного и статического искусства, как, например, живопись. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
30* Совершенно очевидно, что тема как таковая способна волновать и независимо от того, в каком виде она подана. Короткое газетное сообщение о победе республиканцев под Гвадалахарой14 волнует больше, чем средствами искусства доводить уже «в себе» волнующую тему или сюжет до максимальных степеней воздействия. При этом совершенно также очевидно, что на этом поприще монтаж как таковой вовсе не исчерпывающее, хотя и очень могучее средство. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
31* «Гостиница Адре» (франц.).
32* — «Желтые смешки» (франц.), в переносном смысле — кислые улыбки.
33* В рукописи Эйзенштейна далее следует текст с примерами из творчества И. А. Крылова и романа «Лже-Нерон» Фейхтвангера; этот текст в окончательную редакцию не вошел.
34* Точную «реконструкцию» накатов, ударов и откатов волны сквозь этот отрывок я даю в другом месте. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
35* «Равноправных» в том смысле, что они сюжетно могут стоять в любой последовательности. Именно таковы те двенадцать кусков «сцены ожидания», которую мы разработаем дальше. Чисто сюжетно и повествовательно-информационно все эти кадры могли бы стоять в любом порядке. Данное же сорасположение их — и, как увидим, достаточно строго закономерное — обусловлено чисто выразительными и эмоционально-композиционными задачами. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
36* Вспомним, что о нем пишет Гоголь: «… Микеланджело, у которого тело служило для того, чтобы показать одну силу души, ее страдания, ее вопль, ее грозные явления, у которого пластика погибла, контура человека приобретала исполинский размер, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у которого являлся не человек, но только — его страсти…» (Прим. С. М. Эйзенштейна).
37* Мелодически ощущение «падения» достигнуто скачком от H до Gis. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
38* Например, для куска III это будет восходящий тремолирующий ход виолончелей гаммой до-минор (G-moll). (Прим. С. М. Эйзенштейна).
39* Разная графическая длина тактов (например, 10 и 12) никакого «смыслового» значения не имеет. Также и несоответствие масштаба внутри кадров (одна четверть, три четверти и т. д.). Эти обстоятельства вызваны чисто графическими условиями начертания схемы. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
40* В рукописи Эйзенштейна здесь следует текст «о подаче трех элементов» в японской эстетике с цитированием ряда источников; в окончательную редакцию этот текст не вошел.
41* От legato (ит.) — связанный; в данном случае то же, что и связующие.
42* Интересующихся отправляем к номерам 1 и 2 — пространному докладу наиболее уважаемого немецкого оператора Карла Фрейнда3 («Варьете», «Метрополис») о целях и задачах клуба. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
43* О старом литературном периоде подробно см. [статью] «Взревевшие львы». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
44* — в полном составе (лат.).
45* Эпатаж — от слова «эпатировать», то есть удивлять, ошеломлять.
46* «Лупа времени» (нем.) — метод ускоренной съемки.
47* Так в тексте.
48* Этому обстоятельству даже посвящен ряд теоретических догадок. Начиная, например, с Аксенова — о неполноте сохранившейся трагедии. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
49* Рабочая помета Эйзенштейна: «Цитату из Энгельса о допустимости изоляции в целях изучения».
50* — наоборот (лат.).
51* Как интересно, например, в деталях размежевать, чему учиться у Репина в отличие от Серова. Чему учиться у Баха в отличие от Вагнера. У Бена Джонсона в отличие от Шекспира. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
52* Игра слов, связанная со сходством звучания этих слов на французском языке: Livres d’heures — Часословы, hors-d’oeuvre — закуски. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
53* — «более роялистский, чем сам король» (франц.).
54* Граммофонная пластинка, которая тоже является увековеченной динамической формой, теперь должна быть рассмотрена как часть фильма. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
55* Реконструкция и изменение всех ныне существующих кинотеатров для приспособления их к новой форме экрана (безотносительно к художественному качеству, полученному в результате изменения формы) по подсчетам экспертов Академии кинематографии стоили бы около 40 000 000 долларов. Но технический гений нашел выход в виде съемки сперва на 65-миллиметровой негативной пленке с последующим уменьшением размера изображения и размещением его по желанию в рамках 35-миллиметровой позитивной пленки. При этом не вся поверхность пленки нормального размера будет заполнена в связи с иными ее пропорциями. И, наконец, — проекция изображения на экране при помощи увеличивающих изображение линз увеличивает его размеры и изменяет пропорции в соответствии с размером стены кинотеатра. Та же процедура годилась бы и для вертикальной композиции, которая путем небольшого изменения горизонтальной линии, сохраняя свою вертикальность, затем (при уменьшении) не превысила бы размеры обычного экрана.
Остается оплакивать только частичную и почти не ощутимую потерю границ вертикально скомпонованных кадров, причем плакать будут только зрители, сидящие на самых худших местах балкона и партера, но даже и для них потеря будет совсем невелика. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
56* «Король умер… — да здравствует король!» (франц.).
57* — «Мое стремление — это воплощение идей» (нем.).
58* — обзор прошлого и взгляд на будущее (нем.).
59* — С первого взгляда (франц.).
60* — «Только тот, кто не надеется, что его будут когда-нибудь цитировать, не цитирует никого» (Габриэль Нанде) (франц.).
61* Разве не примечательно, что в санскрите для обозначения великолепного и прекрасного (в смысле французского admirable) взято определение darsaniya, что дословно означает «легко поддающееся рассматриванию» («easy to look at» в переводе [на английский]). (Прим. С. М. Эйзенштейна).
62* Такой задачей киноформы в большинстве последних картин стоит вопрос освоения актерской киноигры и создание человеческого образа на экране. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
63* — 75 000 метров.
64* Полной картине процесса последовательного создания мизансцены на основании трактовки вещи и образов действующих лиц и пр. я отвожу целую книгу, имеющую выйти в изд-ве «Искусство»12. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
65* В этом месте в рукописи сделана пометка: «См. разбор Акрополя». Однако в основном тексте исследования этот разбор отсутствует. Сохранилась вставка к «Монтажу», озаглавленная «Монтаж и архитектура», в которой Эйзенштейн приводит «пример Акрополя»:
«… Живопись оставалась беспомощной в закреплении полной картины явлени[я] во всей его пластической многосторонности (нюансов и образцов этих попыток имеется грандиозное множество). На плоскости эту задачу разрешил лишь киноаппарат. Но его несомненным предком по этой линии является… архитектура. Совершеннейшие образцы расчета кадра, смены кадров и даже метраж (то есть длительность определенного впечатления) нам оставили греки. Виктор Гюго назвал средневековые соборы каменными книгами. (См. “Собор Парижской богоматери”). С таким же правом афинский Акрополь является совершеннейшим образцом одного из древнейших фильмов. […]
Для внутренних архитектурных произведений можно было бы привести более “прямолинейные” примеры и из других страниц истории архитектуры. Возносящуюся систему сводов Айя-Софии, которые шаг за шагом раскрывают свой объем и великолепие. Или игру аркад и сводов Шартрского собора, рассчитанную магию монтажной последовательности, кои я сам переживал неоднократно.
Эти примеры не только связывают монтажную форму с архитектурой — они отлично подчеркивают еще и более близкую связь монтажа — мизанкадра — непосредственно с мизансценой. Это один из краеугольных камней, без которого не может быть не только отчетливого понимания обеих областей, но еще тем более планомерного обучения монтажному искусству. (См. ниже соответствующее приложение, которое пропущено при непосредственном переходе во второй раздел.)»
66* — Л. Биньон, Живопись Дальнего Востока, Лондон, 1923: «Главной традицией живописи Азии всегда было искусство линии…» (англ.).
67* — «… То же подразумевают и индийские авторитеты, напоминающие нам, что мастера интересует линия, тогда как публику больше интересует цвет…» (англ.).
68* — Чианг Йи в «Китайском глазе» (стр. 99) (англ.).
69* — «Художники “литературной” школы не рассматривают в ландшафте дерево за деревом, камень за камнем, не зарисовывают каждую представившуюся их глазу деталь кистью и чернилами; они должны свыкаться с пейзажем месяцами, годами, не видя еще в нем ничего, достойного быть увековеченным. И вот наступает миг просветления, они смотрят на воду и те же скалы и начинают понимать, что перед ними обнаженная “реальность”, не заслоненная Тенью Жизни. Они тут же должны взяться за кисть и написать “костяк” таким, каков он есть, в его реальной форме; в деталях нет необходимости…» (стр. 99) (англ.).
70* — само по себе (нем.).
71* — по преимуществу (франц.).
72* — Фриц Бургер, Сезанн и Годлер, 5-е издание, 1923, стр. 166: «… Делакруа… и Сезанн пишут пространство, картину, но не упускают из виду объединяющую воображаемую границу цветовых пятен. Это только контуры. Сезанн взял это также от Делакруа…
… Уже Домье умел пользоваться контурной линией, для него она была тем инструментом, на котором… этот виртуоз, выбивавший ударом кулака свет из мрака, разыгрывал свои дикие, страстные каденции… Его то светлые, то темные, всегда разграниченные, живые, беспокойные контуры сводят все части картины в одно целое. Но он меньше всего думает об их выразительности, не обращает внимания на их последовательность, на законы, которым подчинена картина. Контур для него — жест, а не изначальный образ. В этом он отличен от Сезанна. Для того контуры — цвет, участвующий в смене красок.
… Но этот контур не самодовлеющ. Он всюду и нигде — послушный слуга целого, как и рисунок его картины, которого мы напрасно станем доискиваться» (нем.).
73* — «по его собственным словам, живопись и рисунок едины и тождественны: “Рисунок и цвет нераздельны… в работе, достигая гармонии красок, уточняешь и рисунок…”» (Фриц Бургер, Сезанн и Годлер, 5-е издание, 1923, стр. 166) (нем., франц.).
74* Совершенно очевидно, что в другом случае эта же «раздавленность» будет относиться к композиции позы, в которой вам может понадобиться разместить человека, сломленного ударами судьбы. Композиционно образный путь и метод останется тем же. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
75* — «… Что подразумеваете Вы под этими понятиями? Я отвечу, что они присущи какому-либо одному чувству, например, осязанию, и одновременно метафоричны по отношению к другому чувству, например, зрению. Поэтому тот, с кем говорят, получает познание двойное — познание в истинном и прямом смысле слова и познание, отраженное метафорой…» («Письмо о слепых тем, кто видит») (франц.).
76* С таким же успехом и в такой же установке на оркестре или словесном материале. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
77* Больше всего внимания ему уделяет Грасиоле, во многом его использовавший, хотя вскользь его упоминают и другие авторы — Darwin, Piderit etc. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
78* «Фиксирующий» — будет вернее. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
79* — «… Чтобы вызвать те же ощущения, линию модифицировали. С риском отказа от правдоподобия явлений, от изображения их такими, какими они представляются нашему глазу в каждодневной действительности, с риском пожертвовать точностью размеров они стремились раскрыть под телесной оболочкой внутреннюю сущность индивидуумов выявить то, что приближало их к обобщающему образу самой жизни…» (стр. 90) (англ.).
80* «… Существует картина, представляющая могилу Наполеона. На ней два больших дерева бросают тени. Больше на картине видеть нечего, и неискушенный зритель ничего другого и не увидит. Между двумя деревьями — пустое пространство; если следовать глазами за его контурами, внезапно из “ничто” выступает сам Наполеон, и теперь уже невозможно заставить его исчезнуть. Глаз, однажды увидевший, продолжает видеть его с какой-то устрашающей навязчивостью. То же и с репликами Сократа. Они воспринимаются так, как воспринимаются эти деревья, его слова значат то, что выражает их звук. Таким образом, как деревья есть деревья, и здесь нет ни одного слога, который дал бы повод для иного толкования, точно так же не существует ни одного штриха, рисующего Наполеона, а тем не менее это пустое пространство, это “ничто” и содержит в себе главную сущность» (С. Кьеркегор, Понятие об иронии, выведенное из внимательного изучения Сократа) (нем.).
81* К. С. Станиславский, Работа актера над собой, ч. 1. Собр. соч., т. 2, М., «Искусство», 1954, стр. 336 – 337. В подлиннике цитата приведена на английском языке по изданию C. Stanislavski, An actor prepares, New York, Theatre arts inc., 1936, 257, 258.
82* — «Хозяйка гостиницы» (итал.).
83* — право первой ночи (лат.).
84* — ловкий трюк (франц.).
85* — «Череп дона Фолиаса и негритенка» (исп.).
86* Биологически-семейные черты, а не династические элементы у короля Рима. «Труд», с которым они — полковник и несколько человеку — «вылезли» на берег, вместо «героической борьбы с водной стихией». «Обмокнувшее, со стекающими ручьями платье», вместо «героической осанки достигших берега». Правда, «восторженный» взгляд, но глядящий в… пустое место, где Наполеона «уже не было», и т. д. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
87* Напоминаю, что обобщенный контур изображения и его образная роль есть отнюдь не единственное, в чем воплощается эта обобщающе образная роль по отношению к изображению. С таким же успехом это может быть строй световой и в дальнейшем цветовой гаммы; или соотношение объемов и пространств, выражение актерского лица и т. д. и т. д. Для легкости орудования определением и для наибольшей наглядности графического воспроизведения в условиях книги я выбрал в основном именно этот графический частный случай. Но это отнюдь не значит, что он главный, исчерпывающий, единственный или всеобъемлющий. (Прим. С. М. Эйзенштейна.)
88* Тактично и в меру это может иногда работать превосходным впечатляющим фактором: так, например, бело-серо-черная световая гамма кино была прекрасно использована в свое время по линии своих ассоциаций Эрнстом Любичем, который в кинопостановке «Веер леди Уиндермиер»37 разверстал эту гамму по нравственным обликам своих героев («невинная» белая Мэй Мак Эвой, серый нейтральный персонаж и «черный» по облику, костюму и светообработке злодей).
Но этот метод таит в себе и опасности: довольно наивно прозвучали в «Becky Sharp»38 внезапно проступившие в мимолетном кадре красные бегущие плащи, когда поднимается паника при наступлении Бонапарта. Нарочитость умышленного «ввода» рвет ткань того, что было бы замечательно в условиях естественного «возникновения» в действии. (Прим. С. М. Эйзенштейна.)
89* В тексте пропуск.
90* Сейчас мы эту связь установили еще глубже, представив полную картину развития через все три звена: кадр — кадрик — монтаж. См. дальше — в следующем разделе. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
91* Или световой и цветовой гаммы, или игры планов и глубин между собой и т. д. и т. д. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
92* Показ элементов ABCD, в своей впечатляющей совокупности глубоко эмоциональных и образно различных в зависимости от того, будут ли они представлены в виде ADBC или CBDA. Подставьте для наглядности под них конкретные значения. Хотя бы А — судья, В — тело казненного, С — рыдающая жена, D — палач с секирой. Не говоря уже о всяческих построениях на «повторах», как, например, ADACAB в отличие от, скажем, BCBDBA или CACDCBC! (Прим. С. М. Эйзенштейна).
93* — вечно женственное (нем.).
94* В рукописи ошибочно указано — «сестре».
95* Здесь соблазнительно перекинуть мостик к конструктивистам. Но совпадение будет здесь неполным и недействительным. Конструктивисты эстетизировали и делали исчерпывающей темой произведения схемы физической конструкции материалов в большей степени, чем здесь разобранные примеры психологически образной конструкции явления. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
96* Текст рукописи обрывается на половине страницы. Следующий текст начинается с новой страницы.
97* — предельной (лат.).
98* — часть вместо целого (лат.).
99* Результату его работ по изучению частной деятельности каждой мышцы в отдельности мы обязаны фундаментальной для выразительного движения формулировке «L’action musculaire isolée n’est pas dans la nature» [«В природе нет изолированного мышечного сокращения»], (1858). (Прим. С. М. Эйзенштейна).
100* — «… Следовало бы заснять… смену эпох и сменяющиеся моды. И тогда перед нами развернулись бы захватывающие картины того, как в быстром беге платья удлиняются, укорачиваются и вновь вырастают в длину; как рукава набухают и спадают и снова становятся пышными; как шляпы уменьшаются и вырастают, то вытягиваясь вверх, то разрастаясь перьями, то теряя их, в то время как бюсты округляются и худеют, вызывающе рвутся вперед и скромно прячутся; талии скользят вверх и вниз, находя себе место где-то между бюстом и коленями; бока и крупы вырастают крутыми очертаниями; округлости животов то надвигаются, то отступают; “дессу” плотно прилегают и закипают пеной кружев; белье то виднеется, то его не видно; щеки округляются, вваливаются, они то бледны, то румяны, то снова бледны; волосы отращиваются и исчезают, и снова удлиняются, курчавятся и развиваются, и взбиваются, и зачесываются вверх, закручиваются в узел, распускаются, щетинятся гребнями и шпильками, и обходятся без них, и вновь к ним возвращаются; туфли прячут концы пальцев или обнажают их; сутаж узорами вьется по шерсти, но шелк побеждает шерсть, а шерсть побеждает шелк, тюль развевается, бархат ложится тяжелыми складками, стеклярус сверкает, играет атлас, а меха, скользя по платьям, обвивают шею, ниспадая и подымаясь по фигуре, охватывая ее в бешеных извивах зверя, с которого сдирают шкуру…» (Жан Кокто. «Портреты — воспоминания, 1900 – 1914», Париж, 1935, стр. 100 – 102) (франц.).
101* Без «выскока» в «космос». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
102* Не забудем, что монтажный кусок так же, в той же закономерности выстраивается и внутри самого себя, никак не являясь «вещью в себе», а элементом единой и общей концепции. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
103* К. С. Станиславский, Работа актера над собой, ч. 1. Собр. соч., т. 2, стр. 157. В подлиннике цитата приведена на английском языке по изданию: C. Stаnislavski, An aktor prepares, New York, Theatre arts, inc., 1936, pp. 110 – 111.
104* Режиссеры, безграмотные в искусстве мизансцены, в последние десятилетия стали прибегать к отвратительной «промежуточной» форме — к лучу прожектора, услужливо высвечивавшего нужные фигуры ансамбля в нужный момент. Край пятна прожектора работал как край обреза кадра. Но искусство мизансцены [состоит] в мастерстве столь же строго высекать нужное «поле внимания» зрителя, не прячась за художественно сомнительные средства. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
105* — подготовительной школе (нем.).
106* Я ни в коей мере не вхожу здесь ни критически, ни апологетически в оценку самого тезиса и в разборы вопроса «подсознательного» как такового или такого, каким его понимает система Станиславского. Мне здесь интересно проследить по другой области аналогичность того же метода, который имеет место в основе монтажа: путем сопоставления конкретных, контролируемых, производимых величин вызывать наличие «неуловимой», напр[имер] ощущение движения из двух неподвижных фотографий кадриков или двух монтажных кусков. Совершенно так же, как там живое реальное чувство в результате сопоставления придуманных обстоятельств. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
107* К. С. Станиславский, Работа актера над собой, ч. 1, Собр. соч. т. 2, стр. 226, 355. В подлиннике, как и раньше, цитаты приведены на английском языке по американскому изданию, стр. 166, 47.
108* К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 2, стр. 347, 355, 364; американское издание — стр. 264, 266, 276.
109* Там же, стр. 51; американское издание — стр. 38.
110* К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 2, стр. 62; американское издание — стр. 48.
111* Там же, стр. 63; американское издание — стр. 48 – 49.
112* Там же, стр. 196. В рукописи приведена следующая цитата из английского перевода, точного эквивалента которой в оригинале нет: «… We can begin to thick about next, even more important step, which is the creation of the human soul in the part» (p. 136).
113* К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 2, стр. 200; американское издание — стр. 136.
114* Там же, стр. 201; американское издание — стр. 137.
115* Там же.
116* К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 2, стр. 198, 201 – 202; американское издание — стр. 137 – 138. В рукописи имеется цитата из английского перевода, точного эквивалента которой в русском оригинале нет. Приводим ее в нашем переводе: «… 1) Меня охватывает ужас при мысли о будущем. 2) Общественное мнение заклеймит меня не только как вора, но и как убийцу брата собственной жены. 3) Больше того, меня будут считать детоубийцей! 4) Никто не может оправдать меня в глазах общества. 5) И я не знаю, что будет думать обо мне жена, после того как узнает, что я убил ее брата…»
117* Вернее, сомножители, ибо мы получаем в результате не сумму, а… произведение и «художественно» и в математическом признаке этого термина, который состоит в том, что получаемый результат выше по степени и измерению, чем каждое из составляющих его. 2а будет одной степени и одного измерения с а, а2 — другой. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
118* Надо помнить, что [для] Уитмена и для эпохи Уитмена американская демократия действительно еще казалась наиболее демократической демократией земного шара, хотя бы в своих программных тезисах. Это раз.
И то, что Уитмен видел свою Америку еще Америкой идеалов освобождения из-под колониального владычества европейских хозяев — Англии, Франции, Голландии. Америку, выходящей из-под порабощения, что заслоняло перед его глазами одновременную колонизаторскую и поработительскую роль тех же пионеров в отношении краснокожих, в дальнейшем — негров, и в еще дальнейшем — трудящихся своего государства, и в совсем уже дальнейшем — целых государств, лежащих за границами Америки. И это — два. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
119* — от франц. suggestion — внушение.
120* В рукописи рукой Эйзенштейна сделана помета: «Этюд с Брандом». Однако цитата не вставлена. Ниже приводится отрывок из книги К. С. Станиславского «Работа актера над собой» — несколько «хотений», предложенных актерами на репетиции пьесы Г. Ибсена «Бранд»:
«— Хочу вспоминать об умершем!
— Хочу приблизиться к нему! Хочу общаться!
— Хочу лечить, ласкать его, ухаживать за ним!
— Хочу воскресить его! — Хочу пойти вслед за умершим! — Хочу ощутить его близость! — Хочу почувствовать его среди вещей! — Хочу вызвать его из гроба! Хочу вернуть его себе! Хочу забыть о его смерти! — Хочу заглушить тоску!
Малолеткова кричала громче всех только одну фразу:
— Хочу вцепиться и не расставаться!» (К. С. Станиславский. Работа актера над собой, ч. I, Собр. соч., т. 2, стр. 164 – 165).
121* Совершенно так же в другой сфере и ее специфических условиях родится глагол, процесс и[з] сопоставления двух результатов: начального и конечного, напр[имер] кинофеномен, как мы его описали, из двух рядом стоящих клеток. Или практика китайского иероглифа, которая дает понятию действия «подслушивать» родиться из столкновения двух (существительных) предметов: изображения «двери» и изображения «уха». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
122* — в доведении до абсурда (лат.).
123* Скажем, для случая актера, идеального в деле становления чувств и их переживания по системе Станиславского, но лишенного изобразительной стороны, то есть переживающего вне проявлений. Или, наоборот, пример с нашим первым изображением баррикады. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
124* Как парадоксальный прием максимального толчка такой стык, конечно, может быть применен. Но к месту. Эффект такого построения всегда неожиданный и вызывает резкий рывок в восприятии. Иногда это нужно. Но тогда он должен быть очень «кстати». Такие случаи встречаются в монтаже «Одесской лестницы». Но здесь строго учтен их исключительный эффект. Крупный план умирающей матери сразу перескакивает на самый общий план разгрома на лестнице. Совершенно очевидно, что этот «кричащий» интервал есть именно то, что особенно резко вводит «раздирающую» сцену с детской коляской и т. д. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
125* — муз. термин (нем.), означающий мелодическое украшение, предваряющее основной звук.
126* Само построение В — А — С — классическое соразмещение трех последовательных точек прохождения фаз движения. На этом построено условие обязательного наилучшего прочитывания, например, жеста на сцене. Это — условие так называемого «отказа» перед любым движением82. Отказ как азбучное условие для всякого грамотного жеста возрожден и популяризирован Вс. Эм. Мейерхольдом, но известен в сценической технике очень давно.
Вопрос выходит далеко за пределы любой области, где это положение могло бы впервые поразить внимание. Так, для построения сюжета, я думаю, что сюда целиком относится то соображение, которое так формулирует Эдгар По83 в своей «Eureka» (1848): «… In the construction of plot, for example, in fictitious literature we should aim so arranging the incidents that we shall not be able to determine of any one of them, wether it depends on any other or upholds it…». [В построении сюжета, например в художественной литературе, мы должны стремиться так скомпоновать события, чтобы ни об одном из них нельзя было сказать, зависит ли оно от другого или само служит опорой ему…] (Прим. С. М. Эйзенштейна).
127* Здесь мы видим прием, обратный тому, который мы видели в эпизоде из боя Руслана с печенегами. Там ввод к финалу — раздавленному копытами — делался через две детали смерти (булавой и стрелой), чтобы потом обрушиться копытами. «Ложный ход» давался выше (лошадь без седока). Здесь для резкости удара ложный ход — отказ непосредственно рядом. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
128* — несмотря ни на что (франц.).
129* Или умозрительный путь через умышленно определенным образом соразмещаемые элементы изображения. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
130* Картины или единичного кадра. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
131* — прыжком льва (франц.).
132* — «блеском и нищетой» (франц.).
133* Я настаиваю на этом соотношении, а не на формуле «звук — широко понимаемо и как слово, и как голос, и как музыка», ибо имею здесь дело не с акустическим феноменом (звук) и его разновидностями, а с по-разному художественно организованным эмоциональным проявлением в звучании. В этом смысле я и объединяю их под термином музыки. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
134* В тексте пропуск.
135* Это же верно и во всех подробностях. Ведь сама фраза тоже может нанизывать слова двояко: стараясь с помощью их передать только изображение того, о чем рассказывается, или стараясь и ритмом своим и строем передать смысл и ощущение от предмета рассказа. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
136* «Новобрачные» из «Иронических песен» Ксанрофа (франц.).
137* Соображения самой Иветты об исполнении песенок см. в ее книге «L’art de chanter une chanson» par yvette Guilbert, Paris, 1928. [«Искусство петь песню» Иветт Гильбер, Париж]. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
138* «День гнева», «Тебя, господи, славим» (латин.).
139* В тех случаях, когда интонация пластически изобразительна прежде всего, это может быть даже не звукоизображающе, как, например, в случае, когда мы хотим передать ощущение большего размера и произносим слово большой — «баальшой», или малюсенького размера — растягивая сверх всякой меры пронзительное «ю». В звукоподражательных словах и словопостроениях это будет состоять в особом выпячивании звукоизобразительности средствами произнесения слов. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
140* — «Не играйте “вообще”!» (англ.).
141* — «Условимся, что один из персонажей пьесы должен войти в комнату… “Можете вы войти в комнату?” — спрашивает Торцов. “Могу”, — быстро отвечает Ваня. “Ну хорошо, тогда входите… Но позвольте вас заверить, что вы не сможете сделать этого, пока вы не знаете, кто вы, откуда вы, в какую комнату вы входите, кто в этом доме живет, и ряда заданных обстоятельств, от которых ваши действия зависят”» (англ.).
142* — в чем его острота (франц.).
143* Причем я здесь сознательно разделяю эту синтезирующую функцию монтаж! в отношении всех элементов тонфильма, от монтажа как частной области внутри прочих средств воздействия фильма (актер, кадр, фонограмма и т. д.) — имея при этом в виду все его три разобранные стадиальные разновидности, каждая из которых соприсутствует одновременно и внутри этой высшей стадии развития тонфильма. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
144* Мы знаем, что непосредственно изобразительная музыка — наименее почтенная ее разновидность. В редких случаях, почти в условиях тур де форса [ловкого трюка], она достигает таких несравненных художественных высот, как изображени[е] картины леса в вагнеровском «Зигфриде». Чаще же ее изобразительность имеет «право жительства» в самой низшей своей форме — в прямом звукоподражании. Принципиальная неорганичность этой задачи делает ее неизбежно комической. И этот комизм разумно эксплуатируется целой отраслью музыки — звукоподражательными элементами в джазе. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
145* Школа архитектуры, хотевшая всю эстетику строительства извлечь из свойств и качества строительного материала, на наших же глазах и памяти пережила свой краткий расцвет и вполне заслуженную гибель. Экспериментальный вклад ее в один из разделов этой эстетики — несомненен, но всеобъемлющая претензия этого фактора, конечно, не обоснована. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
146* Тем более странного рядом с заповедью «не сотвори себе образа и подобия». Евреи были последовательнее, отведя святая святых Иерусалимского храма под «ничто» — пустую комнату — место пребывания и образ незримого бога. Так магометане на восточных, например, миниатюрах среди реальных (относительно, конечно) пейзажей, всадников, людей дают появляться Магомету в одеждах, на коне, но с белым пятном вместо лица. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
147* Равно настолько же, насколько наше социалистическое сегодня еще прекраснее прекраснейшей из всех прошедших эпох — детства человечества — Греции! (Прим. С. М. Эйзенштейна).
148* Тем во сто крат возмутительнее, что это задание на радость человека, покончившего с гнетом эксплуатации, не было творчески подхвачено архитекторами. Бригада, приглашенная создать архитектурный Нальчик, предпочла (по крайней мере в проектах, которые я видел в 1933 году) навертеть столице Кабардино-Балкарии «за ее деньги» ансамбль по крайне простому рецепту. В нем требуется лишь много «кальки» и еще больше беззастенчивости и много-много архитектурных альбомов. «Дворец культуры?» — Даешь Пиранези111. «Дворец Советов?» — Крой Палаццо Питти. Водолечебницу? — Валяй… термы Каракаллы112 (лишь бы хватило денег!) NB. Это отступление совсем не есть «закапывание» в архитектуру. «При чем же тут кино?» — вопрос совсем неуместный. Кинематографические аналогии предоставляется подставить самому читателю. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
149* Поэтому и целесообразно объединить теоретические соображения по всяким частным историческим моментам и этапам становления в обширном хозяйстве синтетического тонфильма. Ни одна единица опыта не должна пропасть. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
150* — «когда сердце переполнено — рот открыт» (нем.).
151* К. С. Станиславский, Работа актера над собой, ч. 1. Собр. соч., т. 2, стр. 300. В подлиннике цитата приведена на английском языке по изданию C. Stanislavski, «An actor prepares», New York, Theatre arts, inc. 1936, p. 233.
152* Там же, стр. 26, американское издание стр. 15.