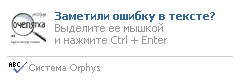5 От редколлегии
В этом томе собраны статьи, выступления, высказывания С. М. Эйзенштейна по кино, театру, музыке, литературе, по общественно-политическим вопросам.
Первый раздел тома, «История и теория кино», включает многие известные и основополагающие статьи Эйзенштейна, как ранние, двадцатых-тридцатых годов, так и послевоенные, сороковых годов: «Проблема советского исторического фильма», «Диккенс, Гриффит и мы» и другие.
Вопросам кино посвящен в основном и следующий раздел — «Критика и публицистика». Здесь рецензии на фильмы Ф. М. Эрмлера, М. И. Ромма, С. И. Юткевича, А. И. Медведкина и др., а также статьи и выступления С. М. Эйзенштейна на общественно-политические и международные темы, характерные особенно для периода Великой Отечественной войны.
С. М. Эйзенштейн начинал свой творческий путь как театральный художник и режиссер, и поэтому в пятом томе театру уделен специальный раздел, куда вошли статьи о японском и китайском театре, о музыкальной драматургии Рихарда Вагнера и др. Сюда же включена статья «Юдифь». Она посвящена Ю. С. Глизер, но по сути дела является оригинальным исследованием о советском театре двадцатых-тридцатых годов, что и предопределило ее включение в этот раздел.
Далее сосредоточены работы С. М. Эйзенштейна, которые можно назвать литературными портретами, портретными зарисовками или эссе. Степень завершенности этих работ весьма различна: от совершенно законченных до небольших черновых набросков. Но все они рисуют разных людей, с которыми приходилось встречаться С. М. Эйзенштейну в жизни. Это кинематографисты Чарльз Чаплин, А. П. Довженко, А. С. Хохлова, И. А. Пырьев, актер театра Б. Н. Ливанов, балерина Галина Уланова, поэт Владимир Маяковский, журналист М. К. Розенфельд и даже американский летчик-испытатель Джимми Коллинз. Некоторые портретные зарисовки близки мемуарному циклу С. М. Эйзенштейна, вошедшему в первый том настоящего издания.
6 В приложении публикуются ответы С. М. Эйзенштейна на две анкеты: о взаимоотношении литературы и кино и «Что мне дал В. И. Ленин?».
Том открывает статья С. М. Эйзенштейна «Крупным планом», которая мыслилась автором как предисловие к сборнику его работ, в число которых входила и значительная часть статей, публикуемых в настоящем томе. Редколлегия сочла возможным использовать эту статью по ее предполагавшемуся назначению.
Пятый том построен на тех же принципах, как и предыдущие: все тексты сверены с первоисточниками; как правило, воспроизводится последняя авторская редакция. Не вставленные автором варианты и дополнения даются в основном тексте в угловых скобках. Всю археографическую работу по тому проводил ЦГАЛИ. Переводы иноязычных текстов сделаны Н. В. Снытко, подбор иллюстраций — Н. И. Клейманом. Именной указатель составлен Ю. А. Красовским.
7 Р. Юренев
ИСТОРИК, КРИТИК, ПУБЛИЦИСТ
Человеком Возрождения часто называют Эйзенштейна. И правда: редкостна его многогранность, плодотворна жажда знания, поразительно трудолюбие, неукротима жизнерадостность.
Читателю предыдущих томов этого издания, особенно третьего и четвертого, не раз пришлось, вероятно, задуматься над той ненасытной жадностью, с которой вбирает в себя Эйзенштейн сведения из различнейших областей знания — факты и мысли, сведения и наблюдения, аксиомы и парадоксы, — чтобы поставить все это на службу молодому искусству кино. Раскройте «Вертикальный монтаж», или «Неравнодушную природу», или, еще лучше, исследование о монтаже — и вас обступят и античные мыслители от Аристотеля до Сенеки, и восточные мудрецы от Конфуция до Хайяма, и гиганты Ренессанса Леонардо, Бэкон, Макиавелли, Монтень, и протопоп Аввакум, и атеист Дидро, и Сен-Симон, и Карлейль, и бессмертные ученые Дарвин, Гельмгольц, Эйнштейн, и забытые «физиономисты» и гимнасты Лафатер, Пидерит, Далькроз, и, уж конечно, искусствоведы всех времен и специальностей: Винкельман, Сент-Бев, Вельфлин, Грабарь, Поль Гзелль, Кобайоши, Асафьев, Эли Фор, Стасов… Особенно любил он читать и цитировать художников, писавших о своем мастерстве, будь то Вагнер или Рембо, Делакруа или Хокусаи, Андрей Белый или Бальзак, Пискатор или Станиславский, а классиков марксизма, русских революционных демократов и русских писателей от Пушкина до Маяковского он знал назубок и умел выбирать из их сочинений мысли малоизвестные, порой неожиданные, но всегда глубокие и очень, очень нужные. Словом, Эйзенштейн-теоретик, Эйзенштейн больших монографий напоминает огромный прожектор, собирающий свет из многих источников и мощно направляющий его на предмет исследования.
Но можно сравнить Эйзенштейна и с факелом, рассеивающим свой свет в разные стороны, освещающим все вокруг себя, выхватывающим из темноты всякие предметы и делающим их заметными, объемными, существенными. Таков Эйзенштейн малых статей — рецензий, откликов, заметок, силуэтов, набросков, собранных в этом томе. Их много. Они разнообразны, даже 8 пестры. Порой в них заключаются идеи важнейшие, для киноведения основополагающие, порой — наблюдения частные, локальные, но всегда эти статьи освещены живой мыслью, горячей заинтересованностью, обаянием оригинального и ясного ума.
Статьи, собранные в этом томе, касаются мирового киноискусства всех периодов и эпох. Многие из них посвящены театру, драматическому и оперному, западному и восточному. Множество примеров приведено из творческой практики живописцев, музыкантов, литераторов, фотографов, певцов. Достижения мировой культуры Эйзенштейн охватывает необычайно широко.
Статей много. Они разнообразны, пестры. Но чем глубже вчитываешься в них, тем яснее постигаешь связь мелких статей с крупными исследованиями, исследований с лекциями и программами, педагогических работ с режиссерскими и сценарными замыслами, сценариев и режиссерских партитур с советской современностью, а эта современность, действительность, жизнь просвечивает в любой, пусть самой маленькой и беглой заметке. Такова диалектическая связь творческих проявлений Эйзенштейна. Таков творческий круговорот его вечно беспокойного ума. И только в этом круговороте видно с достаточной отчетливостью лицо Эйзенштейна, лицо человека, творца, мастера.
В бумагах Эйзенштейна сохранился отрывок, озаглавленный «Вместо послесловия», предназначавшийся для сборника теоретических статей и замененный впоследствии статьей «Всегда вперед». В этом отрывке великий режиссер сформулировал свое исследовательское кредо: «Создание теории и истории кинематографического искусства не только как великого подспорья, но и как средства перспективного охвата тех возможностей, куда способно расти наше искусство, цветущее на почве, где вообще нет пределов развития, — потенциальных возможностей качества предельных степеней для совершенствования». Знать о прошлом, чтобы увереннее идти в будущее, — всегда было его принципом, принципом художника-ученого, новатора-эрудита.
Чтобы облегчить изучение историографического, критического и публицистического наследия, редколлегия сгруппировала статьи в разделах: история и теория кино, критика и публицистика, статьи о театре, портреты и наброски, стараясь придерживаться внутри разделов хронологического принципа. Но группировка эта в значительной степени условна. Часто, работая над статьей о кино, Эйзенштейн обращался к опыту театра, набрасывая портрет актера или музыканта — стремился шире охватить его творчество и сделать общие теоретические выводы из частных наблюдений. Анализ и оценку конкретного фильма он любил связывать с творческими путями его создателей или же рассматривать в общем движении искусства. Поэтому рецензии порой кажутся отрывками из исторических работ, а исторические очерки изобилуют критическими разборами, как бы распадаются на рецензии. Поэтому трудно бывает дать жанровую характеристику той или иной статье Эйзенштейна. Важно не это, а понимание общего процесса его творчества, всегда индивидуального, неповторимого и всегда неразрывно связанного с общим процессом развития советского кино, советской культуры.
Страсть к теоретическому осмыслению своего творческого опыта, вечное стремление «поверить алгеброй гармонию», проявилась у Эйзенштейна рано, в самом начале пути.
Эта страсть, принесшая гениальному художнику множество огорчений, так как большинство его теоретических открытий оспаривалось, критиковалось, а порой и подвергалось грубым разносам с административными выводами, 9 была продиктована не личными интересами, не стремлением к самосовершенствованию, а заботой о советском киноискусстве в целом, о его развитии, прогрессе, славе. Любую свою находку Эйзенштейн стремился осознать, проанализировать и сделать всеобщим достоянием, поставить на службу всей кинематографии. А так как искусство кино было еще до невероятности молодо, так как работать ему приходилось на совершенно пустом месте, то и выводы было делать сложно, то и ошибаться было очень легко.
Критику, полемику и даже брань Эйзенштейн воспринимал серьезно и спокойно. Конечно, несправедливость больно ранила его, но он умел сдерживаться, прикрываться иронией, а иногда и язвительно обороняться. Но не полемика интересовала его, не борьба самолюбий и остроумий, а сущность дела. В словах и мыслях оппонентов он искал истины или, во всяком случае, положительных, конструктивных замечаний. Радовался, когда находил. И самым строгим критиком своих положений был сам. Поэтому теоретические его воззрения мощно и гармонично развивались.
Объектом исследований Эйзенштейна в большинстве работ были не взятые обособленно произведения искусства сами по себе, а их воздействие на зрителя. И это всегда, с самых ранних, самых спорных и несовершенных статей, резко отличало Эйзенштейна от формализма, в котором его столько раз «уличали». Для формализма характерно равнодушие к содержанию, пренебрежение к зрителю, заинтересованность в искусстве как таковом, в форме как таковой. Эйзенштейн всегда заботился о том, как воспримет его произведение зритель, что он испытает и что вынесет из общения со спектаклем или фильмом. Но этого еще мало. Эйзенштейн всегда заботился о том, чтобы воздействовать на зрителя революционным содержанием, воспитывать в нем революционное сознание.
В том, как этого достигать, он мог ошибаться, но в том, что нести, что говорить зрителю, — он всегда был революционен и прав.
В поисках воздействия на зрителя Эйзенштейн шел от монтажа аттракционов — от чередования острых психологических воздействий к интеллектуальному кино, к попытке говорить понятиями на языке киноискусства. Поэтику немого кино, его образную выразительность он ставил на службу донесения понятий, а следовательно, мыслей, идей, причем идеи эти были всегда революционными: от разоблачения понятий «монархия», «религия», «диктатура» к утверждению понятий «диалектический метод», «тактика большевизма», к «внедрению коммунистической идеологии в миллионы»1*. А когда развитие киноискусства, в частности освоение звука, живого человеческого слова, сняло основные положения интеллектуального кино, он в статье «Будущее звуковой фильмы» искал новые средства, «… которые и усиливают и расширяют монтажные приемы воздействия на зрителя»2*, радовался увеличению смысловой емкости фильма и заботился о том, чтобы изображение и звук не повторяли друг друга, а дополняли бы, действуя контрапунктически.
Исследование возможностей звукового кино привело Эйзенштейна к открытию внутреннего монолога, что явилось дальнейшим развитием мысли о контрапунктическом сочетании изображения и звука, а отсюда он пришел к великолепной и неопровержимой мысли о полифоническом — многообразном, разностороннем — построении фильма, о синтезе всех его средств, всех его воздействий. Это он называл звукозрительным кино.
10 Внутренний монолог как метод звукозрительного кино Эйзенштейн разработал на базе теории интеллектуального кино в новых творческих условиях искусства, овладевшего звуком, словом. Отправившись в Америку для изучения звуковой техники, он пытался применить внутренний монолог в экранизации «Американской трагедии» Т. Драйзера, а теоретически развернул его в статьях «Одолжайтесь!» (1932), «Родится Пантагрюэль» (1933) и на творческом совещании 1935 года в Москве. Он говорил: «“Интеллектуальное кино”, замахнувшееся на исчерпывающее содержание и тем потерпевшее фиаско, сыграло очень серьезную роль в распознании ряда самых основных структурных особенностей формы художественного произведения вообще. И это лежит в особенностях того синтаксиса, по которому строится внутренняя речь в отличие от произносимой. Эта внутренняя речь, ход и становление мышления, не формируемого в логическое построение, которым высказываются произносимые сформулированные мысли, имеет свою совершенно особенную структуру»3*.
Не имея возможности цитировать дальше, направим читателя к соответствующим страницам второго тома, а для изучения перехода от внутреннего монолога к синтетической теории пафоса — к исследованию «Неравнодушная природа» в третьем томе.
Каждый новый этап развития теоретических воззрений Эйзенштейна отрицал, снимал предыдущие, но снимал их диалектически, возводя на новый, высший этап, используя все верное, рациональное, что всегда было даже в самых крайних, самых рискованных его утверждениях. Так, в зрелой статье «Монтаж 1938» он как бы возвращается к вопросу о воздействии на зрителя, поднятому в «Монтаже аттракционов» и других ранних статьях, и гораздо спокойнее, убедительнее пишет о том, как при помощи монтажа заставить зрителя «проделать тот же созидательный путь, который прошел автор, создавая образ», как вызвать у зрителя переживания, которые испытал автор4*, а в большом, итоговом исследовании «Неравнодушная природа» снова и снова возвращается к «обработке» зрителя и находит глубоко верное понятие — пафос, то есть «все то, что заставляет зрителя “выходить из себя”»5* — вскакивать с места, рукоплескать, прыгать, то есть всем сердцем разделять чувства, вложенные в произведение искусства его автором.
Так через все теоретическое творчество Эйзенштейна красной нитью проходит забота о зрителе, поиски способов донесения до зрителя идей, эмоций, содержания фильмов. Это сближает Эйзенштейна-теоретика с Эйзенштейном-педагогом, публицистом. Это придает всей эстетике Эйзенштейна глубоко гражданственный и остросовременный характер.
Органическая слитность воззрений Эйзенштейна, не метавшегося от одной ошибочной теории к другой, как склонны были думать его строгие критики современники, а непрерывно развивавшего и совершенствовавшего свой метод, особенно ясно прослеживается на сравнении творческого метода создания его фильмов. Наиболее ярко сопоставление метода «Броненосца “Потемкин”» и «Ивана Грозного», которому посвящены блестящие, парадоксальные, подчас субъективные, но впечатляющие страницы «Неравнодушной природы»6*. В этой связи Эйзенштейн вновь подчеркивает связь между 11 «аттракционом» как своеобразной единицей воздействия на зрителя и тем, что в поздние годы он называл «синэстетической единицей», соединяющей в себе разнообразные воздействия полифонического искусства в его «реалистической направленности».
Из скромности, а в более ранние годы — из-за неразработанности терминологии Эйзенштейн редко называл свой метод, который он с таким трудом и с такими боями вырабатывал и отстаивал, методом социалистического реализма. Порой ему мешали делать это начетчики и догматики, не желавшие видеть конечной цели его поисков, пафоса его изысканий. Но сейчас не может быть сомнений, что Эйзенштейн искал метода правдивого, всестороннего, объективного и вместе с тем глубоко эмоционального, авторского метода изображения реальной действительности с целью ее революционного преобразования… Так понимали социалистический реализм Горький, Луначарский и Фадеев, впервые авторитетно заявивший, что метод «Броненосца “Потемкин”» «является не чем иным, как социалистическим реализмом в искусстве»7*. Теоретический путь Эйзенштейна легче проследить по его большим исследованиям и статьям, помещенным в томах втором и третьем, а также по авторецензиям, сосредоточенным в первом томе настоящего издания. Но единый и целеустремленный во всем, он рассыпал важнейшие теоретические положения в своих малых статьях, в рецензиях, очерках и портретах.
Поэтому представляют несомненный интерес его беглые, датированные концом 1920 и первой половиной 1921 года заметки о работе над спектаклем «Мексиканец». Молодой художник, впервые пробующий свои силы в театральной режиссуре, опирается на опыт своего учителя В. Э. Мейерхольда, отталкивается от мхатовского психологизма и задумывается над эмоциональной структурой спектакля, рассматривая ее как «смену и степень напряженности эмоциональных элементов», что получило дальнейшее развитие в нашумевшей теории «монтажа аттракционов», сводившейся к смене различных воздействий на зрителя в целях его эмоциональной и смысловой обработки. После шумной дискуссии вокруг «Монтажа аттракционов», дискуссии, не прояснившей сложный вопрос, но навлекшей на молодого теоретика множество обвинений и ругательств, Эйзенштейн неоднократно возвращается к мыслям о воздействии на аудиторию и, в частности, в статье «Будущее советского кино», открывающей этот том, пишет: «Новое понимание психологической роли и деятельности фильма основным положением устанавливает, что важно провести через ряд психологических состояний аудиторию, а отнюдь не показывать ей ряд психологических состояний, в каковых себя изображают исполнители».
Ополчаясь против театрального «сопереживательства» и мхатовского «психологизма», Эйзенштейн упускал из виду, что вызвать у зрителя определенное психологическое состояние также можно, показывая ему это состояние с экрана или со сцены, над чем много работал К. С. Станиславский. В то же время надо заметить, что это не единственный способ и в ряде случаев нужное состояние можно вызывать и при помощи иных, более сложных, аттракционных воздействий, чего не хотели понять многочисленные критики Эйзенштейна, но что отлично понимал он сам, приведя несовершенную теорию монтажа аттракционов к сложной, многогранной «синэстетической» теории звукозрительного кино.
12 В ранних статьях, представленных здесь, в пятом томе, есть ценнейшие замечания, без которых понимание процесса формирования метода Эйзенштейна затруднено. Таких замечаний много в статье «Наш “Октябрь”» («По ту сторону игровой и неигровой»). Она написана после огромного успеха «Броненосца “Потемкин”», в период работы над «Октябрем», как известно, заказанным к десятилетнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, прервавшей съемки «Генеральной линии» — фильма о коллективизации, законченного в 1929 году и вышедшего на экран под названием «Старое и новое».
Особый гнев критики вызвала фраза этой статьи: «По пути “Потемкина” дальнейшей продвижки нет». Эйзенштейна обвиняли, что он отказывается от великих достижений революционного «Потемкина», чтобы низвергнуться в пучину формализма, погубившего «Октябрь». Но из статьи «Наш “Октябрь”», впервые сформулировавшей положения теории интеллектуального кино, так же как из написанных через год «Перспектив» и других статей того времени, явствует, что, поставив в «Стачке» вопрос о новых способах воздействия на зрителя и решив его в «Броненосце “Потемкин”», Эйзенштейн в «Октябре» ставит новые, еще более сложные задачи создания художественных произведений, непосредственно доносящих до зрителя революционные понятия, то есть вовсе не отказывается от завоеваний «Потемкина», а не успокаивается на них, стремится дальше.
Назойливые обвинения в формализме получили отповедь в статье «В интересах формы», статье горькой, иронической и в то же время полной искренности, оптимизма и уверенности в победе истины. Не пугаясь «забривания в формалисты», Эйзенштейн продолжал разрабатывать новые формы для выражения новых идей, озабоченный развитием всей советской кинематографии в целом.
Эти заботы привели Эйзенштейна к необходимости осмыслить путь, проделанный киноискусством, — оценить достигнутое и наметить направление дальнейшего движения вперед.
Внешне появление ряда исторических статей — «Средняя из трех», «Наконец!», «Гордость», «Двадцать», «Единая», «30 лет советского кинематографа и традиции русской культуры» — объясняется юбилеями, которые каждые пять лет, начиная с 1934 года, справляли советские кинематографисты. И хотя Эйзенштейн далеко не всегда приходил к этим юбилеям во всеоружии общепризнанных побед и достижений, все же за осмыслением творческого пути обращались к нему.
Вначале Эйзенштейн шел к осмыслению истории советского кино не как критик-искусствовед, а как художник: исходя из собственного творческого опыта. «Средняя из трех» — это первый опыт его творческой автомонографии, в ней много говорится о театральном, докинематографическом периоде работы, но в ней Эйзенштейну удается установить два важнейших принципа. Первый — это рождение, развитие и достижения советского кино он ставит в прямую связь с Октябрьской революцией и развитием Советского государства: «Основная предпосылка к ведущей роли нашего кино пишется коротко и выражается одним словом: Октябрь. Или двумя: Октябрьская революция. Это было необходимо, и этого оказалось достаточно, чтобы гигантским порывом творческого веления выбросить вперед технически наиболее слабую, но горевшую самым передовым идеологическим энтузиазмом советскую кинематографию на первое место [в] мировой кинематографии». И второй принцип — это стремление советского кино к овладению методом социалистического 13 реализма, который Эйзенштейн понимал как «монументальные синтетические обобщения в образах людей эпохи социализма».
Согласимся, что определение это неполно, неакадемично, отметим, что, как всегда, некоторые конкретные оценки этой статьи индивидуальны, произвольны, но отметим также, что здесь впервые с полной ясностью история кино рассматривается как процесс, порожденный Октябрем и развивающийся по законам социалистического реализма.
К концепции развития советского кино Эйзенштейн вплотную подошел в своем выступлении на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 8 января 1935 года, текст которого был впоследствии выправлен, дополнен, обработан. Да будет позволено несколько подробнее процитировать его наиболее важные места: «… я условно разделяю нашу кинематографию на три этапа… 1924 – 1929 годы идут под ведущим знаком типажных и монтажных устремлений. Следующий этап — с 1929 по конец 1934 года… шел главным образом под знаком приближения к проблемам характера и драмы, … третий или четвертый этап, как хотите, это тот синтетический этап, который сейчас начался»8*. Это свое деление Эйзенштейн подтверждает и в другом аспекте, в аспекте героев советских фильмов: «Начинается наша кинематография со стихийно-массового “протагониста”, с героя-массы. Затем, к завершению своего первого пятнадцатилетия, стихийно-массовый стиль первого периода начинает индивидуализироваться на экране серией отдельных образов, отдельных фигур»9*.
Таким образом, процесс развития киноискусства, условно разделенный на три этапа, определен с точки зрения преобладающих выразительных средств и с точки зрения метода характеристики человеческих образов, героев.
Эта оригинальная и плодотворная концепция подвергалась критике главным образом по двум линиям: за отрыв развития кино от развития всего Советского государства, Коммунистической партии, революционной культуры и за отсутствие связи с развитием метода социалистического реализма. Несмотря на то, что критика эта была в значительной мере догматичной, так как Эйзенштейн не отрывал и не игнорировал никаких связей, а только лишь не включил эти связи в свои формулировки, он в дальнейшем учел эти замечания. В статье «Двадцать», написанной в 1939 году, он, развивая концепцию, заключенную в статьях «Средняя из трех» и «Наконец!», дает замечательно образную и яркую картину истории советского кино как развития метода социалистического реализма, как борьбу за него: «… двадцать лет движения советской кинематографии неуклонно вели к победе социалистического реализма в кино», причем этот творческий метод рассматривается не догматически, что было распространено в те годы, а гибко, исторично, творчески, как метод, позволяющий широко художественно осмыслить революционную действительность. А в одновременно написанной статье «Гордость» он увязывает развитие истории кино с литературой, скульптурой, живописью, музыкой, восторгаясь синтетичностью молодого, важнейшего и самого массового искусства, искренне гордясь его могуществом и богатством.
Статья «Гордость» тоже подверглась ожесточенной критике, на этот раз за недооценку других искусств, за чрезмерное возвышение над ними кино. Но вряд ли правильно было рассматривать фразу «для каждого из искусств 14 кино является как бы высшей стадией воплощения его возможностей и тенденций» — как попытку заменить все искусства одним лишь кино. Весь творческий путь Эйзенштейна — театрального режиссера, художника-литератора, все его теоретические работы, столь богатые примерами из смежных искусств, говорят о противном. Любя, восторгаясь всеми искусствами, работая в них, Эйзенштейн в статье «Гордость» не думал об их упразднении, а всего лишь рассматривал кино как синтетическое искусство, черпающее из золотых кладовых их общего исторического опыта. Он видел закономерность стремления всех искусств к расширению своих выразительных возможностей, но знал и предел этим стремлениям. И хотя свои прежние «киноцентристские» взгляды на отмирание театра он иронически отвергает, все же огромная увлеченность своим искусством — кино, искусством, открывающим новые возможности в познании мира и человека, делает горделивую мысль о преимуществе кино основой статьи. С этим можно спорить, но как не понять позиции кинематографического художника-новатора, влюбленного в свое искусство, остро ощущающего его неисчерпаемые возможности, ясно предвидящего его увлекательное будущее.
Взаимоотношения Эйзенштейна со смежными искусствами тоже развивались, изменялись. Как известно, свой творческий путь он начинал как художник-плакатист, театральный декоратор и театральный режиссер. Разочаровавшись в 1924 году в развитии возможностей театра, он, в стиле дерзкой категоричности, свойственной всем левым, группировавшимся вокруг Маяковского, Мейерхольда и Пролеткульта художникам, был склонен отрицать театр вообще, махнуть на него рукой. В статье «Два черепа Александра Македонского»10*, носящей следы его размолвки с учителем — Мейерхольдом, он выразился про театр решительно: «Нелепо совершенствовать соху. Выписывают трактор». Еще позднее, в статье «Родился Пантагрюэль»11*, он предостерегал звуковое кино от «мерзейших театральных пережитков», но уже совершенно отчетливо разграничивал эстетические области кино и театра, утверждая тем самым их «сосуществование», взаимовлияние.
Влияние литературы на кино Эйзенштейн никогда не отрицал. Бывали периоды, когда он этого влияния опасался, особенно когда литература страдала догматизмом. Его пресловутый призыв: «Тов. литераторы! не пишите сценариев!»12* был произнесен не в борьбе против литературной основы фильма, против кинодраматургии, как казалось критикам, а в борьбе за профессиональную кинодраматургию, за ее специфику и против рапповских вульгарных теорий.
Но если в ранних статьях полемический задор и лозунговая резкость формулировок позволяли оппонентам Эйзенштейна приписывать ему своеобразный «киноцентризм», ко времени написания «Гордости» (1940) Эйзенштейн уже опубликовал и «Программу преподавания теории и практики режиссуры» (1936), и «О строении вещей» (1939), и другие статьи, в которых совершенно недвусмысленно определил связи кино с литературой.
В 1947 году Эйзенштейн начал большое историческое исследование о влиянии многообразного наследия русской национальной культуры на формирование стиля и метода советского кино, начало которого («30 лет советского кинематографа и традиции русской культуры») публикуется в этом томе. 15 Сама постановка проблемы снимает всякий разговор о «киноцентризме», но, как и все исторические работы Эйзенштейна, эта статья пронизана мыслью о безграничности выразительных возможностей кино.
Интересно, что в момент написания «Гордости» Эйзенштейн как раз работал в театре — ставил оперу Вагнера «Валькирия» и глубоко задумывался не над уничтожением одних искусств другими, а о том, как учиться у старших искусств, и об их синтезе (читайте в этом томе статью «Воплощение мифа»). Он мечтал о разрушении преград между зрителем и художником, между художником и воплощением идеи; он мечтал о разрушении — пространственном, звуковом и световом — рамок, то есть ограничений, свойственных всем искусствам, и оперный театральный спектакль утолял его экспериментаторскую жажду.
В архиве Эйзенштейна сохранились заметки к работе о синтезе искусств (ЦГАЛИ, ф. 1923). Необработанность их не позволяет полностью включить их в один из томов, но основные мысли их удивительно интересны. Стремление к синтезу искусств в разных формах, и особенно в звукозрительном кино, Эйзенштейн считал особенностью социалистического мировосприятия человека. Он писал: «Если живопись, скульптура и архитектура сейчас становятся на путь синтетического слияния пластических искусств в социалистическом жилище и ансамбле социалистического города, то искусства, в одно и то же время пространственные и временные, пластические и звуковые, впервые в истории сливаются в подобную же полноту синтетического зрелища в тонфильме эпохи социализма». И далее: «Таких масштабов, полноты и органической внутренней слитности при такой народности, массовости и доступности не снилось прошедшим векам». Стремление к синтезу он видел в эпохи подъема — в античности, в Возрождении, во времена Великой французской революции. И, наоборот, в реакционном буржуазном искусстве он видел тенденции к «дезинтеграции, распаду». Одним из первых эстетиков Эйзенштейн пришел к мысли об исторической и политической закономерности синтеза искусств.
Итак, критика статьи «Гордость», как всегда, не отвратила, не отпугнула Эйзенштейна от исследования истории советского кино. Во всех его крупных работах, начиная с «Вертикального монтажа», разбросано множество ценных мыслей, по которым можно судить, как, идя в теории к верному пониманию синтетического характера кино и его полифонической сущности, Эйзенштейн шел к верному пониманию истории — как процесса художественного постижения действительности, развития выразительных средств молодого искусства, овладевающего методом социалистического реализма.
Воззрения зрелого Эйзенштейна выражены в статьях «30 лет советского кинематографа и традиции русской культуры» и «Единая», которые были написаны примерно одновременно, в сентябре — ноябре 1947 года, причем вторая статья вполне может рассматриваться как обобщающее заключение к первой.
В статье «Единая» сделана интересная попытка проследить историю советского кино по трем основным руслам, по трем жанрово-тематическим потокам: современному, историко-революционному и историческому. Действительно, в критике и тематическом планировании фильмов тех лет такое деление было общепринятым, и Эйзенштейн не без успеха применил его. Этот впервые примененный им метод нашел дальнейшее развитие в работах советских киноведов сороковых-пятидесятых годов, в частности в трехтомных «Очерках истории советского кино» Института истории искусств Академии 16 наук СССР, 1956 – 1961. Жанрово-тематический метод в искусствоведении, конечно, не единственно возможными даже не лучший, но историю недалекого прошлого, еще не разработанную в деталях и не обобщенную отдаленностью лет, — так писать легче и удобнее. Поэтому статья «Единая» должна быть признана некоей ступенью в развитии советского киноведения.
Конечно, не все в ней, так же как и в статье «30 лет», верно. Можно и нужно спорить с оценкой Эйзенштейном русского дореволюционного кино, которое он никогда не изучал и оценивал презрительно. Можно и нужно спорить с оценками некоторых фильмов, высоко поднятых в конце сороковых годов и резко раскритикованных в конце пятидесятых. Можно, наконец, дополнять некоторые формулировки Эйзенштейна на основе работ советских искусствоведов пятидесятых и шестидесятых годов. Но необходимо понимать, что исторические воззрения Эйзенштейна легли в основу современных работ советского киноведения, определив их собой.
На формирование исторической концепции Эйзенштейна несомненно повлияли работы других советских киноведов и кинокритиков, а также фильмографические начинания, проводимые в Гос. Институте кинематографии с конца тридцатых годов и возобновленные после войны, — словом, развитие советского киноведения. К делу изучения истории советского кино Эйзенштейн старался привлечь театральных критиков И. И. Юзовского, Б. И. Ростоцкого, а также молодых кинокритиков, печатавшихся в журнале «Искусство кино» и в газетах. Совместно с С. И. Юткевичем, Г. А. Авенариусом, Г. М. Козинцевым, М. Ю. Блейманом он выпустил два сборника, посвященных творчеству классиков американского кино — Давида Уорка Гриффита и Чарльза Спенсера Чаплина. Создание научной истории советского, так же как и мирового кино Эйзенштейн рассматривал как дело коллективное. Но несомненно, что во всех этих начинаниях он играл основополагающую роль, не только объединяя и вдохновляя, но и направляя своих сотрудников. Его эрудиция, авторитет и, главное, умение сочетать практику искусства, художественное творчество с теорией и историей сделали его основоположником советского научного киноведения. В годы, когда о специфике искусства было принято отзываться пренебрежительно как об измышлениях формалистов, когда закономерности развития, хронология, да и корневые процессы развития искусства механически подменялись процессами и датами истории всего советского общества, Эйзенштейну удалось найти место киноискусству в общем потоке социалистической культуры и оттенить специфические особенности его пути.
В 1947 году Эйзенштейн при содействии академика И. Э. Грабаря организовал и возглавил сектор истории кино в Институте истории искусств Академии наук СССР. Как он гордился этим своим достижением! «И не удивительно, — писал он, — что именно в нашей стране, и только нашей стране — и как раз в знаменательный отрезок времени между юбилеем восьмисотлетия Москвы и тридцатилетия Октября — впервые в мире, Академия наук — Академия наук СССР — учреждает в недрах своих сектор по изучению истории кино…».
Пишущему эти строки посчастливилось работать под руководством Эйзенштейна над программой-проспектом многотомной «Истории советского киноискусства», которую должны были коллективно создавать сотрудники этого сектора. В стремлении охватить как можно больше фактов, фильмов, имен, не упустив никого и ничего талантливого, Эйзенштейн был очень строг в отборе важного, первостепенного, движущего искусство вперед. В оценке 17 собственного творчества, собственных картин он был совершенно лишен тщеславия — требовал глубокой критики, но был лишен и ложной скромности — спокойно анализировал достигнутое. В стремлении увязать каждое направление, каждый заметный фильм с явлениями всей советской, а по возможности и мировой культуры, а также с жизнью нашего народа, нашей партии и государства Эйзенштейн всегда уделял пристальное внимание закономерностям развития выразительных средств кино, его образной структуры, тематики, жанров, стилистических приемов. Основываясь на общей для истории советского народа периодизации, он рассматривал и свои, внутренние периоды развития кино: немой, звуковой и звукозрительный, то есть углублял и увязывал с общеисторическим процессом то, что впервые предложил в своем выступлении 1935 года.
В небольшой статье «Всегда вперед!», написанной вместо послесловия к так и не состоявшемуся сборнику статей, Эйзенштейн развил и уточнил основные мысли «Гордости», изложив их гораздо более зрело, ясно и верно. Он считал, что кино — это «чудесная новая разновидность искусства, ставившая в одно целое, в единый синтез и живопись с драмой, и музыку со скульптурой, и архитектуру с плясом, и пейзаж с человеком, и зрительный образ с произносимым словом». Он связал появление кино и его эстетическое осмысление с историей человеческого художественного творчества всех эпох и народов и с восторгом и уверенностью смотрел в его будущее.
Вскоре он умер. Не закончив «Ивана Грозного», не завершив своих больших теоретических работ, не поставив точки даже на плане коллективной «Истории киноискусства». В последующие годы нам, его ученикам, не приходилось и думать о прямом следовании по его пути. Преградой была догматика. Мы кидались от примитивной эмпирики к громогласной публицистике, не столько анализировали, сколько оценивали, воспевали или отвергали. Теперь, когда советское киноведение широко и уверенно движется вперед, исторические статьи Эйзенштейна наряду с его теоретическими трудами и в непременной связи с ними ложатся в основу киноэстетики социалистического реализма.
Это не значит, что все оценки Эйзенштейна бесспорны, что из его горячих, страстных, неразрывно связанных со временем, в которое они писались, статей нужно делать некую новую Библию. Эйзенштейн был не только ученым-эстетиком и историком, но и критиком, публицистом. И это особенно ярко сказывается в его рецензиях и портретах.
В статье «Крупным планом», предназначенной для первого номера вновь открывшегося после войны журнала «Искусство кино», Эйзенштейн, основываясь на делении киносъемок на общий, средний и крупный планы, выражающие различные точки зрения на явления, остроумно переносил это деление на методы кинокритики, вернее, на критические жанры, на способы разбора и оценки фильмов. Общим планом он называл публицистические статьи газет о фильме в целом, о его социальных качествах; средним планом — рецензии, очерки, рассчитанные на популяризацию фильма среди зрителей; крупным планом — профессиональный, эстетический анализ. Сам он владел всеми тремя способами.
Блестящие образцы критики «крупным планом» содержат теоретические исследования Эйзенштейна. В настоящем томе собраны отзывы, выполненные средним и общим планам.
Рецензии Эйзенштейна подкупают в первую очередь своей заботливой Доброжелательностью, кровной заинтересованностью в том, чтобы поставленные 18 в фильме художественная и политическая проблемы целиком дошли до зрителя. Поэтому Эйзенштейн часто связывает свои отзывы о фильмах с текущим политическим моментом, любит формулировать идею, тему фильма, говорить о его задачах. И вместе с тем он очень чутко улавливает и передает художественные особенности фильма, связывая их с проблемами развития кино. Сколько тонких замечаний о комическом содержит неопубликованная рецензия на «Стяжателей» («Счастье») А. Медведкина. Как точны замечания об актерской работе Щукина над образом Ленина в статьях совершенно «общего плана», опубликованных в центральных газетах. Как много мыслей о поэтике документального фильма содержит рецензия на «Освобожденную Францию» С. Юткевича.
Но особый интерес представляют статьи «крупного плана», например «Мистер Линкольн мистера Форда». Она содержит великолепные мысли о сущности биографических картин, тонкий анализ изобразительной трактовки фильма, актерской игры, режиссерских приемов. Вряд ли можно полностью разделить восторженность оценок Эйзенштейна, но нельзя не заразиться юношеской увлеченностью великого мастера, его влюбленностью в фильм.
Мне кажется, что нередко Эйзенштейн увлекался и преувеличивал достоинства фильмов (например, фильмов «Крестьяне» или «Страна Советов»), но какой критик не знает за собой этого? Обрадовавшись чему-то удачному, соответственному моменту, совпадающему с твоими ощущениями, чаяниями, настроениями, кто из критиков не перехваливал произведения, потом забытые или даже осужденные?
Свои критические отзывы Эйзенштейн часто связывал со злобой дня, охотно он откликался на текущие события непосредственно, прямо, то требуя вмешательства комсомола в дела деревни, то обличая фашизм, войну, то обращая страстные слова дружбы, гнева, справедливости к мировой общественности, к американскому народу, к Советскому правительству. Он был хорошим газетчиком — оперативным, чутким к биению современности, умеющим писать ярко, остро, задорно.
Как всякая публицистика прошлых лет, некоторые статьи Эйзенштейна покажутся сейчас устаревшими, чуть старомодными. Но это может служить доводом в том, что в свое время они были своевременны, уместны. Взять, например, статью «Единая», которая была написана к тридцатилетию Октября, но по неизвестной причине осталась неопубликованной. Ее начало не содержит, казалось бы, ничего оригинального, но как расправляет она крылья, каким широким оказывается ее нравственный и политический диапазон, когда Эйзенштейн заговаривает о своем поколении, о его озаренности Октябрем и о его задачах в будущем. Мысли о «суперсонной», то есть сверхзвуковой авиации сейчас могут показаться устаревшими., но мечта опрокинуть всю систему выработавшегося представления о времени и пространстве — дерзка и увлекательна. Эту статью вполне можно сравнить с выступлением А. П. Довженко на Втором съезде писателей. Довженко мечтал о полетах в космос. Эйзенштейн мечтал о полете в коммунизм.
Ему были доступны и мировые масштабы, и дерзкий полет сверхзвуковой и сверхсветовой мечты, но не чуждался он и дел малых, повседневных, прозаических, например организации кинопроизводства. Его острые, дискуссионные, полемические статьи об этом в свое время гремели: «Догнать и перегнать», «Даешь Госплан», «Конец мансарде». Теперь они интересны, пожалуй, лишь для историков: слишком изменилась, ушла вперед техника кинопроизводства, но все же «Можем», «Разумное мероприятие», «В энтузиазме — основа 19 творчества», написанные на производственные темы и помещенные в этом томе, сохранили свое значение и посейчас. Эйзенштейну было глубоко чуждо индивидуалистическое пренебрежение к производству. Великий художник — он был опытным, дисциплинированным и гибким производственником, осознавшим коллективный характер творчества в кино и умевшим ценить усилия и мастерство каждого сотрудника.
Не менее чужда была Эйзенштейну анархическая позиция неуправляемости художника, ненужности для него руководства. Он требовал и планирования творчества, и постоянного, рачительного руководства, рачительного, но не насильственного, не грубого, а умного, художественного. В набросках речи на производственном совещании, озаглавленных «Нет повести печальнее», он писал: «Пока не будут человеки и человеческое обращение, а механистическое вымещение на людях постановлений — ничего не будет». И далее: «Чего хочет творческий работник? Доверия к своей работе и возможности творить»13*. В черновых заметках «Земля наша обильна… но порядка в ней нет» он с горечью пишет: «Монахами руководят иеромонахи. Инженерами — старший инженер. Учеными — наиболее авторитетный научный работник. И даже зубрами — самый лохматый, но непременно зубр, а не какаду. Нами же — с точки зрения творческой квалификации — “невесть кто”. Милые люди. Хорошие хозяйственники. Должно быть, блестящие администраторы. Но дяди, говорящие на других языках. Результативному столпотворению вавилонскому удивляться не приходится». И он смело, ответственно, горделиво требует привлечения к руководству кинематографией — творческих работников. Но с той же объективностью, с той же прямотой он говорит и что «засорение рядов творческих кадров неимоверно», что необходим отсев, изобличение творчески несостоятельных людей.
В наших непрекращающихся организационных и реорганизационных бедах прислушаться к голосу Эйзенштейна просто необходимо, поучиться у него общественному темпераменту, гражданственности и прямоте — спасительно.
Общественная активность, горячая жажда деятельности и широта интересов Эйзенштейна очевидна и когда читаешь его очерки и заметки, посвященные современникам, главным образом людям искусства. Они объединены нами в разделе «Портреты и наброски», охватывающем более чем двадцатилетний период, с 1926 по 1947 год, то есть весь период его литературно-публицистической деятельности.
Портретные зарисовки А. М. Горького, Анри Барбюса, В. В. Маяковского, В. П. Чкалова, Ч.-С. Чаплина написаны для газет в связи с памятными датами — порой радостными, порой печальными. Все они овеяны чувством глубочайшего уважения к людям творческого подвига, отдавшим всю свою жизнь служению любимому делу. Для каждой, даже самой маленькой заметки Эйзенштейн находит свежие и оригинальные слова, обычно основанные на личных впечатлениях, наблюдениях, встречах.
Словно крупным планом показывает Эйзенштейн дрожащие от волнения пальцы Горького, читавшего свой сценарий, серую щетину, серые орлиные глаза Гриффита, случайно встреченного в гостиничном холле, папиросу на губе Маяковского, тростниковую стройность Довженко, угрюмую трепетность Коллинза. Неожиданно, парадоксально, но пронзительно верно сравнение Чаплина… с волком, а в другой статье еще более точно… с ребенком!
20 Эйзенштейн как бы впивается глазами в человека, старается проникнуть в его душу, испытывая к нему требовательный, нетерпеливый, горячий и всегда доброжелательный интерес.
Особенно охотно, подробно и любовно пишет Эйзенштейн о людях, с которыми он сотрудничал, которых, следовательно, мог наблюдать в работе, в творчестве. Все равно, будь это гениальный композитор Прокофьев, перед творческой щедростью и деловитой точностью которого Эйзенштейн преклоняется, будь то ближайший сотрудник и друг — Эдуард Тиссэ, которого Эйзенштейн называет глазом и сердцем своим, или работники скромные — портные, гримеры, монтажницы, которые и в титрах фильмов не упоминаются, Эйзенштейн ко всем равно внимателен, всем равно благодарен: он сотрудничал, сотворчествовал с ними, а что может теснее сблизить людей? Полюбив человека, Эйзенштейн оставался ему верен до конца. Каким восторгом, какой благодарностью за талант, за сотворчество пронизана его большая статья о Юдифи Глизер, которая вместе с М. М. Штраухом работала с Эйзенштейном в театре Пролеткульта, а потом над комедией «МММ», которую так и не удалось завершить! Как остро и с каким уважением написал эссе об эссеисте Иване Александровиче Аксенове, сначала преподавателе, потом сотруднике, потом исследователе творчества Эйзенштейна. Как дружески и тепло написал очерк о журналисте Михаиле Розенфельде и фотографе Дебабове. Оба они участвовали — один писал репортажи, другой делал рекламное фото — в работе над «Бежиным Лугом», работе, которая так трагически закончилась, но тем больше любви и благодарности к доброжелателям осталось в сердце Эйзенштейна.
До последних своих дней Эйзенштейн слышал упреки в недооценке творчества актеров. Даже после его смерти актер, им глубоко любимый и широко прославленный, — Н. К. Черкасов в своих мемуарах осуждал методы его работы с актерами. Но если вчитаться в написанные в самый разгар «типажных» увлечений строки о киноактрисе А. С. Хохловой или гораздо более поздние заметки о театральном артисте Б. Н. Ливанове или о балерине Г. С. Улановой — разве не станет понятно, что Эйзенштейн всегда глубоко ценил и тонко понимал актерское творчество?
Начиная с теории «типажа», направленной против актерских штампов, за приближение фильма к реальной действительности и сыгравшей поэтому положительную роль в развитии советского кино, Эйзенштейн рассматривал творчество актера всегда в связи с другими компонентами фильма, в синтетическом единстве полифонического произведения киноискусства. Он не считал актера гегемоном, не собирался «умирать в актере», но прекрасно разбирался и в психологии актерского творчества и в методах работы режиссера с исполнителями ролей, создателями человеческих образов.
С живым чувством написаны Эйзенштейном портреты режиссеров, с которыми он работал рядом, плечом к плечу в павильонах «Мосфильма» или сталкивался на совещаниях, просмотрах, дискуссиях: Довженко, Ромм, Пырьев получили точные и яркие характеристики. Порой некоторые фильмы этих мастеров переоценены, порой Эйзенштейн не может скрыть своего неприятия других фильмов, однако он всегда стремится оценить творчество своих коллег объективно, подчеркнуть в нем лучшее, найти ему достойное место в общем процессе развития киноискусства.
Эйзенштейн был совершенно лишен чувства творческой зависти или конкуренции. Он радовался чужим достижениям как своим собственным, и, если к нему не заходила «праздношатающаяся фея» из его статьи «Мистер 21 Линкольн мистера Форда» и не предлагала ему стать по мановению ее палочки автором любого понравившегося ему чужого фильма, — радость от существования прекрасных фильмов, кем бы они ни были поставлены, Эйзенштейн испил полной чашей. Это драгоценное качество позволяло ему быть замечательным педагогом, Учителем с большой буквы, умеющим радостно и щедро выявлять, развивать чужие мысли, способствовать оформлению творческих замыслов своих учеников и друзей.
Педагогическая деятельность Эйзенштейна ждет своих исследователей. В предыдущих томах широко представлены стенограммы его лекций во ВГИКе (Гос. институте кинематографии, именовавшемся то так, то еще Высшим или Всесоюзным). Воспитанию молодых режиссеров Эйзенштейн отдавался всей душой, безраздельно, самозабвенно.
В общении с молодежью, со студенчеством топил он личное горе, личные неудачи — и невозможность завершить «Да здравствует Мексика!», и гибель «Бежина Луга», и незавершенность многих, очень многих замыслов. Ими он делился с учениками, щедро отдавая им самые сокровенные художественные открытия и изобретения. Большинство основных его работ — «Вертикальный монтаж», «Неравнодушная природа» — были проверены, испытаны на студенческой аудитории, а «Монтаж», «Книга о режиссуре» рождались из стенограмм его лекций.
Работе с молодыми посвящено немало и публицистических статей. Мы публикуем «Письмо в ГИК», написанное в Соединенных Штатах Америки в нелегкую годину, когда на досъемку «Мексики» уже не оставалось денег, а неумолимое руководство советским кино все настойчивее и жестче требовало возвращения. Письмо студентов режиссерского факультета, мечтавших об учении у Эйзенштейна, несказанно обрадовало и ободрило его. Другие статьи и варианты учебных программ, значение которых уменьшилось с течением времени, мы не публикуем, но тем интереснее привести отрывок из «Заметок о молодых кинематографистах», напечатанных в «Правде» за несколько дней до начала войны (16 июня 1941 года).
«В Европе и Америке, где мне приходилось довольно часто рассказывать о воспитании в Советском Союзе молодых творческих кадров, маститые иностранные коллеги никак не могли понять, почему у нас старшее поколение киномастеров воспитывает молодежь. “Ведь они потом будут отбивать у вас же хлеб!” — говорили эти люди, опасающиеся при встрече друг с другом даже думать о собственных планах из страха, как бы собеседник не украл их.
Первый ответный довод они понимали легко: хлеба в нашей стране хватит на всех, а спрос на зрелища весьма велик.
Сложнее иностранным коллегам было понять другое важное обстоятельство: работа мастеров с молодежью, и не только с молодежью своего “собственного” театра или студии, есть яркий показатель того, что в своей творческой деятельности советский художник так же последовательно преодолевает и преодолел “собственнический” инстинкт, как в сознании нашей страны в целом преодолен культ частной собственности».
В архиве Эйзенштейна сохранились черновые наброски отчасти на русском, отчасти на английском языках, в которых он вспоминает о своих умерших и погибших в годы Великой Отечественной войны учениках. Сырые, поспешные, совсем не обработанные литературно, заметки эти полны отеческой заботы и горя. И как всегда, Эйзенштейн поднимает свои личные переживания до уровня общественных, общечеловеческих: «Многим нужно 22 внимание и участие, — пишет он. — И сейчас, как никогда, священным долгом нашим должна быть забота о человеке. Забота о людях, которых война поставила на дальнейшее продвижение и сохранение кинокультуры. Вывести в сохранности и творческой мощи наши кадры кинематографистов из годов мировой бойни — такая же наша почетная и героическая задача, как задача полководца вывести из окружения свои полки» (ЦГАЛИ, ф. 1923).
Да, он был и отцом и полководцем молодой советской кинематографии, и не только его гений, не только его эрудиция, но и его величественная устремленность в будущее, его мужественная ответственность перед лицом истории за судьбы родного искусства — делают неумирающим, актуальным, вечно современным его наследие.
Перед лицом культуры будущего, перед грядущими поколениями людей стоит Эйзенштейн — не человек Возрождения, а истинный человек социализма — труженик, новатор, творец. И пусть к его многочисленным званиям — режиссер, теоретик, художник, драматург, педагог — этот том прибавит еще три: историк, критик, публицист.
23 КРИТИЧЕСКИЕ
И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СТАТЬИ
1926 – 1947
25 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
(Вместо
предисловия)*
Конечно, трудно найти более пошлое название для сборника статей о кино, нежели то, которое здесь стоит заголовком.
Есть такие сборники «Речи и тосты на всякие случаи жизни», где учат, как надо в речах обращаться с невестой в зависимости от того, за кого она выходит замуж.
Если за садовода — говори о «нежнейшем цветке». Если за охотника — о «робкой лани». Если за купца — о «драгоценнейшей жемчужине». Если за архитектора — то о «стройности домашнего очага», а если за музыканта — то о «жизненном дуэте». Педагог, юрист, почтовый чиновник, лесничий, врач, банкир и т. д. и т. д. — каждый найдет в таком сборнике какого-нибудь В. Д. Эфенди (Спб., 1900) изящное упоминание его профессиональной принадлежности в соответствующем свадебном тосте. К нему и отсылаем читателя, несомненно, заинтересовавшегося этим пантеоном пошлости.
На первый взгляд так же пошло звучит заглавие сборника.
Но здесь оно, к сожалению, глубоко мотивировано.
И в нем заключена основная моя беда.
Вернее, беда большинства моих высказываний о кино.
Я поступал всегда очень скромно: брал ту или иную черту или сторону киноявления и старался в ней по возможности обстоятельно разобраться.
Брал ее «крупным планом».
Но законы кинематографической перспективы таковы, что таракан, снятый крупным планом, с экрана кажется во сто раз страшнее, чем сотня слонов — общим планом.
26 Такой же закон довлеет и широко за пределами кино.
А потому мои работы и рассуждения о частных сторонах того или иного киноявления — взятого крупным планом — казались часто поглощающими всю проблему кино, ибо задевали внимание больше, чем рассуждения о «кинематографе в целом», взятые общим планом или, попросту говоря, поверхностно.
Слишком в кинописаниях господствуют «взгляд и нечто», и потому так пугают мои «тараканы крупным планом».
Такой зверинец крупным планом и сейчас перед читателем в этом сборнике статей, частично просто собранных, частично обработанных, частично написанных специально.
И прошу я читателя об одном: не поступайте ни со всем собранием статей, ни с отдельными его статьями так, как поступали в недалекое и недоброе время со сценариями о деревне, вопрошая про каждый из них: а где же промкооперация? а где прополка? а почему не показана выжеребка? а как с повышением удойности? а почему нет показателей яйценоскости?
Читайте в статьях то, что в них есть, и не ищите того, о чем они не пишут.
Ищите в статьях то, про что они написаны, а чего среди них нет и о чем в них не сказано, так про то найдутся люди другие, чтобы написать.
27 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНО
29 БУДУЩЕЕ СОВЕТСКОГО КИНО*
Может быть, не совсем удобно именно мне выступать в качестве «провозвестника будущих судеб» советской кинематографии, потому что я являюсь достаточно непримиримым сторонником одной из линий советской кинематографии.
Подобных линий в развитии советского кинематографа имеется три.
Первая — которая производит картины под заграничные, совершенно не заботясь о нашем материале, о нашей идеологии и о тех требованиях, которые мы предъявляем кинематографу.
Вторая линия — линия, приспособляющая опыт и приемы заграничного кино, в большинстве по строю и формам идеологически мало нам отвечающие, мало подходящие и к специфичности нашего содержания, но удобные на предмет перелицовки под наш спрос.
Третья линия пытается, исходя из новых социальных предпосылок нашего строя, материалистическим и марксистским подходом к киноискусству и к задачам искусства вообще наметить совершенно иные приемы, резко отличающиеся от общепринятой кинотрадиции.
О судьбах этих трех направлений?
Конечно, фактически, как за всяким приспособленчеством, ближайшее будущее останется, хоть этого и не должно быть, за второй линией.
Я полагаю, что наибольшее количество картин пойдет именно в формах, подражающих западноевропейским «Парижанкам»1 и «Варьете»2, но работающих на нашем материале. Это наиболее 30 легкий путь и наиболее симпатичный для широкой и консервативно настроенной публики и также наиболее доступный к восприятию.
Что касается первой линии, то нужно надеяться, в особенности в связи с имеющим быть партийным совещанием о кино в январе месяце 1928 года3, что ей наконец будет дан решительный отпор и впредь она будет ограничена в том пышном расцвете, какой имеет место сейчас.
По третьей линии предстоит еще глубокая и упорная борьба, ибо по этой линии возникает целый ряд новых и трудных задач.
Мы уже знаем пути оформления картин на массовые проявления в совершенно ином разрезе, чем это сделано хотя бы американским кинематографом. Ясно, что на этом успокоиться мы не можем, и сейчас, когда идет установка не только на коллектив как на таковой, поскольку внимание обращается на слагающие единицы коллектива, то рефлекторно массовое проявление должно замениться проблемами индивидуально-психологическими.
Сейчас задача наша состоит в том, чтобы найти такой же правильный путь для дискуссионной расшифровки, а не для изображения целого ряда психологических потрясений, которые происходят в ряде возникающих бытовых фигур. И в частности, здесь многое должно быть дано и заново пересмотрено в вопросе об исполнителе. Нужно сказать, что, несмотря на то, что ближайшее будущее идет под знаком профессионализации и квалификации актера, все-таки думаю, что так называемый «типаж» должен оправдать ту точку зрения, которая в свое время сказана была о рабочем театре и там не оправдалась: а именно, что «только рабочие могут играть рабочих»4; точку зрения, относящуюся к тому периоду, когда вообще много ошибочно теоретизировали и мудрили по вопросу о театре. К тому забавному периоду, когда считали, например, что «Саламанкская пещера»5 — самая необходимая для рабочего класса пьеса. Как я писал уже раньше, я думаю, что точка зрения о рабочем и крестьянском исполнителе как единственном способном являть бытовое проявление соответствующей среды должна целиком себя оправдать и реабилитировать в кино.
В этом отношении кое-какой опыт уже имеется, и в дальнейшем нужно будет, исходя из этого положения или, вернее, пользуясь этим положением, пересмотреть вообще строй бытовых и психологических вещей, строить совершенно иначе и вещи и задания, исходя из абсолютно нового исполнительского материала — человека с натуральными проявлениями, а не изобразительно-актерскими.
Новое понимание психологической роли и деятельности фильма основным положением устанавливает, что важно провести через ряд психологических состояний аудиторию, а отнюдь не показывать ей ряд психологических состояний, в каковых себя изображают исполнители.
31 Но большой вопрос, правилен ли этот путь вообще и имеем ли мы право далее обращаться к аудитории со столь примитивными и кинематографически сомнительными приемами, как театральное «сопереживательство». Полагаю, что почва теоретически достаточно взрыхлена, чтобы стать на этот совершенно новый путь психологической обработки аудитории. И сейчас время за практическим экспериментом. От слов к делу.
Это приблизительно то, что можно сказать о художественной кинематографии.
Конечно, самое серьезное внимание должно быть обращено на научно-хроникальные пути кинематографии, которым до сих пор уделялось чрезвычайно мало внимания.
Характерно, что такая богатая в организационном отношении страна, как Германия, сейчас под влиянием американцев приостанавливает производство культурных фильмов. В Германии существует ряд театров специально для научно-культурных постановок. Теперь эти театры уничтожаются, так как, конечно, еще более выгодно прокатывать слезоточивые вещи, нежели культурные. Поставить же у нас на должную высоту культурные и научные фильмы — одна из первых и боевых задач.
В конце первого десятилетия советской кинематографии замечается все же резкий переход от художественной «в себе», пусть даже агитационной картины к совершенно иному использованию так называемых художественных, то есть эмоционально воздействующих приемов.
Взять хотя бы тенденцию, в которой строилась еще не вышедшая «Генеральная линия»: не как самостоятельная картина «с тенденцией», а как эмоционально оформленный ряд сельскохозяйственных положений.
Заострением в подобных вопросах установок и более научной и подробной разработкой вопросов воздействия на аудиторию удастся все-таки со временем свалить непременную гегемонию актера.
В поисках разрешения проблемы киноактера большинство прозевывает те колоссальные возможности, которые лежат вне его, — возможности более совершенные как чисто кинематографические, так и пропагандистски-утилитарные.
32 НАШ «ОКТЯБРЬ»
По ту сторону игровой и неигровой*
Из двух дерущихся — прав обычно третий.
Сейчас на ринге:
игровая — неигровая.
Значит, правда за третьей.
За внеигровой.
За кино, ставящим себя по ту сторону от игровой и не игровой.
За кино, стоящим на своих ногах, со своей, еще пускай не обозначенной, терминологией.
Фильмовое направление, ставящее себя вне этого противопоставления, вступает совершенно законорожденно и своевременно.
К моменту стопроцентной победы лозунгов предшествующего этапа. К моменту общепризнанности их. К моменту доведения этих лозунгов через этапы очевидности, опошления, трюизма — до этапа абсурда.
В такой момент обыкновенно происходит диалектическое опрокидывание подобного этапа резко противоположным.
Теоретическое новшество — «неигровая» — в свое время сменило сюжет на факт.
Иллюзию на материал.
На смену эстетической фетишизации пришел фетишизм материала.
Но фетишизм материала — это еще не материализм.
Он остается в первую очередь все же фетишизмом.
Когда вопрос гегемонии «материала» перешел во всеобщее потребление, в кликушечный вопль, в «культ» материала — пришел конец материалу.
33 И новая страница имеет развернуться под резко обратным лозунгом:
ПРЕЗРЕНИЕ К МАТЕРИАЛУ14*.
До чего жутко звучит с непривычки.
Но.
Рабы машины становятся хозяевами машины.
Рабы материала — становятся использователями материала.
Если над предыдущим периодом довлел материал, вещь, сменившие «душу и настроение», то последующий этап сменит показ явления (материала, вещи) на вывод из явления и суждение по материалу, конкретизируемые в законченные понятия.
Кинематографии пора начать оперировать абстрактным словом, сводимым в конкретное понятие.
Новый этап пойдет под знаком понятия — под знаком лозунга.
Период «натурального хозяйства» в кинематографии приходит к концу.
Игровое — «Я ревную» («Варьете»1), промежуточное — «Мы боремся» («Потемкин») и неигровое — «Я вижу» («Шестая часть мира» и «Одиннадцатый»2) — остаются на уже оторванном листке календаря.
К тому же — материал как материал отказывается работать дальше.
Материал начинает выдерживать только в условиях «экзотизма».
В «Одиннадцатом» уже мучительно смотреть машины.
Засъемка, монтаж и использование материала работающей машины становится у нас традиционными, как Рунич и Худолеев3.
А было время, когда кручение колес машины «как таковое» являлось исчерпывающим.
Сейчас лозунги вокруг машины усложнились — усложнены взаимоотношения вокруг машины.
А колеса крутятся по-прежнему однозначно.
И «как таковые», как материал не могут дать больше того, что имеют, как принято выражаться о самой прекрасной девушке.
Период возни с материалом был периодом осознания монтажного куска как слова, иногда — буквы.
«Октябрь» в некоторых частях своих пробует делать следующий шаг, пробует подыскать речь, строем своим уже целиком отвечающую подобной словесности.
Сферой новой кинословесности, как оказывается, является сфера не показа явления, ни даже социальной трактовки, а возможность отвлеченной социальной оценки.
34 В примитивах — это линия арф и балалайки. Дискредитирование богов. «За что боролись» — над грудами оптом заготовленных георгиевских крестов. Корниловская реставрация. Развенчания Зимнего дворца — «морального» его разгрома в штурме и т. д.
Прием оказался на первых порах связанным с элементами зубоскальскими и работает пока в области обрисовки «противника».
Остальное держалось в более или менее патетической традиции предыдущих работ.
Но если двойственность вещи ослабляет ее, может быть, ударность в целом, то подобный диалектический разлом отраден другим.
Тем, что он свидетельствует о жизнеспособности. Тем, что он имеет перспективу. Что в нем уже есть и вексель и гарантия на вещь будущего.
Надо не забывать, что уравновешенная цельность «Потемкина» расплачивалась за максимальный эффект — предельным исчерпыванием пути своего стиля.
По пути «Потемкина» дальнейшей продвижки нет. Могут быть только вариации в тех же приемах на иные, может быть, темы.
<И нужно помнить, что целостности «Потемкина» явились за счет предшествовавшей «Стачки», тоже двойственной, тоже диалектической.
Мне вскользь пришлось слышать мнение, что в «Октябре» пропал стиль «Потемкина» и что «Октябрь» продолжает стиль «Стачки».
Это абсолютно безграмотная точка зрения.
Не стиль он продолжает, а помимо самостоятельной роли как вещи он еще играет роль «Стачки» по отношению к следующей вещи, которая пока что имеет быть.>
Вещи, в которой уже, может быть, удастся подойти к настоящему чистому кинематографу — кинематографу по ту сторону игровой и неигровой, но одинаково отстоящему и от «абсолютного» фильма.
Нащупав, что такое слово, образ, речевой фрагмент киноязыка, мы можем теперь начинать ставить вопрос о том, что и как кинематографически выразимо.
Это будет сфера изложения понятия, освобожденного от сюжета, от примитива: «любовь, как я люблю», «усталость — усталый человек».
Это будет искусство непосредственной кинопередачи лозунга. Передачи столь же незасоренной и прямой, как передача мысли квалифицированным словом.
Эпоха непосредственной материализации лозунга на смену эпохе лозунга о материале.
Хребетность лозунга для наших киновещей, по крайней мере частично наших, а не только «лояльных», отнюдь не может служить отводом для излагаемого здесь.
35 Пора научиться делать вещи непосредственно из лозунга.
Сменить формулу «исходя из материала» на формулу «исходя из лозунга».
После «Октября» мы можем занести руку на попытку подобного разрешения проблемы. Постарается решить эту проблему следующая наша вещь.
Это не будет «Генеральная линия». «Генеральная линия» в том же формальном уровне современница «Октября». На нее выпадет роль популяризации частичной зауми «Октября» в приближении этих приемов к большей общедоступности вообще.
Попытку разрешения этой громадной и труднейшей проблемы, прокламируемой «Октябрем», сумеет принести лишь следующая наша (плановая) капитальная работа.
Потому что только в таких путях мыслится разрешение задач, которые она себе ставит.
«Капитальный» этот труд будет делаться по «либретто»… К. Маркса и будет именоваться —
«КАПИТАЛ».
Сознавая необъятность этой темы в целом, мы в ближайшее время приступаем к отграничению того, что из этой темы может быть кинофицировано в первую очередь.
Эта работа будет вестись совместно с историком А. ЕФИМОВЫМ4, нашим консультантом по сценарной разработке «Октября».
36 ПРЕДИСЛОВИЕ
[К книге Гвидо Зебера «Техника кинотрюка»1]*
Советская кинематография находится в настоящий момент в самой любопытной стадии своего развития.
Больше того.
Я думаю, что только сейчас мы можем начать догадываться о тех путях, которые создадут кинематографию действительно советскую, то есть кинематографию, не только по классовой принадлежности противоположную буржуазной, но и категорически отличную по самой своей методике. Мною как-то высказывалась мысль, что кинематография, начав свой пробег с использования литературной бульварщины (детективно-сюжетный жанр) — через систему высококвалифицированного театра (система «старов» и «ведетт»2), немецких живописных фильмов (от импрессионизма до «Доктора Калигари»3), беспредметничества и возводимого в поэму «видовизма» вновь возвращается в то состояние, которое я назвал, в отличие от первого, вторичным литературным периодом.
Но если в первом литературном периоде кинематограф опирался на сюжетно-фабульный драматический или эпический опыт литературы, то есть заимствовал у литературы элементы конструкции вещей в целом, то, в отличие от него, второй литературный период использует литературу по другой линии — по линии опыта ее в технологии материалов, которыми орудует литература.
Здесь кинематография на первых порах пользуется опытом литературы для выработки своего языка, своей речи, своей словесности, своей образности. Заканчивается период, когда блестящие с драматургической точки зрения произведения произносились 37 с точки зрения чистого кинематографа детским лепетом. Примером может служить «Парижанка»15* — самое, может быть, замечательное кинопроизведение изживаемой эпохи кинематографии.
Новый период кинематографии атакует вопрос изнутри — по линии методологии подлинно кинематографической выразительности.
Не мудрено, что на первых порах она картавит в конструкции. Секрет здесь в том, что новый создающийся киноязык только начинает нащупывать то, для выражения чего он пригоден и призван. Попытки говорить неподходящие и неподобающие вещи приводят к конфузу.
Помните, как у Пушкина: «Этот человек способен сделать из своего голоса все, что угодно». — «Пускай он из него прежде всего сделает себе пару брюк»4.
Новый же кинематографический язык меньше всего призван для перешивки драматургических брюк!
Сферой работы новых кинематографических возможностей явится непосредственная экранизация классово полезных понятий, методик, тактик и практических лозунгов, не прибегая для этого к помощи подозрительного багажа драматического и психологического прошлого (см. об этом мою статью «По ту сторону игровой и неигровой»).
Совершенно очевидно, что подобный переворот в установках и заданиях неизбежно возникает только в условиях не менее значительного сдвига в социальном плане, каким и является переход к культурной революции, то есть к подлинно самостоятельному новому этапу социального развития, окончательно сменяющему эпоху военного коммунизма и «смутного времени» нэпа.
Социальный прицел кинематографии существенно перемещается. Если перед кинематографией предыдущего периода стояла задача — в первую очередь максимально спружинивать агрессивные эмоции в определенном направлении, с непосредственной (и по возможности — оглушительной) темпераментной разрядкой в эту сторону, то задача кинематографии эпохи культурной революции значительно сложнее: углубленное и длительное всверливание в сознание воспринимающих новых понятий или переустановка 38 в понятиях общепринятых. Если в первом случае мы добивались эмоционального немедленного взрыва, то новые вещи должны включать углубленные мыслительные процессы, в результате которых не сейчас, не непосредственно, не сразу, а в свое время должны вызываться катастрофы, во много раз более категорические и разрушительные в отношении нашего классового врага, — «темперамент, распяливаемый на пятилетку».
Конечно, подобное задание не по охвату старой колченогой кинематографии. Новая же кинематография, орудующая понятиями, целиком еще в периоде формального становления.
И как пересмотр под новым углом зрения основного спутника колыбельного периода кинематографии — литературы — дал необъятно много в укреплении самой формальной идеологии новой кинематографии, так пересмотр тоже под новым углом зрения технических азов ее возможностей, сугубо популярных в том же младенческом ее периоде — периоде особого расцвета технического трюка, должен дать большое накопление данных для новой формальной ее методики.
Предлагая перевод книги замечательного оператора, патриарха трюкового фильма Гвидо Зебера, я хотел бы предупредить изучающих ее, что излагаемый им материал в условиях переживаемого нами этапа кинокультуры может иметь в деле становления киноязыка, орудующего понятиями, гораздо более значительные перспективы, чем забавление или устрашение «почтеннейшей публики».
Технический кинотрюк вчера — это или эпатаж для «галерки» (трюк в прямом смысле), или элемент перегруженного «барочного» письма витиеватых режиссеров (картпостальный эффект5 многократных экспозиций или чисто стилистическая манерность, например — немотивированный наплыв). Сегодня же он приобретает новое назначение. «Техническая возможность», бездарно названная «трюком», несомненно такой же значительный фактор строительства новой кинематографии, как и новая монтажная мысль, ее породившая.
Поэтому совершенно правильна установка юных переводчиков маститого Зебера, авторизованность перевода коих свелась к приближению его книги в сторону справочника технических возможностей кино, в отличие от занимательной «хрестоматии по трюкам», чем в значительной степени является немецкий беллетристически выдержанный подлинник и чем он и не мог не явиться в условиях окружения германской, развлекательной прежде всего кинематографии.
39 ПИСЬМО В ГИК*
Дорогие товарищи!
Письмо, полученное от вас, меня глубоко обрадовало, подчеркнув, что рабочий контакт и взаимное понимание наше выдерживает самое губительное испытание — испытание временем, и что и впредь мы будем совместно драться за окончательное овладение теоретическими и практическими методами создания большевистского кинематографа. Но, с другой стороны, меня письмо ваше и не удовлетворило и обеспокоило: я запрашивал вас о ряде совершенно конкретных вопросов. И в первую очередь о подробном изложении того, как ведется в ГИКе сейчас преподавание диамата1 и [о] подробной программе. Этот запрос даже не удостоился упоминания в вашем ответе, и меня это тревожит — не есть ли это симптом того, что в реорганизованном ГИКе снова этот вопрос неблагополучен?!
С другой стороны, до меня доходит немало других тревожных сведений о вашей работе и условиях ее (доклад тов. Лялина в АРРКе2 и немало заметок и статей). В чем дело? Есть же такой добрый старый лозунг: «Деритесь как черти!» Почему нет ему приложения в вопросе организации ГИКа и завоевания возможностей его работы?
Кто из производственников с вами в прямом контакте? Кто из общественников? Персонально и без «обезличек»?
Если вам наконец удается добиться того, что гиковцы целиком выходят на производство, — это, понятно, громадный шаг вперед и крупное достижение.
Но весь вопрос в том, с чем товарищи выходят на производство. Недостаточная методологическая вооруженность от школы, 40 отсутствие направляющих данных к подходам в киновопросах обрекают человека, вышедшего на производство в таких условиях, на немедленный слом в рутину и шаблон повседневной установочной серости. Мы ждем из ГИКа не людей, а самую злую, боевую свежую и классовую атаку на нас, «стариков», неизбежно смазываемых, теряющих гибкость и живую ударность в неизбежном профессионализме.
Не только пучок знаний должен гиковец выносить на производство, но прежде всего ясность в подходах к проблемам советского кино. Перегрузка практикой на производстве так велика, что систематический подход к проблемам там почти немыслим. Человек после производственного дня валится с ног. А если не валится, то ему не место в строительстве кинематографии, ибо в ней еще все так не устроено по всем линиям, что нужно полтора человека на место одного!
Я знаю рвение гиковцев — скорее на производство. Но мне это представляется, как если бы беременные женщины решали бы ударно рожать в семь месяцев. «Ускоренность» в школе вреднейшее увлечение. Мы не в положении школ прапорщиков ускоренного «выпуска» во время войны, когда задача была наготовить побольше полукомандного пушечного мяса, а не выработать строителей-созидателей. Или программы сделаны без учета реального времени усвоения, и тогда надо пересматривать планы и сроки, или обучение идет в порядке зазубривания наизусть, что создает самый отвратительный тип книжного эклектика.
Повторяю, ГИК должен выработаться аппаратом большей сейсмографической четкости и реакции на сегодняшний великий день-период, чем всегда находящиеся под риском «замшиветь» среди железных сценариев, административных трудностей и пр[очего] «профессионалы».
Обучать невозможно — можно только учиться. Нужно уметь брать и заставлять себя давать. Самое великое искусство — это умение ставить вопросы и добиваться ответов. Если вы не сумеете это сделать, никакого оправдания вам не будет перед тем периодом, когда вы действительно станете на смену и не окажетесь на высоте.
Повторяю мое положение из первого письма и усиливаю его: основное обязательство каждого расцветающего на производстве — это прежде всего обязательство перед сменой и школой. «Прогул» по этой линии есть тягчайшее преступление в отношении всего будущего советского кино: сознательная подготовка «прорыва» на будущее, который заткнуть нечем.
Деритесь как черти и волоките запоповствовавшихся специалистов и мастеров.
В порядке нескромности в отношении многих моих коллег добавлю, что и для них это не менее важно, чем для вас! Это должно и их заставить поразмыслить об их творческих методах, ибо много 41 у кого из «именитых» не сознательный метод, а «блоха на аркане халтуры в производственной установке».
Я очень жалею, что не с вами, чтобы в какой-то мере помочь вам самим добиваться того, что вам нужно. «Хаотическим» методам, которыми мы добивались знаний без школ, без помощи и без поддержки, одиночками в море соревнования — конкуренции, должен быть категорически положен конец: на смену «хаосу рождения гениев» должна прийти планомерная и организованная выковка работников кинематографии.
Мои дела складываются так, что мне, возможно, придется остаться с группой еще на некоторое время в США. В связи с проектом будущей нашей картины «Пятилетка»3, для которой мы хотим использовать проезд через США в порядке засъемок, с целью наглядного кинопоказа той социальной системы, которая противостоит нам и разрушение коей всеми средствами — наша основная задача. Окончательное решение этого вопроса стоит в связи с принятием Союзкино программы на эту картину в целом.
42 В ИНТЕРЕСАХ ФОРМЫ*
«Курс нашего кино на идейную насыщенность».
Вот тема, которую газета «Кино» ставит на повестку дня, и очень своевременно, к юбилейным дням Октября.
Теофиль Готье1 проводил досуги, зачитываясь словарями.
И полагал это наиполезнейшим из чтений.
По крайней мере молодых авторов, вспыхивавших отрицательным отсветом на вопрос его, занимаются ли они тем же, отшивал он от литературной консультации беспощадно.
У меня в отношении словарей тоже плохая привычка.
Род недуга.
Слабость.
Предвзятое мнение, что первым спасителем слова или термина из окружающей бестолковщины [является] простой толковый словарь прежде всего.
Не столько энциклопедический, сколько этимологический.
Не всегда решая вопрос, на полезные размышления приводит, однако, всегда.
«Идейная насыщенность».
«Идеология».
«Идея».
Давно, вероятно, никто не заглядывал в греческий словарь.
А между тем…
Где-то между Ивиком, поэтом более популярным журавлями, чем стихами, и фригийской горой Идой А. Ф. Поспишиль в свой греческий словарь приютил идею.
Идея.
На стр. 476:
43 «… ίδέα ионическ. 1) вид, наружность; 2) образ, род, способ, свойство, качество…; особенно: способ изложения, форма и род речи; 3) идея, первообраз, идеал»2.
Эти три пункта — три кита киноискусства.
И об этих трех китах будет речь.
Лишний раз напомнить о генетической неразрывности… идеи (п. 3), способа изложения (п. 2) и… наружности — вида (п. 1).
— Это ново? — Ново.
Как фамилия Попова, —
писал о подобных «открытиях» Саша Черный.
Однако если это и не ново, то принадлежит к тем истинам, которые надо повторять себе ежедневно и перед завтраком и перед обедом. А кто не ужинает — и перед сном.
Главным же образом наяву.
И начать являть это в практику.
Это основной узел, над чем наиболее подходяще задуматься к XV Октябрю.
И именно сейчас, когда кинематографу нашему легче всего закатиться в оппортунизм от ложно понятого принципа развлекательности, с одной стороны, и дурной традиции голоштанной агитки — с другой.
К тематическому оппортунизму вряд ли кто имеет склонность.
К тому же и стальные ряды консультантов не дадут проскользнуть ему в картину.
Таким образом, дело будет касаться преимущественно оппортунизма формы.
И на мой взгляд, основная болезнь кино на сегодня — это болезнь второго и третьего пунктов триединой совокупности материализованной идейности3.
Советское кино так застращало самого себя ку-клукс-кланом «формализма», что почти ликвидировало само творчество и творческие искания в области формы.
Если формализм как научно-литературное направление имеет все данные к нападкам и осуждению, то прежде всего он имеет законченную и сформулированную платформу.
В кино же «формализм» был скорее создан «по аналогии» и не столько самими работниками, сколько критиками, искавшими жилплощадь под ярлычки.
Стоило кому-либо из кинематографистов призадуматься или поработать над проблемой выразительных средств для воплощения идеи, как на него немедленно падала тень подозрений и обвинений в формализме.
В «формалисты» забривали, как в рекруты.
Не дав протрезвиться и очухаться.
44 Так, кажется, молодого Ломоносова когда-то забрили в набор прусского короля.
Как в крещении Руси, стадами окрещивали формалистами всех, кто решался заикаться о форме.
На деле, к сожалению, подобных стад не было, — были две-три персоны, честно задумывавшиеся и над вопросами формы. К сожалению, как показывают последствия, их было не больше…
Окрещивать этих кинематографщиков формалистами было так же непредусмотрительно поспешно, как называть людей, изучающих проявления сифилиса… «сифилитиками».
Такой перегиб гонений на известном этапе вполне допустим.
Немного, может быть, переусердствовали, но с этим можно было мириться.
О небрежении к форме; о форме, которую забывают, писал еще Энгельс в письме к Мерингу от 14 июля 1893 года.
«Я должен указать только, что не хватает одного пункта, на котором ни Маркс, ни я в своих работах не останавливались достаточно подробно. В этом отношении мы все виноваты одинаково. А именно — мы все переносили и должны были переносить центр тяжести на то, чтобы выводить политические правовые и прочие идеологические представления и действия, на которые эти представления влияли, из основных экономических фактов. При этом мы из-за содержания не обращали должного внимания на формальную сторону: каким образом эти представления и т. п. возникают… Это старая история: вначале всегда из-за содержания не обращают внимания на форму… Но я хотел бы все же, чтобы в будущем вы обратили ваше внимание на этот пункт»4.
Подзапустила вопросы формы и наша кинематография.
И особенно за последние годы.
А она, забытая, и заныла сейчас, как запущенный зуб.
Мы очень содержательны, но в области формы хромаем на все четыре ноги.
Не в идеологии фильмов наши провалы на сегодня, а в форме.
В форме, не умеющей быть идеологией.
Анекдот сюжета еще туда-сюда благополучен наперекор даже традициям.
Действительно:
он бывает иногда и голосистым и глазастым, несмотря на то, что семью няньками консультаций вспеленут…
Однако не в ухищрениях формализма, действительного или мнимого, надо искать путей излечения киноформы на сей день.
И не только в правильном отображении содержаний.
Хорошая в себе идея.
Прекрасное содержание.
45 А либо агиточный лубок.
Либо на ложно понятых дрожжах развлекательности подымается такое… что просто страх берет.
А из большинства постных щей серятины средней продукции с экрана грустно повис гоголевский нос печального вздоха.
«Скучно на этом свете, господа…»5.
И это — в дни величайшего революционного подъема и энтузиазма.
Форме надо подтянуться.
Грозны ревизоры консультаций.
До рвоты дотошны.
Но никто из этих ревизоров здесь помочь не может.
Здесь помочь способен только тот «последний» ревизор, «неведомый» у Гоголя, который стоит позади их всех.
Очень он мистичен у Николая Васильевича.
От самого господа бога до самой священной особы государя императора Николая Павловича ухитрялись в нем узреть.
Наш попроще будет, хоть и он «внутри» нас.
Здесь дело во «внутреннем партбилете», независимом от при-численности к такому-то райкому.
Внутренний партбилет, независимый от партпринадлежности, должен быть во… внутреннем кармане всех тех, кто кинематографистами переступает пятнадцатый Октябрь.
Он-то и есть тот очень конкретный, собственный, внутренний «ревизор», которому нужно до конца прямо глядеть в глаза и не врать.
К сожалению, он как раз-то и оказывается чаще всех настоящим… Хлестаковым…
Идеологическая хлестаковщина — позади красивых фраз.
А в форме неизбежный спутник… «лабардан»6.
И лабардан формы с головой выдает хлестаковщину в области идеологии.
Известно, что слова даны на то, чтобы скрывать мысли, как говорил не то Талейран, не то Меттерних7.
Экран же был слишком долго немым, чтобы научиться врать.
От консультантов по теме и сюжету можно отбрехаться.
Залить или заговорить зубы.
Но есть пункт, где не наврешь.
Режиссер может часами трепать актерам отвлеченности о том, как следует сделать то-то и то-то.
Но есть момент, когда трепом уже не отвертишься.
«Выйди да сделай. Сам покажи».
Так и не только с актером.
В идеологии «экспликации» наврать всегда можно.
А на деле не выйдет.
Форма — всегда идеология.
46 И форма всегда окажется действительной идеологией.
То есть той идеологией, что действительно подлежит, а не той, в которую рядятся в трепотне разговорчиков.
Вот где зарыта собака.
Заливать об энтузиазме, пафосе или героике легко:
чужие слова можно подзанять в газетке, а произнося их, думать про Марусю, чтобы голосом пожарче звучать. За счет содержания речи жарок отнесут.
А снимать начнешь и резать — никакая Маша не вывезет.
Без энтузиазма ножницы ходили — без энтузиазма и лента бежать будет.
Без ненависти снимал — никакие зверства на экране ненавистью разгораться не будут.
Беспощаден наш экран в «срыве всех и всяческих масок» с авторов фильмов.
Иногда, когда Маруська заходит в самый фильм, вещь становится тогда вовсе уж не об энтузиазме, а про Катю и Машу, Дуню, Парашу или Фому и Ерему.
А экран, немой или звуковой, вопит об этом во все горло.
Форма фильма выдает автора с головкой.
Ловкачи насчет призыва в царскую армию любили притворяться глухими. Их выуживали стреляные воробьи — воинский начальник и призывной врач бесхитростным маневром невзначай роняли за спиной призывника монету.
Неминуемо тот оборачивался.
И «глухарь» бывал изобличен.
Так и с формой, если не рублем идейной полноценности подарит, то непременно где-то гривенником звякнет и фальшь изобличит.
Громадная методологическая работа проворачивается сейчас по овладению и обучению секретам творчества. Кинематографических образов и кинематографической формы.
Но учить ударно в первую голову не форме надо.
И изыскивать или выдумывать надо не форму.
Четко и ясно до конца, что дело в воспитании идейности, в среде творческих работников в первую очередь.
Идеологическое воспитание, а не идеологические «колодки», что имели в виду некие загибщики.
И об этом воспитании говорю я в интересах… формы.
Как старый, опытный, заядлый… «формалист».
На шестнадцатом году революции киноработнику уже нельзя продолжать состоять у революции «на службе» — надо к ней «принадлежать».
Иначе и кино не будет.
Форма прежде всего — идеология.
А идеология «напрокат» больше не выдается.
47 Закрытого распределителя на идеологию в природе не заведено.
А без идеологии, до конца воспринятой творческим работником, чего же от него ждать, как не опошленной обыденности вместо величия окружающих событий и «казенной» точки зрения в отношении того, что должно гореть энтузиазмом стройки социализма?
О достижениях же по линии обретения того нового революционного реализма, которого мы ждем, такими методами еще писал Ф. М. Достоевский Н. Н. Страхову из Флоренции 26 февраля 1869 года:
«… обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив…» («Неизданные материалы Достоевского», ГИЗ, 1931).
Лишь до конца вступив в ряды идей марксистско-ленинской идеологии, творческие работники сумеют включиться со всей ответственностью в осуществление на деле теории и практики ленинизма через кино.
Вот программа той огромной внутренней работы, которую должны ведущие парткадры проделать над теми, кто в рядах партии или вне их призван в непреходящих образах и формах запечатлеть и воспроизвести величайшую эпоху истории человечества.
В этом единственный залог идейной насыщенности нашего кино.
В этом же единственная возможность ее идейной насыщенности.
В осознании идейности до конца и как первоосновы совершенства формы лежит основа дальнейшей победоносности советского кино как самого могучего из искусств.
Как самого могучего оружия культуры в руках пролетариата.
48 НАКОНЕЦ!*
Бывают разные формы драки.
Турниры. Дуэли. Бокс.
Турниры с поднятым забралом.
Схватки со спущенным.
Бокс в открытую.
И бокс под маской.
Французские сеньоры и английские джентльмены практиковали еще способ:
посылали лакея с дубинкой, который избивал неугодного противника.
От этого метода особенно страдали памфлетисты.
Наконец, есть еще способ.
Когда бьют «втемную».
Так избивали арестанты.
Накрывая голову халатом и — коленками в спину. Такие побои, как говорят, не оставляют следов.
В формах литературной драки, где это называется полемикой, пусть в новом качестве, существуют все эти же виды.
Полемика статьями в открытую.
Полемика со скрытым псевдонимом лицом.
Палкам соответствовал бы редакционный «курдюк» из трех-четырех строчек комментария редакции, опрокидывающего нежелательную для него точку зрения автора.
Но бывает и последняя разновидность:
«втемную».
Когда кусок вашей точки зрения накрывается халатом, то есть замалчивается тем, что статью помещают не полностью.
49 Обычно человек, побитый «втемную», молчит.
Я побывал в разных видах драки. Намедни попал в драку последней разновидности. Но не хочу молчать. Ибо правда на моей стороне. А самый вопрос касается не меня, а советской кинематографии.
Какова же была та «крамола», которую редакторский карандаш вычеркнул из статьи моей к юбилею пятнадцатилетия советской кинематографии1 для журнала «Советское кино»?
Я писал примерно следующее:
«Развитие и история советского кино движутся отчетливыми пятилетками.
Из них самая замечательная пока что — четвертая.
Три из них прошли, четвертая наступает.
Четвертая будет наиболее замечательной не только потому, что каждая новая страница в нашей действительности еще замечательнее, чем предыдущая.
Она замечательна еще в другом отношении.
Если первое пятилетие нашей кинематографии было прежде всего этапом хозяйственно-экономического и организационного становления и первых намечавшихся ростков собственной кинематографии, то второе и третье пятилетия являются уже эпохами, резко стилистически очерченными. Эпохами, дающими четко обрисованное лицо советской кинематографии двух меняющихся этапов.
Как последовательные этапы развития, они резко противостоят друг другу.
И меньше всего они противостоят тем, что третья пятилетка — звуковая, а вторая — немая, хотя она и прогремела на всем земном шаре.
Дело в различии стилистическом.
В различии, иногда доходящем до взаимоисключения.
И уж во всяком случае, до сильнейшей принципиальной противоречивости.
Взять любую картину одного пятилетия и сопоставить ее с любой картиной другого, — сопоставления скажут за себя:
“Мать” и “Дезертир”, “Арсенал” и “Златые горы”, “Потемкин” и “Встречный”.
При всем стилистическом разнообразии каждой из [трех] этих [пар] между собой на них лежит в равной степени отчетливый отпечаток принадлежности к одному пятилетию или к другому.
И тут мы вернемся к тому, почему так замечательна будет наступающая четвертая пятилетка нашей кинематографии.
Она будет замечательна тем, что явится синтезом, который включит в “снятом” виде лучшие из достижений взаимоисключающих стилей двух предыдущих этапов…»
50 Эта часть моей статьи оказалась неугодной редакции. Принципиальное это вступление оказалось ампутированным. Остался один «вечер воспоминаний».
Каков мог быть мотив? Только один: несогласие редакции с соотносительной оценкой, которую я даю разным этапам нашего кино.
В чем могла быть сущность несогласия? В том, что, по мнению редакции, черты, которые я жду от четвертого пятилетия нашего кино, она насильственно желает и заставляет видеть на продукции пятилетия 1929 – 1934.
Редакция не возражала против моей точки зрения, а изъяла ее из обращения.
Поэтому я волен предполагать за ней любые мотивы. Она по ним не высказалась. Но я думаю, что мотивы были именно эти.
К этому, вероятно, еще присоединялось обычное трафаретное обвинение в «пессимизме», в «недооценке творческой потенции» и «неверии в мощь советского кино».
Ведь так именно из номера в номер на страницах газеты «Кино» «прорабатывался» Н. Зархи2 за его выступление на съезде писателей.
Только люди, весьма слабо ориентирующиеся в диалектике развития и в вопросах о том, как элементы одних этапов могут присутствовать внутри другого, были способны в призыве Н. Зархи — не утрачивать достижений второго пятилетия на рубеже вступления в четвертое — расслышать бредовый лозунг: «Назад к “Потемкину”, к “Арсеналу”, к “Матери”!»
Между тем качества, вносившиеся пятилетием вторым и пятилетием третьим, весьма различны.
Сличая их, хочется вспомнить слова Белинского: «… как противоположен был пушкинский период карамзинскому, так настоящий период противоположен пушкинскому… Период пушкинский отличался какою-то бешеною маниею к стихотворству; период новый еще в самом начале оказал решительную наклонность к прозе»3.
Одобрение Белинского целиком на стороне пушкинского периода.
Но здесь важно другое. Обусловленные разными историко-социальными предпосылками, две упомянутые пятилетки нашего кино, однако, отличаются между собой именно тем же.
Понятно, что речь здесь идет о противопоставлении поэзии и прозы в литературном понимании этих терминов, а не в обывательском!
Действительно, отличительным разграничением обеих эпох было преобладание поэзии в первой. Прозы — во второй. В строе вещей. В специфике выбора средств воздействия. В образной и композиционной их структуре.
51 Этап поэзии и этап прозы.
Но было бы громадной ПОЛИТИЧЕСКОЙ ошибкой по отношению к прозаическому пятилетию прилагать ту же характеристику, которую Белинский дает постпушкинской эпохе: «… но, увы! Это было не шаг вперед, не обновление, а оскудение, истощение творческой деятельности…» Много есть влюбленных в первое пятилетие, готовых отрицать всякие заслуги за вторым и длить цитату еще дальше: «… деятельность и жизнь кончились: громы оружия затихли и утомленные бойцы вложили мечи в ножны, почили на лаврах, каждый приписывает себе победу, и ни один не выиграл ее в полном смысле сего слова…» (Белинский, Литературные мечтания)4.
Подобные настроения мы решительно должны клеймить. Вот это были бы близорукость, ошибочность, пессимизм.
Но мы не менее жестоко должны возражать тем, кто за вторым пятилетием старается закрепить безупречность и желает смазать те элементы односторонности, которые свойственны и ему не менее, чем — по другой линии — периоду предшествующему.
Если первый этап иногда в ущерб тематическому углублению умел захватывать зрителя революционной тематикой, всеми средствами и достижениями им создававшейся и созданной кинопоэтики и мастерства киноязыка, то второй период круто порывает почти со всеми элементами киновыразительности, характерной для первого.
Этому частично способствует и не полная еще овладенность звукотехникой. Но в основном — дело в принципиальных установках, характерных для данного этапа.
Взамен — этот период прозы выдвинул требования на проблемную углубленность, на психологический образ человека, на фабульно замкнутый сюжет.
Я недаром говорю «выдвинул требования», ибо далеко не всегда этот период умел оказываться на высоте своих же требований.
В этом отношении, может быть, наиболее благополучным был «Встречный», особенно резко полярный в отношении периода предыдущего.
Нужно быть самовлюбленными или слепыми, чтобы не видеть односторонних ограничений обоих периодов наравне с их полноценными вкладами в дело общего культурного развития.
И нужно быть ослепленным или близоруким, чтобы не предсказывать и не предвидеть, что последующий этап должен стать этапом синтеза, вобравшим в себя все лучшее, что вносили или прокламировали предыдущие стадии.
Вчера мы могли это предугадывать и предвидеть. Вчера можно было не печатать наших предвидений и предположений.
Сегодня мы это видим. Сегодня мы об этом можем говорить. Сегодня об этом за нас может сказать это же самое с экрана прекрасный фильм «Чапаев».
52 На чем базируется замечательное достижение «Чапаева»?
На том, что, не утратив ни одного из достижений и вкладов в кинокультуру первого этапа, он органически вобрал без всякой сдачи позиций и компромиссов все то, что программно выставлял этап второй.
Взяв весь опыт поэтического стиля и патетического строя, характерного для первого этапа, и всю глубину тематики, раскрываемой через живой образ человека, стоявший в центре внимания второго пятилетия, Васильевы сумели дать незабываемые образы людей и незабываемую картину эпохи.
Примечательна композиция этого фильма. Это не возврат к старым сюжетным формам, снятым на первом этапе нашего кино. Это не «назад к сюжету». А именно: «Вперед к новому виду сюжета».
Сохраняя эпическую форму, популярную для начала нашего кино, авторы внутри ее сумели обрисовать такую яркую галерею героических личностей, как это раньше удавалось разве только замкнуто фабульным традиционным сюжетам. Шекспир? Продолжатель Шекспира? Несомненно, если и не правнуки Лира, Макбета или Отелло. «Чапаев» поэтикой своей композиции примыкает не к ним. Но тем не менее и он в пределах своего стиля может числить Шекспира — Шекспира не менее замечательной драматургии — Шекспира исторических хроник.
Появление «Чапаева», я думаю, кладет конец распре этапов.
Хронологически «Чапаев» открывает четвертое пятилетие нашего кино.
Принципиально — тоже.
Появление «Чапаева» знаменует начало четвертой пятилетки советского кино — начало пятилетия великого синтеза, когда все достижения всей предыдущей эры советского кино в бескомпромиссно высоком качестве становятся в то же время достоянием многомиллионных масс, заряжая их новой энергией героизма, борьбы и творчества.
Победа «Чапаева» — первая победа на этом пути.
Никто из нас никогда не сомневался в великой мощи нашего кино.
Но мы не хотели провозглашать великими победами то, что, по нашему мнению, не до конца этого заслуживало. Мы отмалчивались на многие картины.
Но это был не пессимизм.
Это был критерий высокой требовательности к своей кинематографии.
Зато сейчас, в дни большого праздника советской кинематографии, мы с полным и обоснованным чувством громадной радости можем воскликнуть при этом новом бескомпромиссном доказательстве нашей киномощи:
— Наконец!
53 СРЕДНЯЯ ИЗ ТРЕХ*
Как я понимаю, редакция для настоящего юбилейного номера ждет от творческих работников кино прежде всего материала автобиографического. И в частности, материала о том — какими путями они пришли и приходили в советскую кинематографию.
Я думаю, что это очень правильное желание. Особенно когда дело касается работников «первого тура» советского кино, когда после первого пятилетия оно, став на собственные крепкие ноги на собственной твердой почве, впервые сказало свое собственное веское слово в общей истории кинокультуры. Это пожелание редакции в отношении «первого тура» (если будет позволено по аналогии приложить к киноистории тот же термин, которым обозначаются этапы войн и революций последних десятилетий) правильно не только в порядке удовлетворения, может быть и законного, «исторического любопытства».
Считая год революции за десять, — советская кинематография может считаться древней: сто пятьдесят лет не шутка!
Больше того.
Здесь личная история, вернее, история личного прихода каждого работника в кино, во многом становится куском общей истории того, как складывалась и из чего составлялась советская кинематография как некое органическое и стилистическое целое. Откуда и как привносились элементы того, что потом слилось в очень определенный и чеканный облик стиля советской кинематографии, на определенном этапе занявшей положение ведущей кинематографии мирового экрана, совершенно так же, как в свое время эта роль была за Скандинавией, Италией, Америкой или Германией.
54 Основная предпосылка к ведущей роли нашего кино пишется коротко и выражается одним словом: Октябрь. Или двумя: Октябрьская революция. Это было необходимо, и этого оказалось достаточно, чтобы гигантским порывом творческого веления выбросить вперед технически наиболее слабую, но горевшую самым передовым идеологическим энтузиазмом советскую кинематографию на первое место [в] мировой кинематографии.
Тем более интересно проследить, как отдельные работники по своим линиям, через свои области, через свой род деятельности и занятий стекались и приходили в кинематографию, сплачиваясь в некий единый железный фронт, определивший при всем разнообразии индивидуальных стилистических разрешений до конца отчетливо обрисованное лицо первого кино первого самостоятельного художественного этапа.
Когда и где сквозь предыдущую деятельность, на чем и как в предшествующих занятиях стали вырабатываться и выкристаллизовываться в том или ином работнике те черты, которые он творчески вносил в дальнейшем в коллективный комплекс того, что закрепилось впоследствии как «советский стиль» кинематографии определенного этапа?
Для данного случая это значительно больше, нежели личные мемуары. Это восхождение к творческим истокам того, что нарастало могучим напором пафоса революции, собираясь в мощный поток единого русла советского кино.
Не забудем, что в период ранних двадцатых годов мы шли в советскую кинематографию не как в нечто уже сложившееся и существующее. Вступая в какие-то ряды, входя в нее, мы шли не как в некий уже отстроенный город с центральной артерией, боковыми улицами влево и вправо, с площадями и общими местами или с кривыми переулочками и тупиками, как сейчас развернулась стилистическая кинометрополия нашего кинематографа.
Мы приходили как бедуины или золотоискатели. На голое место. На место, таившее невообразимые возможности, из которых и посейчас еще возделан и разработан смехотворно малый участок.
И в хаосе разноречий, разнообластности происхождения мы оседали нашими шалашами, разбивали наши палатки и, будучи выходцами из всевозможных областей культуры и прежней деятельности, мы вносили в общий лагерь продукты опыта, накопленного по ту сторону его рвов.
Частный род деятельности, случайное прежнее занятие, непредполагаемая специальность, неожиданная эрудиция — все шло в сторону того, чему еще не было писаной традиции, установленной закономерности четко поставленных стилистических требований и сформулированных положений спроса.
55 Был пафос революции. Был пафос революционно нового. Была ненависть к буржуазно возделанному. И дьявольская гордость и жажда «побить» буржуазию и на кинофронте.
Время единственное. Время неповторимое. Ибо это было первое сражение, данное новой революционной идеологией по линии культуры. И сражение, выигранное наперекор цензурам, жандармским дубинкам и подлым кривым ножницам буржуазных перемонтажеров. Рейды советской кинематографии неизбежно удавались в самом глубоком тылу наиболее враждебных буржуазных оплотов и стран. Эти победы для нас самих же становились неожиданностью. Мы меньше всего думали удивлять или покорять Запад. Работая, мы видели перед собой свою замечательную, свою новую страну. Служить ей и ее интересам было основной нашей задачей, неизменной и посейчас.
И я помню наше общее недоверчивое изумление, когда внезапно фильм за фильмом стали пробивать духовную блокаду Запада, сменившую блокаду огнем и мечом, из которой только что начала выходить молодая Страна Советов. И только по этой линии мы, может быть, преуспели больше всего, ибо долг наш перед нашей собственной страной далеко еще не оплачен. И на вступающий этап нового подъема нашего кино разрешение этой задачи ляжет ударной работой.
Из всего сказанного явствует, что, собственно, предыстории кинематографических автобиографий могут внести не только историческую полезность для будущих исследователей. Они дают и немало принципиально важного. Ведь сейчас как никогда отчетливо стоит осознание культурной преемственности так называемой «специфики кино» от иных смежных видов искусства. Теория «самозарождения» кино давно изжита. И это осознание стоит не как отвлеченная академическая тема или эстетическая проблема, а как совершенно конкретное указание для работы, как совершенно конкретный указатель к выходу из ряда принципиальных затруднений, стилистических промахов и тупиков, куда моментами заворачивает кино, особенно с тех пор как оно зазвучало. Нужно требовать от киноработников этого этапа детальных данных об их прежней творческой работе и о том, как эта работа перерастала в их киноработу.
Делаю первую попытку в этом направлении в надежде, что кое-что из этих воспоминаний может иметь кой-какой интерес и за пределами простого мемуарного вечера.
Не вдаваясь слишком в теоретические дебри по поводу специфики кино, можно остановиться на двух ее признаках.
Эти признаки, в общем, свойственные искусствам вообще, с особой ответственностью проступают именно в кинематографической работе.
56 Фотографическим путем берутся фактические слепки-отпечатки реальных явлений и элементов реальности. Эти слепки-отпечатки, если угодно — фотоотражения, сочетаются в некоторое построение.
Как отпечатки, так и сочетания их допускают любые степени искажения. Технически неизбежные или волево преднамеренные.
И результаты колеблются от точного натуралистического сочетания видимой взаимосвязи явлений, через реалистическое внутреннее осмысление и переосмысление взаимосочетаний, до полной перетасовки в никак не предвиденной и не предусмотренной природой и порядком вещей формалистической игре.
Кажущийся по отношению к нерушимому природному status quo16* произвол этого дела менее произволен, чем кажется.
Он иногда неосознанно, но всегда неизбежно определен социальными предпосылками композитора кинопроизведения. Он большей частью этими же предпосылками направляет автора с сознательной тенденциозностью.
Классово определенная тенденциозность лежит в основе этого кажущегося произвола в кинематографическом обращении с тем, что находится или что становится перед объективом.
В первом случае мы имеем так называемый документальный фильм, во втором — художественный.
Различные по природе своего фактического проявления и осуществления (факт или фиксация представления), они перед объективом, «как перед богом», по этим линиям равны.
Хотя в этом двояком процессе (частично и для пределов этой статьи) мы и хотим видеть черты специфики, но нельзя, однако, отрицать, что во многом точно так же работают и другие искусства — смежные и не смежные (хотя и трудно найти искусство, не смежное с кино).
Что же в таком случае останется по этим линиям все же за спецификой кино? И можно ли продолжать упирать на эти признаки как на нечто киноспецифическое? Можно. Ибо специфика кино по этой линии не столько в самом явлении, сколько в степени его наличия именно в кино. В степени обнаженности и в масштабе этих черт в киноработе.
И музыкант берет шкалу звуков, и живописец — гамму тонов, и литератор — многословный ряд, — все они черпают в равной мере из природы.
Но масштаб неизменного фрагмента действительности у них несравненно меньше и однозначнее, а потому нейтральнее и гибче в сочетаниях, которые теряют подчас всякую видимость комбинирования и сопоставления и кажутся одной органической цельностью.
57 Трехзвучие или аккорд кажутся органической единицей. Ибо сочетание трех монтажных кусков (и чем более коротких, тем больше) всегда воспринимается тройным столкновением, толчками трех последовательных изображений.
Синий тон накладывается на красный. И все «читают» результат — фиолетовым, а не «двойной экспозицией» красного и синего. И наконец, эта же дробленая однозначность в области словесных фрагментов и слов допускает уже возможность любых выразительных вариаций. С какой легкостью язык по смыслу разграничивает такие, например, три «нюанса»: «не освещенное окно», «темное окно» и «неосвещенное окно».
А попробуйте эти же нюансы выразить композицией кадра! И есть ли вообще такая возможность?
И если есть, то какими сложнейшими путями предварительного контекста придется нанизывать кинокусок на кинонитку, чтобы в последнем из них черная дыра прямоугольника в стене «зазвучала» в одном случае именно «темным», а в другом случае именно «неосвещенным» окном?
Сколько на это потребуется остроумия и изобретательности в предварительных и последующих сопоставлениях, чтобы добиться того же эффекта, который в словесном выражении делается шутя?
Природа кинокадра сильно отлична от природы слова, звука или всего иного.
В отличие от них комплексность кинокуска, «кадра» гораздо более туго поддается самостоятельной обработке. И поэтому взаимная работа кадра и монтажа кажется гиперболизованной картиной этого процесса, свойственного всем искусствам, но в таком масштабе, что оно уже звучит новым качеством.
Так или иначе, рассматриваемый с точки зрения сопротивления материалов кинокадр в процессе обращения с ним, пожалуй, упорнее гранита. Эта сопротивляемость для него специфична. И тяга его к полной фактической неизменяемости, пережившей все этапы загибов и перегибов, гнездится глубоко в его природе.
Это его упорство во многом определило богатство форм и разнообразие монтажного стиля.
Мы знаем, как обезличивается произведение, когда мало стойкое классовое сознание получает в руки еще и материал слишком гибкий и мало сопротивляющийся.
И вот мы вернулись к тому, что кинематограф более, чем другие искусства, в более широких масштабах вынужден отчетливо выявлять тот процесс, который микроскопически производится в каждом искусстве.
Минимально искаженный природный фрагмент — кадр, и большое остроумие в их сочетании — монтаж.
Разработкой этих проблем особенно занималось разбираемое нами второе кинопятилетие.
58 В пристальности своего интереса к ним оно доходило до эксцессов и до абсурдов. Минимальная изменяемость явления и предмета перед объективом вырастала за пределы законной степени и нормы — в теорию документализма.
Законная необходимость сочетания этих фрагментов реальных изображений вырастала в монтажные концепции, хотевшие заменить собой подавляющее количество элементов киновыражения.
А между тем в нормальных рамках эти черты и проблема культурного с ними обращения входят в круг проблем любой кинематографии.
И вместе с тем эта часть проблемы никак не противостоит, не противопоставляется и не собирается собой замещать другие проблемы. Например — проблемы сюжета.
Больше того, она так же отчетливо стоит перед кино сюжетным, как и перед тем, которое называлось «бессюжетным».
Пожалуй, даже еще серьезнее. Не только судя по образам того, что мы видим сейчас на экране, но и в порядке принципиального предвидения.
Не имея возможности облокачиваться на эмоциональное воздействие своего «ослабленного сюжета» в той же степени, как это может делать и делает сюжетное кино, бессюжетное кино должно было больше рассчитывать на принципы и мастерство пластического воплощения. Volens nolens17* ему приходилось быть и становиться квалифицированным в области киноязыка и киноформы.
Более благополучно обставленное сюжетное кино во многом выезжает на фабульном анекдоте, игнорируя все иные средства эмоционального и идеологического воздействия на зрителя.
Но вернемся к самому двоякому процессу, указанному вначале, как особенно характерному для кино. Если именно он столь характерен для кино и как таковой особенно отчетливо выступил в период средней из трех прошедших пятилеток кино, то в предыстории творческих биографий работников этого периода будет интересно проследить, как именно эти две черты возникали, вырабатывались и развивались в их предкинематографических работах.
Все дороги того периода приводили в этот Рим. Все как-то двигалось в этом направлении. И какова была моя личная дорожка, приведшая и меня туда же, я и постараюсь изложить.
Обычно началом моего «кинематографизма» считается моя постановка «На всякого мудреца довольно простоты» Островского в Первом рабочем театре Пролеткульта (Москва, март 1923 года). Это верно и неверно. Неверно, если основано на том, что постановка эта включила маленький специально снятый комический 59 фильм, к тому же еще «вмонтированный» по всем правилам монтажного переплетения в ход действия на арене нашего театра. И гораздо более обоснованно, если дело касается общего характера спектакля, уже отчетливо нашедшего в себе оба элемента вышеуказанной «специфики». Разберемся в них по порядку.
Под первым признаком мы отмечали кинематографическую тенденцию, которая стремится брать явления и элементы их в минимальном искажении, — установку на фактическую реальность элемента и фрагмента в себе.
Мы указывали на обоснованную специфичность этой черты, на нормальность ее в определенных пределах. Отмечали и эксцесс по этой линии в теории документализма.
Если искать по этой линии, то начало моих кинотенденций надо отодвинуть еще на три года вспять к постановке «Мексиканца»1 (Москва, сезон 1919/20 года), которая делалась мною совместно с В. С. Смышляевым.
И одна из черт фактического моего участия и результат его выразились как раз в элементе этой ставки на непосредственность явления — элементе кинематографизма, в отличие от «игры реакции на явление», элемента сугубо театрального.
Речь идет о сцене бокса.
Сюжет, взятый у Джека Лондона (обработанный обоими режиссерами совместно с Б. Арватовым), довольно наивен по существу, но в настроениях и требованиях 1920 года обладал достаточной эмоциональностью, чтобы захватывать зрителя вопреки некоторой малоубедительности самого сюжетного узла.
Сюжет таков. Некоей революционной мексиканской группе нужны деньги на революционную работу. Денег нет. И молодой парень — мексиканец — вызывается участвовать в чемпионате бокса, чтобы раздобыть эти деньги. По уговору, с администраторами он должен дать себя побить за определенную сумму. Вместо этого он побивает чемпиона и берет громадный куш приза и проценты с выручки от продажи входных билетов.
Ознакомившись сейчас несколько обстоятельнее на местах как со спецификой революционной борьбы в Мексике, так и с системой чемпионатов бокса, мне было бы несколько страшно решать подобный сюжет хотя бы по этим данным, не говоря уже о крайне малой идеологической убедительности сюжета. Но, повторяю, времена были иные. Иными были и требования. Вспомните успех не менее невероятных «Красных дьяволят»2.
Так или иначе, кульминацией в спектакле был бокс на ринге. По доброй мхатовской традиции матч должен был идти за кулисами (вроде как бой быков в последнем акте «Кармен»). И на сцене в волнениях действующих лиц должны были отраженно играться перипетии боя и разные переживания по-разному заинтересованных лиц.
60 Первое, что я сделал (перерастая из художника-декоратора, в качестве которого я был приглашен, в сопостановщика), — было предложение вытащить ринг на сцену. Больше того: вытащить его даже со сцены и установить в центре зрительного зала, то есть в обстановке реального расположения матчей бокса.
В этом предложении, собственно, уже ясно обозначалась тенденция к ставке на конкретность фактического явления. Если хотите — на факт вообще. Потому что если исход любого раунда и перипетии бокса были строго распланированы заранее, — самый бой шел не в изобразительно-стилизационном порядке, не в подобии «фигурного танца», а совершенно реальным и конкретным образом. Предрешенность исхода раундов и боя в целом отнюдь не умаляет документальной подлинности и реализма нашего боя.
Этот план поведения наших молодых рабочих-актеров на ринге, кроме всего прочего, во многом принципиально выпадал из того, что они проделывали в остальном ходе спектакля. Если там средствами их воздействия было переживание, вызывавшее сопереживание (они работали в системе Станиславского), то здесь они воздействовали на зрителя еще и несколько иным образом — «реальным деланием».
Если там воздействия работали интонацией, жестом, мимикой, то здесь вступали уже не изобразительные, а реальные факторы воздействия: реальная борьба, физическое падение тела, фактическая одышка от усилий, блеск реально вспотевшего торса и незабываемое щелканье звука удара перчаток по напряженным мышцам и коже.
Иллюзорно изобразительная декорация, хотя и условная, уступила место реально отделанному по всем требованиям техники рингу (правда, не совсем в центре зала, — бич всяческой театральной затеи — пожарная охрана — вынудила придвинуть его к просцениуму, — и замыкание круга вокруг ринга дополнилось актерами, игравшими толпу, расположившись на местах по линии портала. Прием, совсем недавно воскрешенный вахтанговцами в малоудачной инсценировке «Человеческой комедии» для сцен «в театре»).
О том, что установка у меня была именно на эту вещную конкретность, на «фактичность» средств воздействий, у меня сохранилось еще своеобразное негативное подтверждение. Год-два спустя я, уже не работая в театре Пролеткульта, как-то привел на спектакль «Мудреца» Вс. Эм. Мейерхольда. (В тот период я переживал временный рецидив «театральности» с острым креном в эстетику условного театра.)
Как сейчас помню свой вопрос юного прозелита, обращенный к создателю условного театра. Вопрос касался того — не является ли подобное мое разрешение своеобразным «кощунством» против норм театральности и разрывом природы театра, поскольку 61 воздействие здесь базируется не на условно театральном элементе, а на фактическом и реальном, то есть на чем-то вроде «удара ниже пояса» для театра?
Ответ был туманный. И ответа я уже не помню. Но в самом вопросе интересно отметить собственное, уже тогда имевшееся ощущение этого нового, иного фактически материального элемента внутри театральной постановки.
Элемент этот в последующей же моей постановке «На всякого мудреца довольно простоты» (сезон 1922/23 года) должен был всплыть с новой силой.
Эксцентрика постановки, доводившая все элементы театра до парадокса, и эту линию обнажала до конца в гротеске сопоставления.
В ней эта тенденция особенно резко сказалась в ставке не на иллюзорно-изобразительное игровое движение, а на физический факт акробатики: жест перескакивает в акробатику, ярость решается каскадом, восторг — сальто-мортале, лирика — восхождением на «мачту смерти»…
Эксцентрический гротеск стиля постановки допускал перескок одного типа выражений в другой и самые неожиданные переплетения обоих.
Но подробно сказать о «Мудреце» интереснее еще по другому поводу (см. ниже).
В постановке «Слышишь, Москва?»3 (1923 год) эти две разобщенные линии «реального делания» и «изобразительного представления» переживают своеобразный краткий синтез в своеобразии техники актерской игры. В соответствии с духом всего тогдашнего «левого» крыла театра этот принцип фактической работы и фактического действия локализировался на реальной работе двигательного проявления того, что изображалось актером.
Тема эта достойна собственного критического изложения. И не без пользы вообще. Здесь же мы отмечаем этот принцип, один из основных принципов тогдашних учений об игре актера, лишь постольку, поскольку в нем временно нашла убежище исследуемая нами кинотенденция и поскольку в нее «свернулась» парадоксальность «Мудреца», в пределы формы, отвечавшей рамкам театра, после того как она наигралась эксцентрикой их обнаженных сопоставлений.
Так или иначе, оба эти начала, однако, на следующей постановке — «Противогазы»4 С. Третьякова (сезон 1923/24 года) возникают с еще большей непримиримостью и приводят к внутреннему разрыву противоречивости этих тенденций внутри ее настолько, что, будь эта постановка кинофильмом, он бы… лег, как говорится, «на полку».
В чем же было дело? «Борьба» начал материально-фактического и фиктивно-изобразительного, — добрососедски уживавшиеся 62 рядом, когда дело шло о гротеске и эксцентрике, и сумевших синтетически сочетаться тогда, когда дело шло о мелодраме, — в этой новой постановке привела к полному их раздору и разрыву.
Эта драма захотела реализоваться на той же несводимости обоих рядов, которая вполне уместна в эксцентрике и гротеске (где несводимость обоих рядов — один из предпосылочных признаков жанра).
И драма эта (в постановке) села между двух стульев. Она теряла одно, не приобретая другого. Получалось подобие крыловского лебедя, рака и щуки. Рак и щука тянули в разные сферы восприятия, а бедному лебедю синтеза никак не удавалось вознестись в небеса. Воз на месте не остался. Воз разлетелся в куски. Возница ушел в кино.
А все потому, что режиссуре пришла в голову чудная мысль: сыграть пьесу, трактующую о взрыве на газовом заводе и о героизме коллектива рабочих, на… реальном газовом заводе в Москве, за Земляным валом.
И тут-то материальный факт заводского интерьера ни на какие соглашения с театральной фикцией не шел.
Завод существовал сам по себе. Представление внутри его — само по себе. Воздействие одного с воздействием другого не смешивалось.
И громадные турбогенераторы завода вчистую поглотили театральную пристроечку, убого приютившуюся рядом с блестящей чернотой их цилиндрических тел.
Вместе с тем пластическое обаяние реальности завода оказалось таким сильным, что линия фактического материала реальности внутри театральной фикции возгорается новым увлечением. Забирает все целиком в свои руки и… вынуждена покинуть рамки того искусства, где ей полновластной и единоначальной хозяйкой быть не пристало.
Эта тенденция вытягивает нас на кино.
Но на этом «приключения» этой черты нашей театральной работы не обрываются. Наоборот. Выйдя на экран, они пышно расцветают тем, что можно было бы назвать «типажной» тенденцией.
Эта «типажность» — столь же типичная черта разбираемого пятилетия кино, как и его «монтажность».
Причем я отнюдь не хочу ограничивать понятие «типажности» в какой-либо мере собственными работами, как и «монтажность».
Это были две черты, характернейшие для тогдашних тенденций кино. Они были как бы обнажением и гипертрофией тех двух черт, которые мы вначале (и для данной статьи) выбрали и отметили как в нормальном объеме специфические для всякого кино.
Мало того, я еще хочу отметить, что «типажность» этого периода надо понимать шире, чем не смазанное гримом лицо перед объективом и замену актеров «натурально выразительным человеком».
63 «Типажность», на мой взгляд, обнимает и очень типичную специфическую установку по отношению к явлениям и событиям, включавшимся в содержание фильма.
В отношении их был тот же метод минимального вмешательства — в данном случае драматургического — в естественный ход и сочетание событий.
В этом понимании до конца «типажен» сюжет, например, «Октября».
Типажная тенденция, как видим, гнездится и может гнездиться и внутри театра. И может даже тянуть к переходу из театра на кино. И выйдя на кино, пышно там стилистически разрастаться.
Но этого, конечно, недостаточно, чтобы на определенном этапе стать элементом стиля целого движения внутри целой кинематографии.
Для этого нужно, чтобы наличие подобной тенденции и возможности было подхвачено и вскормлено спецификой социального положения тех, кто дорабатывал ее до крайних пределов стилистического заострения.
Чем же была эта тенденция?
Это была тенденция, страстно подхваченная увлечением тем, что [мне] в качестве кинематографиста впервые виделось вокруг себя. Гипертрофия пиетета, восторга и удивления перед тем, что начинаешь видеть вокруг себя в строящейся социалистической действительности.
Если предпосылки к «типажному методу» (понимаемому широко и не только в отношении лиц, а как показатель определенного отношения к действительности через киноаппарат) гнездятся внутри ряда специфических элементов театра, на которые я попытался указать, то стилистическое закрепление его в кинематографии и расцвет его несомненно связаны уже с этими новыми чувствами и отношениями к действительности. С чувством «открытия» нас окружавшей замечательной действительности.
Чувство «открытия» действительности базировалось на том, что большинство из так воспринявших и так увидевших революционную действительность было людьми, «пришедшими» к революции.
Многие из нас участвовали в гражданской войне, но чаще по линиям техническим, а не перспективно ведущим, — во многом вне точного представления, к чему и куда шли, чему способствовали и куда помогали вести.
И выйдя из гражданской войны, многие из нас впервые обрели вид того нарождающегося социалистического общества, которое сейчас уже является совершившимся фактом.
Эта «первая встреча» с действительностью революционного достижения, как всякая первая встреча, не могла не быть полной восторженной робости и боязни прикосновения.
64 Эта передача в плане минимальной «прикосновенности», минимального навязывания своей воли, максимального соподчинения себя ей в показе, отразившаяся в «типажном методе», несомненно глубоко связана со спецификой формы прихода к революции тех, для кого на большом этапе это продолжало пребывать методом воплощения этой действительности.
Это были не вышедшие из революции люди, а к ней приходившие, в нее вступавшие.
И надо было немало лет (здесь уместно вспомнить последнюю вспышку рецидива РАППа в вопросе «своих» и «не своих»), пока мудрой тактикой партии эти пришедшие к революции попутчики не ощутили и себя окончательно плотью от плоти и кровью от крови революционного дела и строительства социализма.
Это ознаменовало и глубокую переустановку в творческой направленности. Если первый этап шел под знаком открытия революционной действительности для тех, кто пришел в нее, то на последующем этапе стало лозунгом «раскрыть» и «вскрыть» ту социалистическую действительность, в создании коей они почувствовали себя равноправными и равнообязанными.
Метод, отражавший одно взаимоотношение с действительностью, не мог не сдвинуться в новую область, когда сдвинулось само мировоззрение и мироощущение себя внутри его.
Начало этого сдвига мы ощущаем сейчас.
И методологическая растерянность кинематографии на сегодня есть положительный показатель на перестройку метода кино по новым путям в соответствии с новым самосознанием кино и кинематографистов после исторического постановления от 23 апреля5.
Так или иначе, «типажность», вскормленная, на мой взгляд, соответствующими указанными предпосылками, черты которой можно разглядеть и в театральной работе, становится тоже одним из специфических признаков кино того времени.
Но обратимся сейчас ко второй черте «специфики» кино — к монтажному началу. И посмотрим — где и когда оно определялось у меня в прежних работах, прежде чем на кино я примкнул к тому общему движению, в котором был одним из самых неуемных «рыцарей» по этой линии.
Эти тенденции в отчетливой форме проступают в постановке того же «Мудреца» (1923 год). О ней я уже говорил, что она была парадоксальным заострением до конца всех и всяческих элементов и черт, свойственных театру и приемам театральных постановок; своеобразным reductio ad absurdum18* театральной концепции: комическая трактовка перескакивала в клоунаду, текст — в акробатику, гнев — в сальто-мортале, радость — в каскад.
65 И среди этого эксцентрического буйства, включавшего даже упомянутый маленький комический кинофильм, можно найти и первый образчик резко выраженного монтажа. В явлениях восьмом и десятом второго акта «Мудреца» в постановке Рабочего театра Пролеткульта.
Движение действия в пьесе у Островского таково: в нем сплетение целого ряда интрижных моментов. Мамаев подсылает своего племянника Глумова к собственной жене, чтобы быть спокойнее. Глумов идет дальше указаний дядюшки. Мамаева принимает ухаживания за чистую монету. В то же время Глумов, пользуя ее протекцию по одной линии, затевает с Мамаевым сватовство к племяннице Турусиной, скрывая это дело от Мамаевой. Диапазоном ухаживания за тетушкой надувает дядюшку. Льстя дядюшке, устраивает с ним обман тетушки.
Российский Растиньяк — Глумов в комедийном плане повторяет все ситуации больших страстей и крупных денежных операций, проделываемых французским прототипом. Сквозь комедийные персонажи сквозят Нусинген и Дельфина. Мадам де Боссе. В финале комической катастрофы Глумова звучит трагическая развязка с историей женитьбы Люсьена де Рюбампре.
Тип Растиньяка в России еще в пеленках. Делячество бальзаковского размаха только-только начинает возникать и оформляться в государстве Российском. Карьера — еще не страшный призрак золота, крови, грязи и преступления. Она еще пока что вроде детской игры между дядюшками и племянниками, тетушками и их ухажерами. Это еще семейный масштаб. Еще не крупная игра больших интересов. Отсюда — комедийность. Но так или иначе — полная оснащенность интриг и хитроумных сплетений ходов действующих лиц. Хитросплетений… Хитросплетений переплетающихся интересов… Игры на два фронта. Игры на два лица… И как бы отсюда возникает… хитросплетение этих двух явлений. В форме монтажной перерезки этих двух явлений.
Нудная последовательность «режиссерских» предначертаний Мамаева и кропотливое исполнение его ремарок Глумовым вдвигается в одновременность. Перемежение «инструкций» дядюшки и «атак» на тетушку обнажает и заостряет достаточно неприглядную роль сводника Мамаева, снабжая ее веселостью клоунады. Наигранное лицемерие любовных объяснений Глумова еще явственнее наиграно. Быстрая перерезка двух диалогов убыстряет темп и веселость самого комизма ситуаций.
Сцена при постановке «Мудреца» представляла собой круглый ковер, на манер цирковой арены, обшитый красным сукном наподобие барьера. На три четверти вокруг сидели зрители. В глубине стоял перед полосатой тиковой занавеской маленький повышенный помост с боковыми сходами.
66 Сцена с Мамаевым19* ведется внизу «на манеже», как мы выражались тогда, сцена с Мамаевой — на помостике. И вместо плавной смены явлений Глумов в нашей постановке летает от одного к другой и от одной к другому. Проводит фрагмент диалога с одной, чтоб, оборвав, продолжить начатый фрагмент с другим. Финальные реплики одного ряда фрагментов, сталкиваясь с начальными другого, приобретают новый смысл, иногда каламбурную игру слов.
Сами перескоки дают как бы цезуры между сыгранностью отдельных моментов.
Наличие третьего, не участвующего в разговоре и как бы отсутствующего, дает еще эффект иллюстративной врезки к той или иной реплике диалога двух других. Так, например, при словах «она — женщина темперамента сангвинического» артистка Янукова (Мамаева) делала соответствующую мимико-интонационную игру, как бы врезаясь новой «перебивкой» в разговор, шедший про нее. То же у Штрауха (Мамаев) в отношении диалога на помостике20*. Бытовые диалоги Островского приобретали неожиданную игривость, отвечая тому жанру цирковой клоунады, в котором мчался весь спектакль.
Вот примерная, по памяти восстановленная вязь «хитросплетения» этих двух диалогов.
Начало явления идет по Островскому. Затем:
1) Мамаев. Да вот еще одно тонкое обстоятельство. В какие отношения ты поставил себя к тетке?
Глумов. Я человек благовоспитанный, учтивости меня учить не надо.
Мамаев. Ну вот и глупо, ну вот и глупо. Она еще довольно молода (кажется, в этом месте делалось появление Мамаевой на помостике. — С. Э.), собой красива (Мамаева гарцевала по помостику в «ослепительном» наряде и перьях), нужна ей твоя учтивость! Врага, что ли, ты нажить себе хочешь?
Глумов. Я, дядюшка, не понимаю.
Мамаев. Не понимаешь, так слушай, учись! Слава богу, тебе есть у кого поучиться. Женщины не прощают тому, кто не замечает их красоты.
Глумов. Да, да, да! (На перебеге.) Скажите! Из ума вон. (Игралось и как конец диалога с Мамаевым и как изумление при виде тетушки.)
67 2) Мамаева. Целуйте ручку, ваше дело улажено21*.
Глумов. Я вас не просил.
Мамаева. Нужды нет, я сама догадалась.
Глумов (целует руку). Благодарю вас (берет шляпу).
Мамаева. Куда же вы?
Глумов (на полпути вниз). Домой. Я слишком счастлив. Я побегу поделиться моей радостью с матерью.
3) Мамаев. То-то же, братец! (Звучит уже как одобрение хорошо заученного урока.) Хоть ты и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, имеешь больше свободы, чем просто знакомый; можешь иногда, как будто по забывчивости, лишний раз ручку поцеловать (звучит, как реприманд за недостаточно решительное поведение с теткой), ну там глазами что-нибудь. Я думаю, умеешь?
Глумов. Не умею.
Мамаев. Экий ты, братец! Ну, вот так (заводит глаза кверху).
Глумов. Полноте, что вы! Как это можно!
Мамаев. Ну, да ты перед зеркалом хорошенько поучись. Ну, иногда вздохни с томным видом. Все это немножко щекочет их самолюбие!..
4) Глумов (взбегает с зеркалом, перед которым делал томный вид. Это по-новому осмыслило вопрос Мамаевой.)
Мамаева. Вы счастливы? Не верю.
Глумов. Счастлив, насколько можно.
Мамаева. Значит, не совсем, значит, вы еще не всего достигли.
Глумов. Всего, на что я смел надеяться.
Мамаева. Нет, вы говорите прямо: всего вы достигли?
Глумов. Чего же мне еще! Я получу место.
Мамаева. Не верю, не верю. Вы хотите в таких молодых годах показать себя материалистом, хотите уверить меня, что думаете только о службе, о деньгах.
Глумов. Клеопатра Львовна…
Мамаева. Хотите уверить, что у вас никогда не бьется сердце, что вы не мечтаете, не плачете, что вы не любите никого. (Последние три реплики шли на crescendo страсти.)
5) (Тем смешнее звучали весьма деловитые реплики начала.)
68 Глумов. Покорнейше вас благодарю (как бы благодаря за достигнутые у тетки результаты).
Мамаев. Да и для меня-то покойнее. Пойми, пойми!
Глумов. Опять не понимаю.
Мамаев. Она — женщина темперамента сангвинического (соответствующая игра Мамаевой на площадке), голова у нее горячая, очень легко может увлечься каким-нибудь франтом, черт его знает, что за механик попадется, может быть, совсем каторжный. В этих прихвостнях бога нет. Вот оно куда пошло! А тут, понимаешь ты, не угодно ли вам, мол, свой, испытанный человек. И волки сыты, и овцы целы. Ха! ха! ха! Понял?
Глумов. Ума, ума у вас, дядюшка!
Мамаев. Надеюсь.
6) Глумов (опять искусственно возвращаясь в патетический тон куска № 4). Я достиг всего возможного, всего, на что я могу позволить себе надеяться.
Мамаева. Значит, вы не можете позволить себе надеяться на взаимность? В таком случае зачем вы даром тратите чувства? Ведь это перлы души. Говорите, кто эта жестокая?
Глумов. Но ведь это пытка, Клеопатра Львовна.
Мамаева. Говорите, негодный, говорите сейчас! Я знаю, я вижу по вашим глазам, что вы любите. Бедный. Вы очень, очень страдаете?
Глумов. Вы не имеете права прибегать к таким средствам.
Мамаева. Кого вы любите?
Глумов. Сжальтесь!
(Сцена достигает пароксизма страсти. Новая, чисто деловая и спекулятивная врезка еще сильнее подчеркивает наигрыш Глумова. Кроме того, перебивка работает как придыхание, как цезура перед «роковым» признанием.)
7) (Шло на быстрой деляческой «биржевой» скороговорке, которой заключаются «нечистые» сделки и аферы.)
Глумов. А вот еще обстоятельство! Чтоб со стороны не подумали чего дурного, ведь люди злы, вы меня познакомьте с Турусиной. Там уж я открыто буду ухаживать за племянницей, даже, пожалуй, для вас, если вам угодно, посватаюсь. Вот уж тогда действительно будут и волки сыты, и овцы целы.
Мамаев. Вот, вот, вот. Дело, дело!
8) Мамаева. Стоит ли она вас?
Глумов. Боже мой, что вы со мной делаете!
Мамаева. Умеет ли она оценить вашу страсть, ваше прекрасное сердце?
69 Глумов. Хоть убейте меня, я не смею.
Мамаева (шепотом). Смелей, мой друг, смелее! (Этому вторил криком «смелее, смелее!» на ковре Мамаев — Штраух, совсем обнажая игру.)
Глумов. Кого люблю я?
Мамаева. Да.
Глумов (падая на колени). Вас.
Мамаева (тихо вскрикивая). Ах! (Мамаева почти лишилась чувств. Глумов сбегал вниз. В пулеметном темпе шел следующий фрагмент разговора с дядюшкой. Тональность куска № 7.) И т. д. и т. д.
Вот примерно таким образом, врезкой друг в друга, перестраивались эти две сцены. Следует, конечно, опять-таки иметь в виду то время, когда на театре законна была любая стадия безумства. Когда обращение с элементами театра допускало полную вольность. В окружении «Страха»6, «Моего друга»7 и даже явного фарса — «Чужого ребенка»8, тем не менее решенного ортодоксально-бытово, конечно, такие приемы даже в клоунаде не могли бы возникать. Возникнувши, могли бы вызывать недоумение… (А может быть, и нет?) Но то был сезон 1922/23 года…
Так или иначе, фарсовая заостренность клоунады данным приемом достигалась. Темп возрастал. И что самое любопытное — предельная заостренность эксцентриады никак не отрывалась от тематического содержания этого фрагмента пьесы, не перескакивала в беспредметно и бессмысленно смешное, а являлась той же темой, заостренной в сценическом воплощении до парадокса.
Здесь же может быть уместно отметить еще одну специфически кинематографическую черту (специфическую опять-таки в том смысле, что ею сугубо пользуется кино). Это переосмысление реплик от новых сопоставлений в новый контекст.
Всякий державший в руках монтажные куски по опыту знает, как нейтральный часто кусок или даже кусок совершенно определенного смысла внезапно от сочетания с другим становится остро содержательно направленным и часто совершенно противоположного смысла тому, в котором он был снят.
На этом во многом строится мудрое и злое искусство перемонтажа. Тогда, когда оно действительно — «искусство», а не аляповатая халтура. Какие запасы остроумия тратились подчас на это дело! В ту славную пору, когда на заре нашего кино, осваивая монтаж, над этим работали еще Э. Шуб, «братья» Васильевы, Бирройс, Веньямин Бойтлер22*.
70 Не могу отказать себе в удовольствии привести здесь один монтажный тур-де-форс, произведенный именно Веньямином, последним из этого ряда.
Пришла из-за границы картина с Яннингсом «Дантон». У нас она стала «Гильотиной». (Сейчас вообще вряд ли кто этот фильм помнит.) В советском варианте была сцена: Камилл Демулен отправлен на гильотину. К Робеспьеру вбегает взволнованный Дантон. Робеспьер отворачивается и медленно утирает слезу. Надпись гласила что-то вроде: «Во имя свободы я должен был пожертвовать другом…»
— Все благополучно.
Но кто догадывался о том, что в немецком оригинале Дантон, гуляка и бабник, чудный парень и единственная положительная фигура среди стаи злодеев, что этот Дантон вбегал к злодею Робеспьеру и… плевал ему в лицо? Что Робеспьер платком стирал с лица плевок? И что титром сквозь зубы звучала угроза Робеспьера, угроза, становившаяся реальностью, когда в конце фильма на гильотину восходил Яннингс — Дантон?!
Два маленьких надреза в пленке извлекли кусочек фильма — от момента посыла плевка до попадания. И оскорбительность плевка стала слезой сожаления по павшему другу…
Таких примеров наша практика знала немало.
Откуда брался мой эксперимент над сценой из Островского?
Может быть, это уже был «аромат» монтажа, несшийся от первых монтажных попыток смежного по «левизне» зачинающегося нашего кино?
Ведь замена «дневника Глумова» из пьесы Островского маленьким комическим фильмом — «кинодневником» — уже пародировала первые эксперименты у нас над кинохроникой.
Но я думаю, что это скорее и прежде всего было влиянием принципа, по которому составляется, «монтируется» цирковая программа или мюзик-холльная. Страстным любителем этого жанра я был с детства.
А под влиянием французов, Чаплина (о котором мы знали лишь понаслышке), первых сведений о фокстроте и джазе пышно расцветала эта ранняя любовь. Вспомните рядом фэксов, Фореггера9, Театр народной комедии и собственного более раннего циркового «Мексиканца».
Этот элемент мюзик-холла в ту пору был, видимо, наиболее питающим для возникновения «монтажного» хода художественного мышления.
Сшитый из разноцветных лоскутов, костюм Арлекина, казалось, вырос в образец построения программы всего вида зрелища, которое выросло на месте того, где когда-то безраздельно царил он.
Так было в отношении спектакля «Мудрец» в целом. Недаром самый метод определялся как… «монтаж аттракционов».
71 Если таково положение с композицией этого спектакля в целом, то к приведенному выше фрагменту его, как частности, могли вести и другие предпосылки.
Не кажется ли самый прием своеобразным отзвуком и реминисценцией… Флобера? Как ни странно, у Флобера имеется один из превосходнейших образцов «перекрестного» монтажа с отчетливой тенденцией выразительного заострения этим приемом. Речь идет о сцене на сельскохозяйственной выставке, на которой происходит первое сближение Эммы с Родольфом («Мадам Бовари»). Переплетаются два разговора: речь муниципального оратора и первый разговор будущих любовников.
«… Отношение религии и земледелия и их постоянное соперничество в ходе цивилизации было проведено превосходно.
Родольф и мадам Бовари беседовали о снах, предчувствиях, о магнетизме.
Восходя к колыбели общественности, оратор рисовал те дикие времена, когда люди жили в чаще лесов и питались желудями. Затем они сбросили с себя звериные шкуры, укутались в сукна, избороздили поля, насадили виноградники. Было ли это благом и не заключалось ли в этом открытии более дурных сторон, чем выгод? Таким вопросом задавался г-н де Мозере.
От магнетизма понемногу Родольф перешел к сродству душ, и, пока г-н председатель напоминал о Цинциннате за плугом, о Диоклетиане, возделывающем капусту, и о китайских императорах, освящающих посевы личным трудом, Родольф объяснял молодой женщине, что эти непреодолимые притяжения коренятся в некотором предшествовавшем существовании. “Например, мы, — говорил он, — почему мы познакомились друг с другом? Какой случайности это понадобилось? Потому, конечно, что на далеком расстоянии, подобно двум рекам, стремящимся слиться воедино, наши частные существования побуждали нас друг к другу”. Он взял ее за руку, она ее не отняла.
“За общее ведение хозяйства!” — кричал председатель.
“Вот, например, вчера, когда я у вас был…”
“Г-ну Бизе из Кенкампуа”.
“Знал ли я тогда, что буду здесь с вами?”
“Семьдесят франков!”
“Сто раз я собирался уйти и оставался с вами…”
“Навоз…”
“С каким бы наслаждением я остался бы сегодня, завтра, все другие дни, на всю жизнь…”»
Как видим, то же сплетение двух линий, тематически одинаковых, одинаково пошлых. Возгоняя дело к монументальной пошлости.
Та же перерезка. Те же каламбурные стыки с каламбурным переосмыслением фраз и содержаний.
72 Литературных примеров можно было бы привести еще много. Самый прием в дальнейшем становится широко популярным.
Наша выходка в отношении Островского осталась «авангардной» и несомненно наиболее наглой (и монтажно обнаженной). В ней перерезались не два парных диалога из четырех персон, а была сделана эта перерезка на три персоны с попеременным присутствием третьего тут и там.
Так или иначе, этот зародыш монтажной тенденции пышно и быстро разрастается в следующей же постановке «Пататра», так и оставшейся на бумаге ввиду отсутствия помещения и технических возможностей для ее осуществления.
Постановка мыслилась в «детективных темпах» с очень быстрой переброской действия, с врезкой сцены в сцену, с одновременной работой нескольких сцен.
Касаясь этой постановки (проекта), хочется вспомнить еще одну из неосуществленных. Она, пожалуй, по тенденции непосредственно предшествует этому проекту. Давая внутри портала сцены попытку разрешения того, что должно было охватывать зал в целом. Ее, может быть, не вредно тоже вспомнить, так как и она сохранилась лишь в эскизах, монтажных планах, была оборвана еще в репетициях и вышла гораздо позднее и из других рук в совершенно иной постановочной, чисто театральной концепции23*.
Речь идет о пьесе Плетнева «Над обрывом»10. Над ней мы работали со Смышляевым в сезоне, следовавшем за «Мексиканцем». Затем мы принципиально разошлись между собой. Затем оба разошлись с Пролеткультом. (После годичного примерно перерыва я в Пролеткульт вернулся уже на чисто режиссерскую работу, хотя по старой памяти продолжал «самоснабжаться» вещественным оформлением собственных постановок.)
В этой пьесе была сцена с изобретателем, несущимся в сутолоке города не то подобно Архимеду в экзальтации только что сделанного открытия, не то спасаясь от злодеев, покушавшихся на плоды его раздумья. Так или иначе, стояла задача разрешения динамики улицы. И не только динамики улицы, но еще и затерянности человека среди темпов «большого города» («урбанизм» был неизбежным атрибутом представлений о Западе).
Мне тогда пришла в голову забавная комбинация бегающих декораций, изображающих здания и фрагменты зданий в уменьшенном виде. Это не были еще нейтральные полированные щиты («murs mobiles»24*), осуществленные в дальнейшем Мейерхольдом в постановке «Треста Д. Е.»11 и в своих разнообразных сочетаниях решавшие обстановку места действия сквозь всю постановку. Это 73 были еще чисто изобразительные, иронически трактованные домики, общественные здания и элементы города.
Мало того. Вероятно, под давлением выразительного задания, требовавшего их перебегов, эти подвижные декорации были еще соединены с людьми. Люди были поставлены на ролики скетинг-ринговского типа, и передвигались они, будучи причудливо врезаны в нарисованные фасады.
Влияние традиций кубизма на этом несомненно. Рассеченность человека плоскостями. Врезка человека в среду и среды в человека была совершенно в плане кубистов. И именно в плане их живописи, сильно тогда еще на меня влиявшей как динамизмом, так и своеобразием форм. Известные «урбанистические» костюмы Пикассо, которые я пародировал позже в эскизах к пародийному же сценарию «Подвязки Коломбины» для театра Фореггера, менее влияли на дело. В отличие от них здесь задание было динамическим в первую очередь. Было желание передать динамику города, мелькание фронтонов, рук, ног, колоннад, голов, цилиндров. Одним словом, нечто такое, что можно было найти у… Гоголя, но что находили прежде всего во французской живописи, пока Андрей Белый12 не обратил внимание на своеобразный гоголевский кубизм.
Как сейчас помню четырехногую комбинацию из двух банкиров и фасада биржи. Цирк, бегавший ногами врезанных в его фасад наездницы и клоуна. Полисмен, простреленный крест-накрест фаэтоном и автомобилем. Все это на роликах и мчащееся сквозь бегающий свет.
Проекты остались на бумаге. Хотя, кажется, уже не осталось и бумаги, и ее заменяет лирика воспоминаний.
В плане же нашего разбора это интересно тем, что перемешанная нарезка крупных планов для передачи динамики города уже присутствует здесь и всячески старается заставить малопригодность сцены служить своим интересам.
Мало того. Здесь же есть элемент двукратности и многократности экспозиций: «впечатывание» человека в здание, соединение среды и человека в сложном изображении.
Перегруженность «Стачки» подобными усложненными приемами — явная «детская болезнь левизны» первых шагов на экране. Она непосредственно связана с этой более ранней театральной тенденцией и через нее восходит несомненно к тем же кубистическим предпосылкам, которые влияли и на нее.
Этот же источник питал экспрессионистическое и авангардистское кино Запада по линии их изобразительной методики определенного этапа.
Интересно проследить дальнейшее развитие этой «личинки» единства человека и среды. Буквальная механическая врезка друг в друга на сцене.
74 Механический элемент вынесен в технику приема многократной экспозиции на кино: экран (в «Стачке») решает эту и гораздо более сложные задачи как чисто пластическую композицию, как синтетическое киноизображение.
Наконец — третий этап. Из механического соединения, из пластического синтеза дело переходит в синтез тематический. Уже не техническим приемом камеры, а композицией строя фильма в целом достигается эффект и ощущение неразрывного единства коллектива и среды, создающей этот коллектив.
И органическая связность матросов, броненосца и моря в пластическом и тематическом разрезе в «Потемкине» уже достигается не трюком, кратностью экспозиций и механической врезкой, а общим композиционным строем вещи.
Но не пропал даром и постановочный план «Пататры». Правда, уже не в области подобного парадоксального кино-театрального плана, но уже в рамках театра. Однако, свернувшись до пределов, уместных на театральном ковре, он сохранил черты своей принципиальной отточенности и внутри чисто театральной области.
Невозможность мизансценного разворота через весь зрительный зал, мизансценного сплетения сцен и зала одной системой разворачивающегося действия была, вероятно, причиной углубленного увлечения проблемой мизансцены внутри сценического действия.
Почти геометрически условная мизансцена «Мудреца» в следующей реализованной постановке («Слышишь, Москва?», осень 1923 года) становится одним из основных элементов передачи остросюжетной выразительности действия.
Монтажная разрезка отчетливо выпадает на долю местами даже чересчур подчеркнутой четкости мизансценной композиции. Построение «вырезывало» группы, перебрасывало внимание из угла в угол, фиксировало крупные планы, руку с письмом, игру брови, блик глаза. Овладевалась техника настоящей мизансценной композиции.
Овладевалась и перерастала в ту чеканку и резку, которую театр уже мало выдерживает. Мизансцена приближалась к своим крайним пределам. Ей уже грозила опасность стать шахматным ходом коня, сменой и процессом смены чисто пластических очертаний в не театральной уже степени очерченности деталей и рисунка.
На этом критическом пункте и по этой линии наш театр через «Противогазы» переломился в кинематограф. Строгая высеченность детали рамкой кадра, переход от кадра к кадру и из кадра в кадр оказались логическим выходом для гипертрофии мизансцены, Теоретически это вскрыло стадиальную зависимость мизансцены и монтажа.
Педагогически это в дальнейшем для ГИКа определило метод подхода к монтажу и кино, построенного через освоение театрального 75 построения и через искусство мизансцены. Качественный скачок, происходящий органично и легко, сохраняя в новом качестве перерастание тех же закономерностей на новом материале, в новой области и в новых условиях.
Итак, на постановке «Противогазов» сошлись все элементы кинематографических тенденций. Фактура турбогенераторов газового завода, заводской пейзаж окружения, ликвидация последних остатков сценического грима и сценичности костюма, мизансцен, раздиравших пределы сценической планировки в осколки самостоятельно сочетаемых элементов действия.
Нелепыми казались аксессуары театра в окружении реальной пластической прелести завода. Нелепыми казались элементы «игры» среди реальности окружения и в остром запахе газа. Удушающими казались пределы «вензелей» сценических переходов, не дававших возможности проецировать человека в те элементы трудового окружения, которые строились вокруг убогой сценической «площадки», заблудившейся между развернутыми площадями массовой трудовой деятельности.
Короче говоря — спектакль провалился. А мы очутились в кинематографе.
Наш первый opus — «Стачка» — как бы в обратном виде, зеркально отражает «Противогазы». Как там завод «влезал» новым качеством в рамки театра, так здесь в съемке и развороте революционно-индустриальной (по тому времени) темы и картины еще продолжали барахтаться пережитки уже ставшей чуждой махровой театральщины.
Рывок от театра был вместе с тем так принципиально резок, что в своем «восстании против театра» отмахнул и существеннейший элемент театра — сюжет.
На тех порах это звучало естественно. На экран выступал коллективизм и действия массы как противопоставление индивидуализму и «треугольнику» буржуазного кино.
Сбрасывая индивидуалистическую концепцию буржуазного героя, наше кино — того периода, конечно, — делало резкий перегиб, оставаясь лишь на самом общем понимании массы как героя.
Впрочем, это было вполне последовательно и закономерно — это был предельно противополагавшийся протест. И в известной мере он отвечал спросу на выражение коллектива и коллективности вообще. На первых порах была горячая потребность сказать о коллективе и коллективном начале «вообще», о коллективизме «как о таковом».
Образа коллективного действия, образа коллектива никакой экран до этого не видел вообще. Массу как пропагандиста действия экран еще не знал.
Самое ощущение «коллективности» нуждалось в образном показе и закреплении.
76 Этим объясняется и отклик, который эмоционально встречал этот, хотя и односторонний еще, показ массы и коллектива.
Односторонний потому, что коллективизм понимает помимо общности в основном еще и максимальный разворот индивидуальности внутри коллектива. Такая концепция непримиримо чужда буржуазному индивидуализму. И эта же концепция отнюдь не целиком исчерпывается той кинематографией, которая создавала фильмы о коллективе первого периода с «героем-массой» в качестве протагониста.
Но, повторяю, для своего времени этот перегиб был законен и уместен. На экран надо было впервые водворять образ и понятие коллективности, социального коллектива, коллектива, объединенного одним порывом.
«Индивидуальность внутри коллектива» была спросом и требованием следующего этапа кинематографа. Этот спрос остается и поныне. И этот спрос предложением пока не удовлетворен.
В своем порыве порвать с буржуазной концепцией, противопоставиться буржуазному кино, поставить коллективизм на место индивидуализма наше кино пошло с отчаянной горячностью.
Повторяю, в этом порыве оно расколотило и представление о сюжете-фабуле. Фабула казалась обеднением, ущерблением многообразности хода событий и явлений. Фабула казалась синонимом индивидуализма в приложении к многогранности событий действительности.
Я сам писал с большой горячностью в 1924 году: «Долой сюжет и фабулу!», рассматривая интригу как «индивидуалистическую линию» внутри всеобщности представляемого целого.
Было достаточно немногих фильмов, чтобы водворить образ коллективизма «вообще» на экран. Встал обостренный интерес к индивидуальности внутри коллектива, интерес к взаимодействию коллектива и личности. Из-под прежней концепции стала уходить почва социального спроса и интереса.
Этот законный интерес, это нормальное требование на реальный показ реальной индивидуальности внутри коллектива класса, естественно, повернул и вопрос строения вещей в новое русло.
Как через отдельного человека, через отдельную индивидуальность должен сквозить и ощущаться класс, взаимоотношение с ним отдельного человека, так и форма построения вещи, наиболее этому отвечающая, — сюжет — через индивидуальный частный ход событий должна и может представлять и воплощать общий облик движущих социальных сил.
Сюжет и фабула, казавшиеся на определенном этапе чуть ли не «вылазкой индивидуализма» в революционную кинематографию, обновленно возвращаются на подобающее им место.
77 В этом принципиальном повороте к сюжету, вероятно, скажется историческая заслуга третьего пятилетия перед советской кинематографией.
Я не случайно пишу о повороте к сюжету, ибо намерений по этой линии больше, чем достижений. И намерения лучше, чем осуществления. Иначе и быть не могло.
Вокруг проблемы сюжета еще нет той бешеной страстности экспериментирования, учебы и изучения, которые велись в период того, что можно было бы назвать «периодом гегемонии монтажа» по областям монтажа и кадра.
А без такой же бешеной учебы, исследования и эксперимента при наличии того низкого уровня требований к сюжету на практике, так высоко поставленного в программе и декларациях, ничего, конечно, получиться не может.
Сюжет и фабулу надо честно брать за рога. И попустительство в отношении перелицовки буржуазных сюжетных обносков надо сообща клеймить и производственникам, и критике, и руководству кино.
Период критического разъедания пройденного этапа советской кинокультуры заканчивается. Одной критикой сейчас больше не проживешь. Культура сюжета с неба не придет. Культуру сюжета надо делать.
Новое сюжетное кино, конечно, в своем младенческом озорстве вчистую отрицало все накопления предшествовавшего периода. Кадр безобразен. Переживания поэтичны. Но изложение топорно.
Поэтичность киноформы исчезла. Перед нами протоколы поступков действующих лиц и проступков их воплотителей.
Вся область выражения экранным образом, образность экрана сошла с холста.
Экран перестал быть экраном. Он стал холщовым четырехугольником подозрительной белизны, и только. По нему двигаются серые изображения людей. Иногда это сопровождается звуком. И все, чего нет, все, что давало прежнее поэтическое и образное обаяние экрану, все то, чего не хватает восприятию зрителя, несмотря на сюжет, для полного эмоционального захвата, все это — именно то, за что «пот и кровь» проливал предыдущий период кинематографии.
И здесь, на рубеже четвертого пятилетия кино, когда стихают абстрактные перебранки эпигонов «бессюжетного кино» с эмбрионами «сюжетного», хочется вспомнить о положительном вкладе среднего пятилетия нашей кинематографии.
Я думаю, что помимо полного овладения элементами кинописьма, техники кадра и теории монтажа этот этап имеет еще громадную заслугу, заслугу глубокой связи с литературой, с традицией литературы, с методологией литературы.
78 Выстраиваясь на противопоставлении себя театру и театральной кинематографии буржуазного Запада, кино этого периода сплело теснейший контакт со всеми видами литературы.
На время отойдя от собственной драмы и драматургии, кино целиком овладело методом эпоса и лирики.
Кино поставило проблемы своей поэтики. Недаром в эти же годы возникло понятие кинообраза как самостоятельного элемента кино.
Недаром в этот же период слагается понятие киноязыка не как рецензентского крылатого слова, а вполне закономерного строя выражения кинематографического мышления, призванного воплощать глубокую философию и идеологию победившего пролетариата.
Протягивая руку новому качеству литературы — ее сюжету и драматизму фабульного напряжения, — кино не может забывать и сбрасывать со счетов этот громадный опыт предыдущих этапов.
Не назад к нему. И не к односторонности своих собственных трех прежних этапов зовем мы в дни пятнадцатилетия нашей кинематографии. Но к синтезу всего того лучшего, что сделано кинематографом прежних этапов в борьбе их за собственное лицо советского кино, к синтезу со всем тем замечательным, что вызывает новый спрос и новые требования сегодняшнего дня по линии сюжета, фабулы и марксистско-ленинского идеологического углубления.
Только синтез двух предшествующих боевых этапов советского кино в энтузиазме разрешения своих новых задач откроет победный путь новому этапу советской кинематографии.
Этапу, победно завершающему пятнадцатилетие победоносного движения нашей кинематографии.
Этапу монументальных синтетических обобщений в образах людей эпохи социализма.
Этапу социалистического реализма на кино.
79 БОЛЬШЕВИКИ СМЕЮТСЯ
(Мысли
о советской комедии)*
Это было ранней весной 1930 года.
Париж.
Не тот дружественный Париж, с которым наша страна сотрудничает в мировой и мирной политике.
Это был Париж после кутеповских дней1. Когда с часу на час ждали налета на наше полпредство. Когда со дня на день ждали разрыва дипломатических отношений двух стран.
В воздухе висело грозное напряжение.
В этой обстановке напряженнейшей атмосферы мне пришлось выступать с докладом в Сорбонне.
Не столько с докладом, сколько со вступительным словом к показу картины «Старое и новое».
За полчаса до начала полицейской провокацией была сорвана демонстрация фильма.
Однако зал уже полон.
Отменять выступление нельзя.
Остается удлинить вступительное слово в самостоятельный доклад. На полный вечер все равно не хватит. И проекцию фильма после доклада остается сменить на игру в вопросы-ответы между лектором и публикой.
Опасная и увлекательная игра. Особенно когда зал вмещает и тех, кто инсинуацией, прямым выпадом или коварной формулой старается поддеть вас в двусмысленном вопросе. Как выяснилось потом, Сорбонна была оцеплена полицией. Кругом стояли грузовики с фликами. Сам Кьяпп2 носился по двору. Ждали возможной стычки и свалки с полицией, запрещавшей просмотр. Под 80 шумок рассчитывали «изъять» кого нужно из зрительного зала. Ведь зал включал и другую сторону — вплоть до Кашена3.
Игра велась удачно полчаса, час, полтора. Вопросы скрещивались с ответами. Аудитория была блестяще настроена. Мы за словом в карман не лезли. Но надо было кончать. Лихорадочно ищешь и ловишь вопрос, на котором можно эффектно закруглить дебаты.
Наконец!
Встает злобно-бледный худощавый человек. На хорах.
«Почему ваша страна не производит комедий? Правда ли, что Советы убили смех?»
Мертвая тишина зала.
Я совсем не находчив. Особенно на большой публике.
Но тут как-то озарило.
Я не ответил на вопрос, а разразился… смехом.
«Еще больше будут смеяться в Советском Союзе, когда я там повторю ваш нелепый вопрос!»
На общем хохоте мы закрыли доклад, ставший митингом.
И пошли через двор старой Сорбонны.
Она походила на осажденную крепость.
Но скандала не случилось.
Проведя все дебаты в атмосфере, казалось бы, легкого диалога, мы закончили митинг взрывом смеха.
Объективных данных для вмешательства полиции на подобные взрывы не было. За смех не арестовывают…
Назавтра писали газеты:
«Страшны большевики не с кинжалом в зубах, а с улыбкой на губах».
Впрочем, я газет в этот день не читал.
С утра меня таскали по охранкам, полиции, префектуре. Выселяя из Парижа. Предписывая выехать из Франции и прочее. Но это сюда не относится. Я же пишу здесь не об этом, а о смехе и ставлю перед собой вопрос: есть наш смех? Будет наш смех. Но каков же будет наш смех?
Каким окажется наш смех вообще? В особенности же на экране. Многие ставили этот вопрос. Многие отвечали на него. Просто. Слишком просто. Другие сложно. Слишком сложно.
Несколько лет тому назад я работал над киносценарием комедии4.
Я работаю очень академично. Подымая валы сопутствующей эрудиции. Дебатируя с самим собой программность и принципиальность. Делая расчеты, выкладки и выводы. Музыку разымать люблю на ходу. Иногда опережая ход. Тогда она не собирается, а тонет в ящиках [с] принципиальными соображениями. Сценарий останавливается, и вместо него набухают страницы рукописи киноисследовательской работы. Не знаю, что полезнее. Но перерастание 81 вопросов за творческую продукцию в вопросы научного анализа пока что часто мой крест. Часто, решив принцип, теряешь интерес к его приложению!
Так случилось с комедией. То, что разобрано и осознано по ней, пойдет в книгу, а не на экран.
Может быть, мне и не дано было сделать советскую комедию.
Но одно отчетливо. Я примыкаю к той традиции, которая не может смеяться не под свист бича. Мне близок смех разрушения.
Этот разрушительный присвист памфлета уже звучал в пробах пера комического, разбросанных по «Старому и новому». Этот присвист еще острее звучал в недоработанной тогда комедии.
Но время не пропало.
Я принципиально решил для себя один пункт.
Чем примечателен Чаплин?
Чем Чаплин выше всей комедийной кинопоэтики?
Тем, что Чаплин глубоко лиричен.
Тем, что каждый его фильм вызывает в определенном месте слезу настоящего теплого человеческого чувства.
Чаплин — чудак. Взрослый с поведением ребенка.
Чаплин и виды на нашу комедию.
Каков путь дешевого вульгаризаторства, чтобы не сказать — убогого плагиаризма?
Переодеть действующих лиц, переименовать ситуацию — и сохранить основное, что было оригинальным вкладом Чаплина в культуру киножанров.
Для отвода глаз это можно было бы назвать экспериментом.
Но, конечно, не это наш путь.
И совместными трудами логики и вдохновения, возможно, я нашел то равноценное, что должно явиться в жанре нашего кино.
Мне кажется, лирическое, сентиментальное в хорошем смысле слова — не то, что станет чертой замечательности нашего высокого киножанра.
Но нечто, ставшее на это место.
Если мы там имеем человеколюбие, участие в горестях меньшого брата, слезу об униженных, оскорбленных и обойденных судьбой, то здесь на место этого станет эмоция социальная: социалистическое человеколюбие. А социальное человеколюбие не в сожалениях, а в пересоздании, где сцена из комической становится не индивидуально лирической, а социально лирической. Социально же лирическое — есть пафос. Лирика массы в момент слияния воедино — это гимн. И этот сдвиг комического не в лирическую слезу, а в слезу пафоса — вот где мне виделась направляющая того вклада, что имеет врастить наше кино в кинокомедию.
И второе. Не только обобщенно-собирательный тип войдет в нее. Как Чаплин. А тип, одновременно фигурирующий как 82 понятие. Понятие садится, понятие бреется. Понятие снимает шляпу и укрывается одеялом.
Мы все начинаем жизнь эксплуататорами. Нас девять месяцев кормит материнское чрево. Нас долгие месяцы кормит материнская грудь.
Детство — эксплуататорски потребительское время на этапах нашего биологического развития.
В пределах своего этапа оно уместно и обаятельно. Пережив себя, оно отвратительно и лишь украшение для идиотов.
Эксплуататорские социальные взаимоотношения на каких-то этапах двигали прогресс. Возникновение буржуазии было прогрессивно. Эксплуататорские взаимоотношения — социальная инфантильность. И отвратительность этих взаимоотношений сразу же обрисовывается, как только человечество становится на ноги. То есть, по правде говоря, одновременно с их же возникновением!
Объектом нашего смеха станет вот именно эта черта: социальная инфантильность, застрявшая в век социальной взрослости, взрослости социалистической.
Трудно не смеяться над Чаплином-обойщиком, делающим маникюр громадными ножницами для резки обоев. Но трюк Чаплина индивидуально алогичен.
Смех бывает разный. И термины «наш» и «не наш», несмотря на всю их заезженность, отчетливо, однако, находят, над кем расположиться.
Действие как будто бы одно. Однако пропасть осмысления.
Теперь возьмем пример не на идиотизм, а на лирику, сантимент и чувство.
Одна из лучших сцен чаплиновских комедий — финал «Пилигрима».
Беглый каторжник — Чаплин похитил облачение пастора. Облачение оказывается роковым. Он попадает в лапы… прихожан. Он обязан читать проповедь. Он блестяще справляется, изображая в лицах бой Давида и Голиафа. Одна из смешнейших сцен чаплиновского репертуара. Дальше пропадают церковные деньги. Личность Чаплина раскрывается. Но это не он украл деньги. Наоборот. Он деньги нашел и вернул. Святость собственности соблюдена. Но Чаплин — каторжник. Должна быть соблюдена и святость закона. Конный шериф ведет жалкую фигурку арестованного по пыльной дороге. Но шериф оказывается правнуком сыщика Жавера из «Отверженных» Виктора Гюго. Убедившись в предельном благородстве бывшего каторжника Жана Вальжана, которого он полжизни преследует, Жавер в первый раз в жизни нарушает долг. Он уходит с поста. Отпускает Вальжана. Вальжан свободен.
Шериф сентиментален. Шериф хочет дать бежать благородному каторжнику — Чаплину. И тут гениальность Чаплина. Шериф 83 ведет его около самой мексиканской границы. Но благородному каторжнику в голову не приходит переступить ногой вправо и уйти в вольную Мексику. Шерифу никак не удается навести его на эти соображения. Чаплин не убегает. И здесь чудная сцена: шериф просит каторжника… сорвать ему цветок. Цветок — по ту сторону границы. Цветок уже в Мексике. Чаплин услужливо перешел границу. Облегченно шериф шпорит коня. Но вот… его догоняет Чаплин с цветком.
Дело, кажется, решается пинком в зад и кадром Чаплина, уходящего вдаль: одна нога его в САСШ, другая в Мексике. Посередине — граница. Вещь безысходна…
Мы знаем, как большевики борются.
Мы знаем, как большевики работают.
Мы знаем, как большевики побеждают.
Сегодня мы видим, как большевики смеются.
«Наш смех» и «их смех» оказывается не абстракцией. Между ними пропасть разного социального осмысления.
Каким же вырисовывается комизм и смех, который несет в мир молодой пролетарский класс, власть взявший в Октябре и в твердых руках несущий ее к окончательным победам?
Будет ли его смех смехом пустой забавы и веселого времяпрепровождения на полный желудок или средством забыться от житейских невзгод?
Будет ли это только мягкая ирония над забавными невзгодами смешного чудака, попавшего в смешное положение?
Нет. Не такова традиция российского смеха.
Традиция российского смеха иная.
Она скреплена бессмертными именами Чехова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.
И отличительной чертой этого смеха была неизбежная социально обличительная нота.
От мягкого иронизирования Чехова до горечи гоголевского «смеха сквозь слезы» и, наконец, до свистящего бича щедринского памфлета и сатиры.
Каков же будет смех, пришедший сменить смех Чехова, смех Гоголя, смех Салтыкова?
Пойдет ли он по линии беззаботного гогота американского смеха, или будет он нести с собой традицию мученического смеха русских комиков XIX века?
Всем нам предстоит присутствовать и творчески участвовать в создании нового вида смеха, в заполнении новой страницы мировой истории юмора и смеха, как фактом существования Советского Союза была вписана новая страница в историю и разновидности социальных форм.
Нам еще рано беззаботно хохотать.
Дело строительства социализма еще не закончено.
84 Места беспредметному легкомыслию нет.
Смех — лишь смена оружия.
Смех — не более как легкое оружие, разящее так же смертельно там, где незачем пускать всесокрушающие танки социальной гневности.
Если в душной атмосфере XIX века царской России или XX века везде, кроме России, ставшей СССР, памфлет, сатира, смех были застрельщиками протеста, то у нас на долю смеха остается добить врага, как остается пехоте затопить всю линию вражеских окопов, когда тяжелой артиллерией пробит путь вонзающему штыку.
Служа началом боя там, смех победителя у нас наступает в приближении победы в нашей стране.
Так представляется мне абрис смеха в обстановке последних схваток с классовым врагом, по всем мыслимым и немыслимым щелям пытающимся еще противодействовать ходу победно шествующего социализма.
Комическая личность, комический типаж, комический персонаж в традиции Запада идет не дальше смешного представителя своего общественного окружения, идущего не дальше шовинизма и национализма осмеяний.
По крайней мере на кино, из которого всей силой и всеми средствами стараются изгнать черты воинствующего классового юмора.
Подняться над ограничениями животной смехотворности и юмора биологического осмеяния возможно, только поднявшись до высот понимания социальной значимости кривой рожи, в которую нацеливаешься смехом.
Комизм социальной маски и сила социального осмеяния должны лечь и лягут в основу форм того воинствующего юмора, которым не может не быть наш смех.
Таков, мне кажется, должен быть и будет смех этапа последних решительных боев за социализм в одной стране.
85 ГОРДОСТЬ*
Новое идейное содержание, новые формы воплощения,
новые методы теоретического осмысления — вот что так поразило зарубежного зрителя в советском кино.
Наши фильмы, даже не всегда полностью решенные тематически, не всегда совершенные по форме воплощения и далеко еще не до конца теоретически познанные и осмысленные, достаточно критически воспринимаемые нами самими, для зарубежных стран прозвучали полной новизной.
Ибо громадна пропасть, отделяющая наше кино как явление культуры — культуры новой и социалистической — от кино других стран, где оно стоит в одном ряду с другими времяпрепровождениями и развлечениями.
В Америке и в Европе неожиданностью удара прозвучало появление наших картин, где внезапно во всей широте были поставлены социальные вопросы перед аудиториями, которые с экранов никогда об этом не слыхивали, никогда этого не видывали.
Но этого было бы мало.
Рожденные новыми идейными требованиями, желанием быть на одном с ними уровне, быть им до конца адекватными, формальные особенности наших картин поражали Запад не меньше, чем сами темы их и идеи.
И фильмы наши, иногда на много лет опережая официальные, дипломатические признания нашей страны, победоносно вламывались в капиталистические страны вопреки цензурным запретам и своим искусством вербовали в друзья даже тех, кто не всегда сразу мог понять величие наших идеалов.
86 Сама же наша кинематография — самая молодая по времени из всех кинематографий мира, но зато самая полнокровная, жизненная, богатая пафосом и глубиной идей — очень быстро завоевывает себе симпатии и за пределами нашей страны. Больше того: советское кино начинает оказывать влияние на кинематографы других стран.
Если мы сами на первых порах были не малым обязаны американцам, то здесь в полном смысле слова «долг платежом красен».
Это влияние советского кино очень разнообразно.
То оно сказывается в робкой попытке затронуть более широкую тему, чем обычный альковный треугольник; то в более смелом показе действительности, характерном для наших фильмов, типичных тем, что они всегда правдивы; то это просто желание воспользоваться теми формальными приемами, которыми оплодотворило наш кинематограф новое идейное его содержание.
Что же касается работы в области теоретического осмысления кино, то и на сей день мы остаемся почти единственными в мире, работающими в этом направлении, ибо нигде, кроме нас, не делается попыток искусствоведческого анализа этого наиболее удивительного из искусств.
И не случайно поэтому, что о кино как об искусстве вообще и далее — как об искусстве не только равном, но во многом превосходящем своих собратьев серьезно заговорили только с начала именно социалистического кинематографа.
Если величайшие умы человечества в нашей стране еще задолго до полного расцвета нашей кинематографии назвали кинематограф важнейшим из искусств и наиболее массовым из них, то понадобилось появление блестящей плеяды советских фильмов, чтобы и на Западе наконец заговорили о кино как об искусстве столь же серьезном и достойном внимания, как театр, литература, живопись.
Высокая социальная идейность, определившая художественное мастерство наших фильмов, снискала такое признание кинематографу. Ибо только у нас кинематограф до конца сумел раскрыть все свои внутренние возможности конечной стадии, к которой устремлены через столетия тенденции каждого отдельного из искусств.
Для каждого из искусств кино является как бы высшей стадией воплощения его возможностей и тенденций.
И мало того, для всех искусств, вместе взятых, кино является действительным, подлинным и конечным синтезом всех их проявлений; тем синтезом, который распался после греков и который безуспешно старались найти Дидро в опере, Вагнер в музыкальной драме, Скрябин в цветных концертах и т. д. и т. п.
Для скульптуры кинематограф — это цепь сменяющихся пластических форм, взорвавших наконец вековую неподвижность.
87 Для живописи — это не только разрешение проблемы движения изображений, но и достижение небывалого нового вида живописного искусства, искусства вольного тока сменяющихся, преображающихся и переливающихся друг в друга форм, картин и композиций, доступных ранее только музыке.
Сама музыка располагала этой возможностью всегда, но только с приходом кинематографа мелодический и ритмический поток ее приобретает возможности образно зрительные, образно ощутимые, конкретно образные (правда, пока еще только в немногочисленных случаях действительно полного слияния звукозрительных образов, которые знает наша практика).
Для литературы — это такое же распространение строгого письма совершенной поэзии и прозы на новую область, где, однако, желанный образ непосредственно материализуется в звукозрительное восприятие.
Наконец, только здесь сливаются в доподлинном единстве все те отдельные зрелищные элементы, которые были неразрывны на заре культуры и которые тщетно старался вновь воссоединить театр.
Здесь действительно едины:
и масса и индивид, где масса доподлинно масса, а не горсть участников «народной сцены», обегающих задник, чтобы казаться более многочисленной.
Здесь едины и человек и пространство. А сколько изощренных умов безуспешно бились над разрешением этой проблемы на подмостках — Гордон Крэг1, Аппиа2 и другие. И как легко решается эта проблема в кино!
Здесь экран не должен уподобляться абстракциям Крэга для того, чтобы создавать соизмеримость среды и человека. Он, не довольствуясь даже простой реальностью места действия, заставляет участвовать в действии самую реальную действительность. «У нас запляшут лес и горы» — уже не просто забавная строчка из крыловской басни, но строка партитуры из «роли» пейзажа, обладающего такой же партией в фильме, как и все остальные. Фильм сливает в едином кинематографическом акте людей и человека, города и сельские пейзажи. Сливает в головокружительной смене и переброске. Во всеобъемлющем охвате целых стран или любого единичного персонажа. В его возможностях проследить рядом не только как в горах собирается туча, но и как под ресницей набухает слеза.
Диапазон творческих возможностей кинодраматурга безгранично вырастает. А клавиатура организатора звука, давно переросшего за пределы «обыкновенного» композитора, разбегается на километры вправо и влево и охватывает не только все звуки природы, но и те, что может родить художественный произвол автора.
88 Мы иногда просто забываем, что в наших руках — доподлинное чудо, чудо техники и художественных возможностей, у которого мы пока отвоевали самую ничтожную долю этих возможностей!
Но особенно ярко засверкают все преимущества кинематографа, если мы представим себе содружество искусств, расположенных по степени того, в каком объеме удается им осуществить свою главную задачу — отразить действительность и владыку этой действительности — человека.
Как узок здесь диапазон скульптуры, в большинстве своем вынужденной выхватывать человека из неразрывной с ним среды и общества, чтобы по намекам — застывшим его чертам и ракурсам — дать возможность отгадать его внутренний мир, отображающий мир его окружения. Она лишена слова, цвета, движения, смены фаз драмы, поступательного развертывания событий!
Как связана литература, способная уйти во все тончайшие извивы сознания человека и движения событий и эпох, умозрительными приемами и мелодико-ритмическими средствами, позволяющими представить лишь намеками ту чувственную полноту, к которой взывает каждая строчка, каждая страница.
Как несовершенен и ограничен в этом отношении и театр! Лишь по внешним «физическим действиям» и поступкам способен он передать зрителю внутреннее содержание, внутреннее движение сознания и чувств, внутренний мир, которым живут его герои и сам автор.
Отсекая попутное и базируясь на главном, мы для метода каждого из искусств могли бы сказать:
метод скульптуры — это сколок со строя человеческого тела,
метод живописи — сколок с положения тел и соотношения тел с природой,
метод литературы — сколок с взаимосвязи действительности и человека,
метод театра — сколок с поступков и действий людей, побуждаемых внешними и внутренними мотивами,
метод музыки — сколок с законов внутренней гармонии эмоционального осмысления явлений.
Так или иначе, все они — от самых внешних и лапидарных, но зато более материальных и менее преходящих, до самых тонких и пластичных, но зато менее конкретных и трагически мимолетных, — в меру отпущенных средств и возможностей стремятся добиться одного.
И состоит оно в том, чтобы строем своим, методом своим в возможной полноте воссоздать, отразить действительность — прежде всего сознание и чувства человека.
Но ни одному из «прежних» искусств достигнуть этого сполна и до конца не дано.
89 Ибо потолок для одного — человеческое тело.
Потолок другого — его действия и поступки.
Потолок третьего — неуловимые сопутствующие этому эмоциональные созвучия.
Полного охвата всего внутреннего мира человека, воспроизводящего мир внешний, не может достигнуть ни одно из них.
Когда же какое-либо из этих искусств пытается ставить себе задачи, выходящие за его собственные рамки, то неизбежен распад самих основ того искусства, которое на это дерзает.
Разве не распадом скульптуры, по существу, является одно из непревзойденных произведений Родена — «Бальзак»3.
Это превзойденная скульптура.
«Превзойденная» и, следовательно, уже не скульптура. Пусть больше, чем она, но значит уже не она!
И удивительность, я бы сказал, единственность и неповторимость этого произведения есть прямой результат того, что здесь выразительная задача далеко выходит за пределы привычно свойственного своей области искусства.
В одной из корреспонденции из Парижа за август 1939 года по поводу открытия этого памятника (1 июля 1939 года) я нашел чьи-то воспоминания о тех намерениях, что руководили Роденом при создании «Бальзака»:
«… Роден… рассказал мне, что однажды, когда он стоял в Лувре перед замечательным бюстом Мирабо работы Гудона, ему пришла в голову мысль, которая впоследствии оказала влияние на все его творчество. Роден увидел, что голова Мирабо поднята вверх и властный взгляд его словно скользит над огромной толпой. И Роден, по его словам, понял, что Гудон вызвал к жизни невидимую толпу, перед которой выступал Мирабо.
Создавая своего “Бальзака”, Роден пытался воссоздать атмосферу, окружавшую писателя. Изобразив Бальзака в халате, шагающим словно во сне, он хотел, чтобы зрители могли представить себе гениального ясновидца ночью, в часы бессонницы, диктующего свои произведения.
Он хотел, чтобы, глядя на его скульптуру, можно было представить себе беспорядок в комнате, неубранную постель, разбросанные по полу листки корректуры. Он хотел, чтобы все герои гениального Бальзака возникли вокруг писателя…»
Разве это не прямая «узурпация» будущих принципов кино? Кино, которое, как ни одно искусство, единственно способно сверстать в обобщенный облик: человека и то, что он видит; человека и то, что его окружает; человека и то, что он собирает вокруг себя?
Самая героическая попытка литературы достигнуть этого же состояла в том, что пытался сделать Джемс Джойс4 в «Улиссе» и в других произведениях.
90 Здесь достигнуто предельное воссоздание того, как действительность отражается и преломляется в сознании и чувствах человека.
Своеобразие Джойса выражается в том, что он своим особым «двупланным» приемом письма все время пытается разрешить именно эту задачу: он разворачивает показ события одновременно с тем, как оно проходит через сознание и чувства, ассоциации и эмоции главного героя.
Здесь же, как нигде, литература достигает почти физиологической осязаемости всего того, о чем она пишет. Ко всему арсеналу приемов литературного воздействия здесь присоединяется еще композиционный строй, который я бы назвал «сверхлирическим». Ибо если лирика воссоздает наравне с образами и самый интимный ход внутренней логики чувств, то Джойс уже дает сколок с самой физиологии образования эмоций, сколок с эмбриологии формирования мыслей.
Эффекты местами поразительны, но заплачено за них ценой полного распада самих основ литературного письма; ценой полного разложения самого метода литературы и превращения текста для рядового читателя в «абракадабру».
Здесь Джойс делит печальную судьбу со всем содружеством так называемых «левых» искусств, расцвет которых совпадает с достижением капитализмом своей империалистической стадии.
И если мы взглянем на эти «левые» искусства с точки зрения изложенной тенденции, то обнаружится крайне любопытная картина закономерности этого явления.
С одной стороны, здесь твердая вера в нерушимость существующего порядка и отсюда — убежденность в человеческой ограниченности.
С другой стороны, — самоощущение искусствами необходимости сделать шаг за пределы своей ограниченности.
Но это часто взрыв, направленный не вовне и не на раздвижение рамок своего искусства, что единственно удавалось бы через расширение его тематического содержания в сторону общественно-прогрессивную и революционную, а… вовнутрь, в сторону средств искусства, а не содержания искусства. И потому этот взрыв часто оказывается не созидательным и двигающим вперед, а разрушительным и разлагающим.
Таково положение той части художников, которые, не решаясь примкнуть к революционно-поступательной части истории, обрекают себя на гибель.
Они подобны людям, бьющимся головой об стенку и воображающим, что пробивают потолки своих возможностей.
И сколь отлична судьба тех художников, которые, до конца приняв революцию, навсегда связали с ней судьбу своего искусства!
91 Особенно ярка история Маяковского, проделавшего путь от поэта-футуриста к тому, чтобы стать величайшим поэтом нашей социалистической эпохи.
Таков путь и выход для самих творцов.
Таков же путь и выход для самих искусств, которые в революционной идеологии и тематике содержания своих произведений находят выход из своей идейной ограниченности.
По линии же выразительных средств выход их за собственные пределы остается переходом на более совершенную стадию возможностей — в кинематограф.
Ибо только кино за основу эстетики своей драматургии может взять не статику человеческого тела, не динамику его действий и поступков, но бесконечно более широкий диапазон отражения в ней всего многообразия хода движения и смены чувств и мыслей человека. И это не только как материал для изображения действий и поступков человека на экране, но и как композиционный остов, по которому расположатся осознанные и прочувствованные отражения мира и действительности.
Как легко способен кинематограф распластать на подобный график звукозрительное богатство действительности и орудующего в ней человека, заставив тему еще и еще раз рождаться через процесс кинематографического сказа, списанный со становления эмоции неразрывно чувствующего и мыслящего человека.
Это не задача и для театра. Это этажом выше «потолка» его возможностей. И когда театр от своих возможностей хочет перескочить в подобный разряд, то и он, не менее чем литература, также должен расплатиться ценою своей жизненности и реализма. Он должен уйти в нематериальность произведений какого-либо Метерлинка, по сочинениям нам известного, а по «программе» мечтавшего именно об этой для театра неуловимой «синей птице»!
В какие дебри антиреализма неизбежно заходит театр, как только он начинает себе ставить «синтетические» задачи! Достаточно вспомнить для примера хотя бы только два случая: «Théâeatre d’Art» и «Théâtre des arts», последовательно открывшиеся в Париже в 1890 и 1910 годах25*.
Первый театр, организованный поэтом-символистом Полем Фором5, по отношению к сцене выдвигает положение: «Слово рождает декорацию и все остальное».
«… Это означало, что лирика, заключенная в стихах поэта, целиком определяет собой сценическое построение спектакля…».
На практике это приводило к спектаклям типа постановки «Девушки с отсеченными руками» (1891) Пьера Кийяра6. Это 92 произведение, «изложенное в форме диалогизированной поэмы, было инсценировано таким образом, что чтица, стоявшая в углу просцениума, читала прозаические места, отмечавшие перемену места действия и излагавшие сюжет, тогда как на сцене, затянутой газовым занавесом, двигались актеры, читавшие стихи на фоне золотого панно, изображавшего иконы, нарисованные Полем Серрезье7 в манере религиозной живописи “примитивов” позднего средневековья. Подобная стилизация декоративного оформления должна была… служить средством для “раскрытия лирики, заключенной в стихах”».
«Преимущество отдается лирическому слову, — писал критик П. Вебер, — театр как бы полностью исчезает, дабы уступить место диалогизированной декламации, своего рода поэтической декорации».
При этом Пьер Кийяр выставлял требование, чтобы «декорация была чисто орнаментальной фикцией, которая дополняет иллюзию по аналогии с красками и линиями драмы…
… Стремясь отыскать новые средства для “индуктивного заражения” зрителей, театр Поля Фора пытался осуществить на практике теорию соответствия разнородных ощущений, популярную среди поэтов и теоретиков символизма…».
Однако и это, вовсе не предосудительное намерение снова на театре неизбежно приводило к нелепым эксцессам.
… Так, например, в представление «Песни песней» Руаньяра8 было введено не только музыкальное сопровождение, но «аккомпанемент запахов, сочиненных в тональности, соответствующей различным стихам». Театр пытался установить соответствие между звуками музыки, стихами, декорациями и… духами…
Я думаю, что несовершенство соответствий, которые удавалось найти в других элементах, вело к этой нелепости.
В программе второго театра (на этот раз мецената дилетанта Жака Руша) значилось немало пунктов того же рода, «… декораторы Дэтома, Дрэза и Пио изощряются в изобретении схематизированных декораций, стремясь сочинять “симфонию красок в дополнение к симфонии звуков…”»
Все эти попытки синтеза неизбежно разбиваются и приводят к антиреализму.
И все эти же задачи, поставленные перед кино, не только не уводят его от реализма, но способствуют его самым внушительным реалистическим воздействиям.
Неожиданная «информирующая» чтица — кстати сказать, простой сколок с обязательного в японском театре Кабуки чтеца — совершенно органически вплеталась титром в ткань фильма еще в эпоху немого кино.
Никого не беспокоя, она и сейчас подчас читает «прозаические места, отмечающие места действия и излагающие сюжет», предоставляя 93 изобразительно-кадровую часть фильма под лирические переживания героев.
Еще в немом кино неоднократно делались попытки идти в этом направлении дальше и вовлекать титры в самую гущу действий, драматизируя их монтажом и разницей кадрового размера. Вспомним хотя бы, например, монтажно-титровое начало «Старого и нового», достаточно эмоционально ритмизированное и вводящее в атмосферу фильма (см. рисунок).
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
не 10 |
|
|
||
|
|
не 20 |
|
||||
|
а именно |
||||||
|
|
|
|
сто |
|
|
|
|
СТО |
||||||
и т. д.
В звуковом кино титр, оставаясь равноправным сочленом в семье выразительных средств, одновременно же перерастает в еще большее приближение к чтецу «условного театра» — в дикторский голос. Это голос, драматургическая возможность вплетения которого в драму пока что почти не использована кино.
Об этом голосе очень мечтал покойный Пиранделло9, когда [мы] с ним встречались в Берлине в 1929 году.
Как близок подобный голос, извне вмешивающийся в действие, всем концепциям Пиранделло! В ироническом плане его неплохо использовал Рене Клер в «Последнем миллиардере»10.
«Тайна» газа, которым заволакивалась сцена, лежит, очевидно, в желании этим флером «унифицировать» разнородность материальности реальной среды: писаных декораций, трехмерности людей и подлинных фактур (например, позолоты).
Эту труднейшую задачу для театра (ее разрешения искали в сотнях вариаций, почти неизбежно приводивших в конечном счете к «зауми» разнообразного вида) кино решает наилегчайшим способом, орудуя с фотообликами равно реальных в себе предметов, попадающих в его поле зрения. В тайнах своенравной, активной, а не просто натуралистически пассивной звукозаписи лежит такой же секрет возможности гармонизации звуков, которые в своем непосредственно природном существовании могут и не быть способными к сочетанию и оркестровке.
Наконец, крупнейшего успеха кино достигает как раз в том, перед чем отступает театр. Это не только в области «симфонии красок в дополнение к симфонии звуков». Здесь звукозрительное кино празднует свои особенно радостные победы. Но это прежде всего в том, что действительно до конца доступно лишь кинематографу.
94 Это подлинное и до конца «раскрытие лирики, заключенной в стихах», — той лирики, которой неизбежно охвачен автор фильма в местах особо эмоциональных.
Печальные результаты «левых» театров на этом пути мы только что привели; то же самое в отношении «левой» литературы показали выше.
Разрешение же этой задачи остается целиком делом кино.
Только здесь, сохраняя все богатство материально-чувственной полноты, реальное событие может быть одновременно
и эпическим по раскрытию своего содержания,
и драматическим по разработке своего сюжета,
и лирическим по той степени совершенства, с которым может вторить тончайшим нюансам авторского переживания темы только такой изысканный образец формы, как система звукозрительных образов кинематографа.
Когда кинопроизведение или часть его достигает этого тройного драматургического синтеза, то впечатляющая сила его особенно велика.
В моем личном творчестве это было именно так.
Три наиболее, пожалуй, удачные в моем творчестве сцены именно таковы: они эпичны, драматичны и вместе с тем наиболее лиричны, если под лирикой понимать нюансы сугубо личного переживания автора, определяющие отсюда вытекающие формы композиции.
Это «Одесская лестница» и «Встреча с эскадрой» в «Потемкине»; «Атака рыцарей» в «Александре Невском».
О первой и последней сцене я писал в статье «О строении вещей», где указывал, что «лестница» в своем композиционном ходе «ведет себя как человек, охваченный экстазом», а о «скоке рыцарской конницы» в «Александре Невском», что
«… по сюжету — это стук копыт,
по строю — это стук взволнованного сердца…».
То же можно сказать и о «Встрече с эскадрой» в «Потемкине», где работа машин должна была восприниматься как волнующееся коллективное сердце броненосца, а ритмы и каденции этого биения точно воспроизводят лирически пережитое автором, когда он ставил себя в положение мятежного броненосца.
Кино решает подобные задачи с предельной легкостью.
Но не в легкости и доступности этого суть дела.
А в конкретности, материальности и неразрывной совместимости всех этих достижений с реалистическими требованиями, которые стоят решающим условием для искусства живого, полноценного, плодоносящего.
Так по всем своим особенностям кинематограф находится на шаг впереди по отношению к смежным областям, оставаясь в то же самое время современником и театру, и живописи, и скульптуре, 95 и музыке. Когда-то в прыти юношеского озорства мы сами считали, что всем другим искусствам пора скрыться, ибо явилось новое искусство, более передовое, чем каждое из них по линии их же возможностей и признаков.
Пятнадцать лет назад, еще только «замахиваясь» на работу в кино, мы называли театр и кино «Два черепа Александра Македонского» (так и называлась статья, напечатанная в «Новом зрителе»). Вспоминая анекдот о балаганном музее, где среди раритетов рядом лежат череп Александра Македонского, когда ему было двадцать пять лет, и его же череп, когда ему было… сорок, мы считали, что сожительство театра и кино рядом так же нелепо, ибо кино есть театр, достигший зрелого возраста…
Конечно, это было фактом собственной биографии, в которой я сам «перерастал» из театра в кино, но никак не фактом истории театра, который мирно сосуществует с более передовой формой — кино.
Или, может быть, это для кого-нибудь не до конца очевидно?
И нужно ли опять громоздить пример на пример, чтобы еще и еще раз подчеркнуть эту самоочевидность?
Ограничимся одним — самым театральным элементом театра: играющим актером.
Разве не ставит кино перед актером требований, во много раз превосходящих по рафинированности то, с чем он безбедно может прожить на подмостках?
Взглянем на экранные действия даже наилучших актеров, особенно на самых их первых шагах: разве то, что кажется верхом правдивости и эмоциональности на подмостках, не вопит с экрана чудовищным наигрышем и сменой эпилептических гримас?
Сколько трудов положено лучшими мастерами сцены, чтобы от широких рамок театра перестроить свое мастерство к «тесным вратам» экрана!
Как утончается изысканность и тонкость их игры от эпизода к эпизоду, от фильма к фильму!
Как на глазах у зрителя экранная «театральность» переходит в подлинную жизненность на экране! Как удивителен и нагляден в этом отношении рост покойного Щукина не только от образа к образу, но и от фильма к фильму — «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году»!
Самоконтроль, доведенный до миллиметров движения, чтобы не выскользнуть из рамок кадра или соскользнуть с фокуса в крупном плане.
Степень правдивости чувства, не позволяющая прятаться за неизбежные условности упраздненной экраном «сцены».
Сверхконцентрация и мгновенное вхождение в роль, несравнимо более трудные в кино, чем на сцене, где не приходится пылать 96 в огне прожекторов, творить посреди улицы, в морском прибое, на кувыркающемся самолете или играть сперва смерть, с тем чтобы через два месяца играть простуду, за которой она последует!
Как видим, показатели все те же, но уровень требований необъятно возрос, и ретроспективное обогащение предшествующих этапов развития, идущих рядом, несомненно и очевидно.
И обратно.
Распознать и, распознав, развить тот или иной элемент кино можно, только подробно разобравшись в корнях явлений кино. Но корни каждого из элементов кино лежат в других искусствах.
Человек, не познавший все тайны законченной мизансцены, никогда не познает монтажа.
Актер, не овладевший всем арсеналом театра, никогда не сверкнет на экране.
Только овладев всей живописной культурой, дойдет оператор до осознания основ композиции кадров.
И только на базе всего опыта драматургии, эпоса и лирики сможет писатель создать до конца новое, небывалое явление литературы — киносценарий, включающий в себя такой же синтез литературных видов, как подобный ему синтез всех видов искусств воплощает кинематограф в целом.
Но неисчерпаемы возможности, которые дает искусство, достигшее своей высшей стадии развития в виде кинематографии, не только мастерам и художникам практикам.
Столь же неоценимо и то, что дает эта высшая стадия развития искусства тем, кто задумывается над общими закономерностями произведений искусства; больше того — тем, кто теоретически старается осмыслить явление искусства в целом как явление общественное во всем своеобразии и неповторимости своего особого метода отражения мира и действительности.
На этом пути наш кинематограф — столь же неисчерпаемый кладезь для изыскания общих закономерностей и положений, касающихся искусства как одной из своеобразнейших отраслей духовной деятельности человека.
Ибо наше кино как содержанием и строем своим, так и в теоретическом своем осознании — единственное в мире кино, отражающее победивший социалистический строй.
Поэтому оно должно располагать и располагает всеми данными, чтобы послужить тем совершенным материалом для исследования, который позволит марксистскому анализу окончательно снять последние покровы «мистики» и тайны с метода искусств, водрузив знамя науки на том участке, который ранее был отдан классовому злоупотреблению и злой воле буржуазного обмана, лженауке и агностицизму.
Мало об этом думают.
Еще меньше делают.
97 А между тем в наших руках столь совершенная стадия развития всех искусств, слившихся в одном — в кинематографе, что мы можем вычитать из нее уже бесконечно многое для познания всей системы и метода искусств, единого и исчерпывающего для всех и вместе с тем своеобразного и индивидуального на каждом отдельном участке.
Ибо здесь — в кино — впервые достигнуто подлинно синтетическое искусство — искусство органического синтеза в самой своей сущности, а не синтеза в виде некоего «концерта» соприсутствующих смежных «сведенных», но в себе самостоятельных искусств.
И это же впервые дает нам осязательно в руки одновременную полноту всех основоположных закономерностей, управляющих искусствами вообще.
Тех закономерностей, которые мы могли выхватывать лишь по кусочкам: там из опыта живописи, здесь — из практики театра, где-то — из общей теории музыки.
Так до конца осознанный метод кино сумеет до конца раскрыть понятие о методе искусства вообще.
Итак, есть чем гордиться в связи с двадцатилетием нашего кино.
Внутри нашей страны.
И за пределами ее.
Внутри самого искусства кино и далеко за его пределами, через всю систему искусств в целом.
Есть чем гордиться.
Но есть и над чем трудиться практикам и теоретикам нашего искусства не на одно пятилетие нашего славного будущего впереди!
98 ДВАДЦАТЬ*
Если бы мне поручили написать историю нашего кино, я подошел бы к этой задаче не как историк, а как художник.
Как художник-баталист.
Я развернул бы широкие сменяющиеся полотна упорных боев.
Это были бы прежде всего сплоченные армии новых революционных идей, выступающих против идей старых и реакционных: большие массовки общего плана.
Это были бы ожесточенные драки отдельных полков между собой, например так называемых московской и ленинградской школ; прозаического и поэтического кинематографа и т. п.
Драки тем более ожесточенные, что, идя противоположными путями к одной и той же конечной цели, эти полки должны были неизбежно предлагать каждый свою стратегию: средние планы.
Это были бы стычки отдельных отрядов по поводу того или иного редута, участка, особенно резко отточенных принципиальных положений: крупные планы.
Это были бы эпизоды отдельных поединков между знаменосцами тех или иных непримиримо поставленных частных и частичных проблем.
Поединков яростных. Ибо, односторонне поставленные, эти проблемы не всегда осознавались как одинаково необходимые к тому моменту, когда дозреет время для высококачественного синтеза всех отдельных элементов и разновидностей кино.
И это была бы картина самых упорных боев — ночных. Беззвучных и незримых. Не прорезаемых прожекторными лучами полемики и споров. Уже не один на один с «противником». Но один 99 на один с самим собой. Самый ожесточенный поединок, направленный к тому, чтобы изжить, «изжечь» внутри самого себя последние остатки неживого и чуждого, того, что тянет назад, а не вперед того, что ведет к поражениям, а не к победам.
Это были бы широкие волны набегов вперед и отливы частичных откатываний назад. Это были бы единичные взлеты отдельной озаряющей мысли, далеко опережающие общее движение всего массива в целом.
И это было бы неуклонно мерное, ничем не удержимое движение коллективной поступи вперед, безошибочное движение коллективного опыта, который всегда прав и всегда движется вперед.
Та последняя и единственная надежная опора для всякого единичного фехтовальщика, все равно — зарвался ли он чрезмерно вперед, отстал ли он позади или сбился в сторону с общего исторически верного поступательного пути.
Большими мазками я начертал бы общий контур трассы этого неуклонного движения вперед к конечной цели.
И прочертил бы по ней сетку разветвлений и ответвлений, которыми шли отдельные армии, отдельные отряды, отдельные единицы.
Светящимися точками я бы обозначил появление на этих путях новых мыслей, новых идей, рождаемых нашим неповторимым временем.
Но я не забыл бы отметить и тупики на этом пути, куда заходили отдельные чрезмерно разгоряченные воображения. Я не упустил бы обозначить и волчьи ямы. Прикрытые снаружи самыми яркими цветами восторженного самообольщения, они подчас таили в глубинах своих мертвую воду, откуда с трудом выныривал раз попавший в ее смертоносные объятия.
Конечной целью, куда двигались эти армии, отряды, люди, часто сами того не сознавая, следуя подчас мнимым компасам или ошибочным буссолям или даже против воли работая на необходимое движение вперед всего массива, — я бы поставил цитадель социалистического реализма. Ибо эти двадцать лет движения советской кинематографии неуклонно вели к конечной победе социалистического реализма в кино.
По-разному рисовался он нам в разные этапы истории нашего кино.
Но всегда — иногда смутно, часто неуловимо, однако всегда непреклонно — именно он рисовался как конечная цель, как конечный идеал, как решающая внутренняя тенденция всего того разнообразного, несхожего, непредвиденного и неожиданного, что делали наши кинематографисты.
Ибо отражать нашу социалистическую действительность полнотой творчества всегда и непременно стояло главной и решающей 100 задачей перед каждым кинематографистом, в каких бы подчас головоломных очертаниях ему ни рисовалось воплощение этого реализма.
Полнота собственного творчества далеко не всегда означала одновременно и полноту всестороннего отражения действительности.
И истекшие двадцать лет наравне с максимальными приближениями к подлинному социалистическому реализму несут и целую кавалькаду фантастически разнообразных «реализмов», понятых однобоко, односторонне, не синтетически.
Но не менее странная картина развернется перед нами, если мы взглянем на смену стилей и борьбу направлений в остальной, внекинематографической области истории искусства вообще.
Каждая школа, каждое направление отрицали и свергали предыдущее непременно под одним и тем же самым лозунгом: большего приближения к реальности; весь вопрос бывал в том, где и в чем они эту «решающую» реальность усматривали.
Под лозунгами каждый раз по-новому однобоко понимаемого «реализма» они расправлялись с условностями «реализма» предыдущего.
И достигая в этом успеха на одном участке, они одновременно расплачивались данью новых тяжелых условностей на других.
«… Альфиери глубоко чувствует смешное значение речей в сторону; он их уничтожает, но зато растягивает монологи и считает, что произвел революцию в системе трагедии; какое ребячество!» — пишет Пушкин Раевскому1.
Пусть сменяющиеся направления себя «реализмами» и не именуют — часто даже совсем наоборот, — однако под углом зрения все той же тяги к истинной и единственной реальности в разные моменты возникают столь разнородные явления, как натурализм Золя и символизм Малларме. И все дело в том, что один видит большее приближение к реализму в гипертрофии единичного за счет общего. А другой строит свое ощущение «реализма» единственно на нюансах (действительно вполне реальных) чувственности словесно-образных звукосочетаний в ущерб всякой конкретной реальности содержания и смысла.
Импрессионизм видит реальность лишь в единичном и неповторимом, мимолетно схваченном аспекте явления. А «академизм» отдает венец реализма лишь «непреходящей» материальности явления, освобожденного от всех его мимолетных видимостей, мнимых видоизменяемостей, мгновенных «оптических» преображений, не изменяющих его куцо понятой «сути».
Одно направление в живописи, желая возможно полнее передать реальность движения, доходит до «осьминогих» фигур и именует себя футуризмом. Другое видит единственную реальность картин в физическом материале красок, положенных на холст; 101 на что третье, делая логически последовательный отсюда шаг, называет себя «тактилизмом» и проповедует новый метод восприятия подобных «реальностей»: рассмотрение картин при помощи осязания — на ощупь пальцами. Правда, все эти три направления не именуют себя реализмами. А вот Фернан Леже для обоснования своих достаточно далеких от Сурикова или Серова концепций прямо опирается на право «собственного» реализма, вытекающего из «текучести» и «сменяемости» «реализмов вообще».
Каждая эпоха имеет свой реализм, придуманный (! — С. Э.) в большей или меньшей степени в зависимости от предыдущих эпох. Иногда он им противостоит. Часто продолжает их же линию. Реализм примитивов — это не реализм Ренессанса, а реализм Делакруа диаметрально противоположен реализму Энгра (см. «The Painter’s Object», London, 1938, стр. 15. Сборник высказываний о своих художественных намерениях Пикассо, Леже, Озанфана, Макса Эрнста, Кирико и других).
Во имя реальности сценического факта «ложноклассика» заколачивала сценическое действие в колодки «трех единств», громоздя натяжку на натяжку, насильственно сводя в единое место и время ни по времени, ни по месту в единство не сводимое.
«… Посмотрите, как храбро Корнель распорядился с “Сидом”. А, вы желаете закона 24 часов? Извольте! — и затем он наваливает происшествий на 4 месяца…» (Пушкин тому же Раевскому)2.
И в другом месте по поводу «Бориса Годунова»:
«… Но место и время слишком своенравны: от сего происходят какие неудобства, стеснения места действия. Заговоры, изъяснения любовные, государственные совещания, празднества — все происходит в одной комнате! — Непомерная быстрота и стесненность происшествий, наперсники… a parte столь же несообразны с рассудком… Не короче ли следовать школе романтической, которая есть отсутствие всяких правил, но не всякого искусства?» — восклицает Пушкин3.
Однако и романтизм, разбивая оковы классики под знаком единственной реальности — реальности и истинности страстей, вскоре сам стал жертвой собственных «свобод», запутываясь во все возрастающем неправдоподобии фактов, обрамлявших эту «единственную истинность» страстей; страстей, часто надуманных, заимствованных или пересаженных с чуждой почвы (медиевализмы, германизмы для Франции, экзотизмы для Европы и т. д. и т. д.)4.
Между боевыми эпизодами, когда каждый из этих «реализмов» выступал сперва как субъект отрицания с тем, чтобы к концу отступить в качестве объекта отрицания, почти каждый из этих не до конца полных «реализмов» переживал моменты временного торжества, различные по своей длительности.
102 Ибо игра этих смен — отнюдь не вольная игра воображения их лидеров или знаменосцев, их глашатаев или их барабанщиков.
Односторонние расцветы односторонне понятых задач реализма и не могли быть иными в те периоды истории, когда само общество, чувствуя развитие свое и движение, вместе с тем по классовой своей ограниченности рисовало себе неверную, ошибочную и неполную картину своих будущих перспектив.
Это, однако, отнюдь не мешало ему непреклонно шествовать по исторически предначертанному пути сметания классом класса с тем, чтобы к нашей эре прийти в передовой своей части к свержению самого принципа и института классовости. И лишь к этому времени на смену плеяде односторонних «реализмов», достигавших исторически доступных форм совершенства тогда, когда они до конца воплощали мощь сменявших друг друга новых классов, — на смену им приходит реализм социалистический, реализм уже всесторонний и исчерпывающий, умеющий впервые частному явлению придать не просто какое-либо обобщение, но обобщение социалистическое.
О детях принято говорить, что в цикле своего развития они повторяют фазы эволюции человечества.
Кино — несомненное детище всего созвездия предыдущих и смежных искусств.
Младшее и наиболее передовое по охвату своему, возможностям и технике.
А поскольку речь идет о нашем кино, стало быть, и наиболее передовое по воплощению своих идей и по самим идеям.
И занятно проследить, как за двадцать лет своего движения к окончательным принципам реализма всеобъемлющего и социалистического наше кино как бы повторяет те же скачки и метания из стороны в сторону, какие прошло искусство в целом через столетия своего развития.
И совершенно так же каждый скачок, который нам сейчас ретроспективно кажется забавным вывихом или непонятным эксцессом, для своего момента ставил, пусть по-своему, пусть неполно, неполноценно, односторонне, пусть даже ошибочно, но все же неизбежно и неизменно ставил перед собой по-своему понятую задачу реализма, задачу реалистического отражения действительности!
Дело историка — детально обследовать каждое из этих явлений, определить обусловившие его предпосылки, установить причины ограничений, точно измерить и взвесить прогрессивный вклад каждого из этих явлений в общий поступательный путь нашего кино в целом.
Я бы с жадностью читал такую книгу, намного более интересную, чем история перипетий ведущей тенденции нашего искусства в целом, как она шла через кинематограф.
103 Насколько это увлекательнее портретов и биографий отдельных мастеров или отдельных фильмов, описанных каждый [сам] по себе так, как описывались до дарвиновского «Происхождения видов» отдельные представители животного царства!
Но это уже дело кропотливых историков сочетать мое пожелание о подобной объединяющей «монтажной» картине движения и развития кино с достаточной «внутрикадровой» обстоятельностью информации о слагающих их единицах.
Сам я сейчас выступаю как баталист.
Увлекаюсь динамическим ходом общего абриса.
И все эти наступления, движения и приближения к цели, отдаления и отступления от нее, новые подъемы и неожиданные тупики, куда заводили ложные дороги на путях к социалистическому реализму, составили бы содержание боев на тех батальных полотнах, которыми я задался вначале!
Нужно сказать, что полки носили разнообразные формы обмундирования: формы разного жанра и разные формы картин. Полки благополучно избегали неоднократных попыток стрижки под одну гребенку и одевания в поголовное «хаки», они старались уйти от серятины, чуть было не захватившей их в боях тридцатых годов.
Полки дрались разным типом оружия и разным стилем боя.
Стилистическое письмо одних походило преимущественно на деятельность подрывников. Часто они, совершив общепоказное дело, тут же взлетали на воздух вместе с собственными декларациями.
Другие упорно и настойчиво шли сапой, долго ища случая выйти на поверхность признания, лавируя между обвалами и провалами.
Третьи скорее походили на огнеметы, воспламеняя чувства зрителя (не всегда наилучшие) и тем становясь неуязвимыми до тех пор, пока иные с неумолимостью танковой атаки не крушили установившиеся стандарты, перебрасывая энтузиазм зрительского восхищения во все новые и новые направления.
Но эти же армии знали и целые поколения опытных интендантов, умело пригонявших западные мундиры к нашим непосредственным нуждам.
Когда же локти и коленки наших тем прорывали несвойственный нам покрой, они умели заимствовать все новые и новые разновидности западной кройки и шитья.
Однако чем дальше, тем реже становились эти явления и все более и более отчетливо вырастала самобытность не только индивидуальная, но и национальная. Большими праздниками оставались в нашей памяти страницы блистательных закавказских рейдов Чиаурели или Шенгелая5, не только руками Арсена внутри картин, но и самими картинами ломавших установленные аршины, заменяя 104 их своими и новыми. Дни, когда Украина вела на бой киносынов Довженко, седовласого барда, ухитрившегося в наш век перенести строй мифотворчества, достойного миннезингеров.
По-разному каждому из отрядов и полков рисовался реалистический идеал.
Казалось, его можно достигнуть за счет простой злободневности темы, невзирая на допотопность игры и формы. А «допотопием» было наследие дореволюционной, «дранковской» кинематографии6.
Неудовлетворенность этим вызывала противодействие. Другую крайность. Реализмом стала казаться «реальность» американского кино. Но взятая напрокат «система реализма» американцев7 на нашей почве зазвучала ультраусловностью.
Тогда бросились напрямик к этой самой почве. В документализме, в неискаженном сколке с частичного факта захотели увидеть реалистический отпечаток нашей жизни. На время казалось, что истина именно здесь. Свою прогрессивную роль сыграл и документализм.
Действительно, импрессионистичный по случайности выхватываемого материала документализм был одновременно и предельно натуралистичен по отношению к материалу как таковому.
А к декадентскому «театру модерн» он начинает примыкать тогда, когда, все дальше и дальше удаляясь от лапидарной честности показа в «Киноправдах»8, он материалы документа заставляет вихлять в фантастическом глясе надуманных монтажных наворотов.
Впрочем, наше кино знавало и не такие еще эксцессы. Был же момент, когда единственной реальностью в кино казался уже не физически, а физиологически ощущаемый монтажный скачок от куска к куску. Был и другой момент, когда за реальность принимался строй ассоциаций от отдельных кусков, и в сочетании этих ассоциаций, в отрыве от связного сказа самих кусков хотелось видеть базу для нового кинематографического «реализма».
Но столбовой путь кинематографии лежал, конечно, не по этим тропкам, висящим подчас над ущельями чистого бреда.
На столбовой дороге нашего кино на самой заре его возникновения в короткой последовательности друг за другом появляются две картины. Одна — совершенно в традиции романтиков — видела реализм в подлинности эмоции социальной среды не столько изображенной, сколько той, которую вызывает изображение. Другая искала реализма в упоре на изображенного носителя эмоции, страсти. Первая искала этого в самой стихии социалистической истории. Вторая — в произведении классика социалистической литературы. Первая называлась «Потемкин», вторая — «Мать».
Соединение этой страстной насыщенности события со страстностью участвующих в нем стало выкристаллизовываться как 105 программный пункт. И достигнувший этого синтеза «Чапаев» тут же выдвинул новую проблему: придвинуть эту задачу к показу сегодняшнего дня, сегодняшнего большевика, нашего сегодня. И в поисках этой высшей стадии реализма немедленно же наше кино обратилось к… прошлому, к прошлому литературному: снова и снова ища, как великие мастера реализма прошлого (Островский, Щедрин, Пушкин) «писали человека». И к прошлому историческому, пытаясь по полному развороту данных о прошлом человеке — реалистически его воссоздавать и научиться через это создавать людей сегодняшнего дня.
Так «Петр I», складываясь в экранный образ, учил экранно слагаться героям сменивших его поколений. Рядом шли попытки и непосредственного «уловления» человека-большевика на пленку («Крестьяне», например). Человек уже давался. Труднее было с большевиком. И вот однажды явилась мысль экранно воплотить не вымышленный, а подлинный, существовавший и в сердцах наших вечно существующий реальный облик совершенного большевика — Ленина; Ленина и ближайших его соратников. И рядом с этим совершеннейшим образом единого и неповторимого большевика кинематография тут же начинает изучать партийца рядового.
Через три серии она прослеживает важнейшее: как складывается большевик в предреволюционную пору (трилогия о Максиме). Через две серии, как с победой революции все более и более разворачивается могучесть рядового гражданина, переросшего в гражданина великого.
Единственный и неповторимый, рядовой и типичный переход второго в первого. Современный и прошлый. Современность через прошлое. И через современность будущее.
В таком многообразии приходит к двадцатилетию большевик, воплощенный экраном.
Каждый жанровый и стилистический отряд трудится на своем участке и вносит свой ответ в эту коллективную работу, подобно нашей армии, строящей свою непобедимость не только на совершенстве того или иного вида оружия, но прежде всего на умелом взаимодействии и соиспользовании всех его видов вместе.
И многообразие внутри единого нашего кино так велико, что участок, почему-либо обойденный вниманием одного отряда, становится тут же в самый центр поля зрения другого. Поэтому наравне с углублением вовнутрь и в глубь человека не перестает биться линия так называемых «полотен», эпическим охватом разворачивающих судьбы людские вовне и вширь.
«Мы из Кронштадта», пронесшие традиции «Потемкина» через период самых камерных исканий в области кино помимо всяких прочих своих задач; «Александр Невский», развивающий собственные традиции и новые области выразительных средств и строгости 106 письма и формы, разрешающий проблемы кинематографии в органичности музыки и единства звукозрительного образа, как тринадцать лет назад «Потемкин», решил также проблему «неравнодушного пейзажа» и среды и целостного пластического образа произведения.
Конечно, и то и другое помимо своих прямых и непосредственных задач неразрывно в едином творческом порыве их разрешения.
Таков «Щорс», своим богатырским объятием выносящий на экран весь размах украинской мощи.
Такие картины не дают сузиться, съежиться экрану, в какие-то моменты стоящему под риском утерять свою всеохватывающую пластическую ширь и глубину, свою музыкальную звучность.
Для общего дела, однако, важно углубление одних отрядов во все закоулки общечеловеческой психологии, как углубление других в глубины психологии партийной. Одних — в злободневность темы, других — в глубины истории, увиденной во всей остроте злободневности. В сюжет, спружиненный до интриги, или в сюжет, эпически развернутый в поступь пластического полотна.
Разведки одних в диалог и нюансы человеческой интонации и речевых полутонов, в образ героя и человека.
И углубление других в не меньшую тонкость музыкальной образности целого фильма и образа произведения в целом, ибо каждое достижение помимо личной победы есть еще вклад в будущее.
Отражение экраном тех величайших достижений, которые уже разрешены нашей действительностью, я вижу в совершенном показе человека сегодня, единого и слитого со своим народом, страной и временем, в образе своем и в образе своего времени поднятого до высоты всеобъемлющего исторического обобщения.
Коллективный опыт, вклад каждой творческой единицы в общее дело уже так велики, что нам под силу любая задача.
Пять лет назад, закрывая I Всесоюзное совещание работников советской кинематографии, связанное с пятнадцатилетием нашего кино, я говорил, что «… сейчас, с наступлением шестнадцатого года нашей кинематографии, мы вступаем в особый ее период… Советская кинематография вступает после всяческих периодов разногласий и споров в свой классический период».
Сейчас мы можем сказать, что наша кинематография доподлинно заканчивает первое пятилетие периода своего классического существования. И вернувшись к полотну моей батальной картины о двадцати годах советской кинематографии, мне осталось бы сделать одно: закончить эту картину большим апофеозом.
В пыли и поту, но гордыми и радостными я представил бы победоносные жанры и стили вступающими в цитадель социалистического реализма.
107 Уже занявшими внешние оплоты и стены, уже перешедшими рвы. В этих рвах мелькают названия картин, легших на полку, черными змеями извиваются километры пленочного брака и постепенно уходят из памяти списки неудач, ценой которых утверждалась победа.
Под звуки фанфар через разные ворота — каждый через свои — встречают эти жанры и стилистические особенности нашего кино. Равноправно и одновременно, ибо цель их — самая сердцевина покоряемого города. Маршруты их намечены твердо, и окончательный успех им обеспечен. Планомерно и последовательно пришли они к конечной цели каждый своим путем, каждый своими воротами, и доходят до окончательных побед социалистического реализма совершенно так же, как каждый носитель их своими неповторимыми, личными путями движется к коммунистическому идеалу.
Равноправные и равнопризнанные идут стилистические разновидности нашего кино в пятую пятилетку своей истории. И эта равноправность и равнопризнанность стилей и жанров нашей кинематографии, закрепленных уже в конкретных творческих, а не программных достижениях, внутри единого и всеобъемлющего стиля социалистического реализма кажется мне совершеннейшим и характернейшим признаком того, что достигнуто в двадцатилетие истории нашего кино.
На сегодня «Щорс» не оттаптывает мозолей «Волги-Волги», «Трактористы» живут рядом с «Великим гражданином», «Учитель» не отбивает куска хлеба у «Александра Невского», а незабываемые страницы истории подлинных деяний Ленина не отбрасывают в тень трилогии реалистически вымышленной биографии Максима или Петра Шахова; для нас важны и попытки отыскать формы выражения для советского детектива «Ошибка инженера Кочина» и поиски музыкальной комедии.
— Как?! — спросят начетчики. — А где же на сегодня «ведущий жанр»?
— Как?! — подхватит педант. — Вы отрицаете на сегодня «ведущее звено»?
— Ересь! — завопят они оба нестройным хором по устарелым нотам тридцать пятого, тридцатого или двадцать пятого годов, когда с переменным успехом, перебивая друг друга, тот или иной жанр, тот или иной тип кинематографического сказа на время занимал ведущее положение с тем, чтобы на определенном этапе по своей отдельной дороге провести вперед весь комплекс нашего кино к той самой единой, конечной цели, к которой оно сейчас доходит всеми своими путями.
Конечно, ведущий признак на сегодня есть. Но он лежит не в одном каком-то отдельном жанре, вне всех и всяческих других.
108 Ведущий признак на сегодня примечателен тем, что он лежит не вовне, а внутри. И при этом внутри каждого жанра. И этот ведущий признак на сегодня не в качественном отличии того или иного жанра, а в качественном совершенстве, достигнутом на своем отличном участке.
«Отличность» жанра сегодня прочитывается как дериватив не от термина «отличительность», а от оценки «отлично» («сделано на отлично»).
И характерна на сегодня не степень отличительности стиля одного фильма от стиля другого. Эта отличительность, кстати сказать, по резкости еще никогда не достигала подобной отточенности, как сегодня, но степень здесь в совершенстве, с которым художник разрешает сейчас те принципиальные задачи, которые он сам себе ставил на занимаемом им стилистически-жанровом участке общего движения кинематографии вперед.
Почти каждый жанр, почти каждый индивидуальный стиль приходит к общему двадцатилетию с произведением, до конца воплощающим программные положения своего особого вида отображения действительности.
Таким образом, к двадцатилетию своего существования каждый отдельный стилистический поток внутри кинематографии достигает того, что предоставлено каждому сыну нашей великой Родины: предельного выражения себя, предельного развития заложенных в нем сил и возможностей, максимального расцвета. Но не только это совершеннейшее положение, дарованное нам Советской Конституцией, как бы воплощает обрисованное необычное положение в кино, которым завершается первое его двадцатилетие.
В неожиданной для начетчиков и педантов картине, набросанной нами, отразилось, пожалуй, и самое характерное для всей нашей эпохи в целом.
Осень 1939 года — это подлинно Болдинская осень нашей страны, если в этой плодовитейшей странице биографии Пушкина видеть символ всякого творческого подъема, всякого творческого размаха, всякого творческого плодородия.
Осень 1939 года — это непрерывная цепь побед нашей страны. Это победа нашей военной мощи в Монголии. Это победа нашей дипломатической мудрости в сложнейшей международной обстановке. Это победа сельскохозяйственной выставки. И это победа практического и теоретического государствостроения на новой фазе развития Советского государства. Это победа на пути освобождения от рабства наших зарубежных угнетенных братьев, победа, влившая в семью наших народов тринадцать миллионов страдальцев Западной Белоруссии и Западной Украины. Наконец, это победа Ферганского канала — первая победа завтрашних форм коммунистического труда, внедренных победоносным колхозным строем в обстановку сегодняшнего дня.
109 Поистине даже славная история нашей страны имеет мало таких сверкающих страниц, где бы на протяжении двух-трех месяцев столпилось бы столько исторически неслыханных событий. Неслыханных, разнообразных и охватывающих буквально все уголки человеческих возможностей, воплощенных в государственную форму.
И будущему поэту будет трудно определить, каким же словом обозначить эту памятную осень 1939 года. Осень дипломатических побед или осень военно-оборонительных, осень справедливой войны за освобождение наших братьев или осень трудовых побед Ферганского канала.
И придется отказаться поэту от обозначения этой эпохи по «ведущему» участку достижений и побед, и будет он вынужден говорить об этой эпохе как об эпохе небывалого совершенства в достижениях каждого отдельного участка жизни победоносного Советского государства. В достижениях разнообразного по проявлениям, но единого по духу и стилю этапа завершенности и совершенства на каждом участке творческой жизни и деятельности Советского Союза.
И если таков абрис жизни Советского Союза в эти памятные дни, то уже не случайно, что в надстроечных отражениях кинематографии страны сквозят одни и те же характерные черты; ибо кинематограф, как ни одно из других искусств, с предельной четкостью и гибкостью умеет уловить и отразить не только содержанием, но и всем своим строем как ведущие тенденции, так и тончайшие нюансы и оттенки поступательного движения истории. И это, вероятно, потому, что одна и та же гениальность без устали питает как само поступательное движение всей страны, так одновременно и отражающие это движение искусства, и в первую очередь кинематограф.
Гениальность эта — в гениальности великого нашего народа, в гениальности мудрого руководства большевистской партии.
110 ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ФИЛЬМА*
Товарищи, я не знаю, правильно ли, что я первым выступаю, и еще с высоким обозначением генерального докладчика, потому что я собираюсь говорить не торжественно и не так — очень широко обобщая, а в достаточной степени приземисто, и о целом ряде таких вопросов, которые обычно в общем плане не затрагивают, об отдельных частных проблемах, которые в связи с историческими фильмами возникли и по которым мы уже сейчас можем разговаривать. Разговор должен идти не отвлеченно теоретически, а, собственно говоря, на базе отдельных элементов, которые в наших исторических фильмах возникли.
Вопрос об исторических фильмах надо рассматривать: первое — с точки зрения их историко-познавательной стороны; второе — с точки зрения того места, которое цикл исторических фильмов, возникших за последние пять лет, занимает в деле развития нашей кинематографии вообще; и третье — с точки зрения целого ряда специфических проблем, касающихся исторических фильмов, которые [эти фильмы] затронули, поставили или раскрыли. Мне придется ссылаться на некоторые картины, говорить о них, причем это не будет значить, что каждая из этих картин так или иначе разрешила эти проблемы. Но некоторые из этих картин ставили эти задачи и в какой-то мере подняли по этому поводу вопросы.
Те фильмы, которые перед нами прошли, имеют разную ценность, если их рассматривать с этих трех позиций. По-моему, очень крупная ошибка в оценке наших произведений кинематографии та, что оценка фильму всегда дается скопом. Если фильм вообще хорош, то полагается думать, что все элементы в нем 111 безошибочны и прекрасны. В свое время это была совершенно точная установка на сбивание с толку критики, и тогда лозунг об единстве формы и содержания [использовался] в качестве жупела, чтобы нельзя было действительно разобраться в целом ряде творческих проблем, которые возникали по поводу фильма. Было такое положение, что если фильм вообще хорош, то говорить об отдельных элементах внутри этого фильма, недостаточно благополучных, считалось предосудительным.
Если же фильм рассматривается с разных точек зрения, то есть [по тому], что он по отдельным участкам внес, привнес или сделал, то оценка его должна вестись также по отдельным частностям. Скажем, мы, например, знаем, что был такой случай с рецензиями на «Степана Разина»1. Совершенно ясно, что когда мы прочли две разных рецензии по этому фильму, то в основном здесь оценка касалась разных сторон картины, и, по-моему, чтобы разобраться в наших произведениях, и следует придерживаться этого порядка.
Существует такая же дискуссия (глухая, к сожалению) о совершенно бесспорном прекрасном произведении — о «Ленине в 1918 году». Есть ряд критических высказываний товарищей, которые реже раздаются с трибуны, о которых говорят довольно часто и которые почему-то не вытаскиваются на большое обсуждение, не подвергаются критике и не приводятся в какую-то академически строгую систему: что в таких-то элементах, по линии историко-революционной, картина «Ленин в 1918 году» безупречна и безошибочна, а в отношении некоторого построения фильма как такового она имеет известные недостатки.
Мне пришлось частично участвовать в дискуссии и брать под защиту «Ленина в 1918 году»; на картину напали чрезвычайно резко с трибуны Дома кино, не учитывая, что по [той] линии, которую картина себе ставила, она действительно чрезвычайно высокого качества.
Я думаю, что этот вопрос нам надо будет пересмотреть и в дальнейшем, разбирая картину, не смущаться тем, что картина в общем историко-познавательном порядке хороша или безупречна, а с точки зрения интерпретации исторического ландшафта, например, в ней имеются недостатки.
Это первая оговорка, которую я хотел бы сделать.
Я считаю, что особенно долго останавливаться на вопросе важности изучения истории для современности и для построения будущего не следует, это и так всем ясно. Вспомним только, что в деле изучения истории мы имеем прекрасный руководящий партийный документ: постановление СНК и ЦК ВКП (б) от 16 мая 1934 года.
Там точно развернуто, указано, что конечной целью этого изучения является марксистское понимание истории, указаны 112 пути к этой цели: правильный разбор и обобщение исторических событий. Необходимые условия: доступность, наглядность и конкретность исторического материала. Указаны также необходимые предпосылки в изучении: «… соблюдение историко-хронологической последовательности в изложении исторических событий с обязательным закреплением в памяти учащихся важных исторических явлений, исторических деятелей, хронологических дат». Все это в живой занимательной форме.
В этом же документе указаны и ошибки, допускаемые раньше: отвлеченность, схематизм, абстрактность определения общественно-экономической формации и пр.
Если мы в произведении искусства ставим задачи главные и основные воспитательные, то эти положения имеют решающее значение и для произведений искусства. Мы знаем, что произведение искусства преследует те же задачи, но идет к ним образными и художественными методами.
Отсюда эти руководящие указания действительны и для исторического фильма, и если мы приходим с некоторыми результатами в этом направлении, то именно тогда, когда мы эти указания соблюдаем.
Здесь важны все замечания, вплоть до замечания о хронологии. Мы очень хорошо помним отдельные элементы истории, но хронология нам помогает тем, что, устанавливая дату, она дает пересечение событий, происходящих в одно и то же время, и дает возможность гораздо более полно ощутить эпоху.
Скажем, если мы вспомним, что Шекспир родился в год смерти Микеланджело, что ему было тридцать лет, когда умирает Иоанн Грозный, что Джордано Бруно погибает на костре между премьерами «Двенадцатой ночи» и «Гамлета», через год после премьер «Лира» и «Макбета» умирает исторический Борис Годунов, что три мушкетера оказываются современниками Ивана Сусанина и т. д., — целый ряд вещей, пропускаемых через хронологию, дает неожиданный поворот в ощущении того, чем был мир вообще в то время.
Можно вспомнить, что Гете умер на три года позже Грибоедова.
Разница между учебником истории и историческим фильмом в том, что в учебнике истории после [описания] определенной эпохи имеется резюме и обобщение по данному периоду.
Основное, что должно быть в художественном фильме, — чтобы это резюмирующее обобщение возникало из живой игры страстей и разворота событий, которые проходят перед зрителем.
Скверные фильмы относятся к первому типу, — они строятся на резонерском титре или специальном диалоге, которые обобщают события. В этом они становятся как учебники истории, в то время как живой учебник истории идет к тому, чтобы ощущать в образной форме суть происшествий, которые он излагает.
113 Я слушал лекции по высшей математике, которые читались так, как дай бог читать историю литературы. Есть учебник биологии Гольдшмидта «Аскарида», где биология расписана почти как роман, с сохранением всей научной строгости.
Основная, необходимая предпосылка для исторического фильма — это историческая правда. Каждое общество заинтересовано в своей истории. И каждый класс стремится интерпретировать свое прошлое так, чтобы обосновать резонность своего существования.
Буржуазия вынуждена в этих случаях, ища оправдания своего существования, которое она оправдать никак не может, фальсифицировать и искажать прошлое.
Одним из самых возмутительных примеров классовой фальсификации истории может служить очень хорошо построенный и драматургически и в других отношениях фильм «Вива Вилья»2, который должен доказать в известной мере, что народ управлять государством не может, о чем очень ярко говорят последние эпизоды.
Там в образе самого Вильи сведены воедино фигуры исторические, которые, по существу, друг друга исключают. Там есть обаятельный человек — сам Вилья, который совершает ряд всяческих поступков и который имеет какую-то смутную программу, отвечающую интересам батраков Мексики. Нужно сказать, что фигура Вильи самого — это фигура авантюриста и путчиста генерала. А то, что взято в этой фигуре из какой-то более или менее возможной для нас аграрной программы, — это взято из программы совершенно другого крестьянского вождя, Эмилиано Сапаты3.
Соединение этих двух фигур в один образ есть не только ложь, но и опорочение программы Сапаты, который приближался в целом ряде своих тезисов к коммунистической программе.
Я уже не говорю о том, что фигура Мадеро4 изуродована невероятно, это одна из самых невероятно отвратительных исторических фигур Мексики.
На этом примере мы видим, как буржуазия вынуждена исторический материал искажать и поворачивать так, чтобы он оправдывал те методы, которыми она работает.
Отсюда рождается пресловутый лозунг: «История — это политика, опрокинутая в прошлое», который отвечает буржуазному отношению к истории.
Наше классовое отношение к истории есть объективная правдивость и объективная истина, [что] только на базе исторической марксистской науки может развернуться историческая правда. Расхождения между объективной правдой и нашим классовым пониманием не имеется.
Но историческую правду не следует смешивать с историческим натурализмом. В некоторых случаях натуралистический простой 114 поворот фактов и реалистическая интерпретация прошлого могут становиться даже почти в условия взаимоисключения.
Здесь можно сослаться на пример «Потемкина». Мы знаем, что восстание на «Потемкине» было подавлено как единичный факт. Это могло бы рассматриваться как поражение, но тем не менее мы в картине сознательно кончили [другим] эпизодом на «Потемкине», победоносной страницей, имея в виду, что нам важно раскрыть обобщенный смысл, действительный реалистический смысл как большую победу в общем движении истории революции, а не как судьбу броненосца, который через несколько недель должен был быть возвращен обратно царскому правительству.
Нужно сказать, что большинство наших исторических фильмов в большой степени с первой задачей — воспитательной и познавательной — справляется очень благополучно. У нас искажений против истории, правда, не наблюдается.
Следующий вопрос, который я хотел затронуть, это роль исторических фильмов внутри нашей кинематографии.
Когда у нас [появился] вообще острый интерес к истории, произошел поворот к изучению истории, кинематография сейчас же откликнулась на это и в ближайшее же время после решения правительства сумела ответить первыми историческими фильмами.
Но, кроме этого, большую роль исторический фильм играет вот еще в чем.
Дело в том, что перед нами стоит главная задача — это создание фильмов современных. И как раз для создания фильмов современных опыт исторического фильма играет колоссальную роль, потому что современный фильм мы хотели бы видеть не как отдельный эпизод из сегодняшнего дня, не как отдельные фигуры, а мы хотели бы видеть эти отдельные фигуры, эти образы поднятыми до большого исторического обобщения. [Нужно] суметь показать исторический факт не как единичный факт, а как большое обобщенное событие.
Приближаясь к этому в «Великом гражданине», мы должны были этот опыт изучить на прошлом, на его охвате событий и охвате отдельных образов, отдельных персонажей.
Поэтому надо сказать, что роль исторического фильма громадна именно по линии создания фильмов современных, и, обобщая опыт исторических фильмов, следует все время иметь в виду, что это же материал и для строения современного фильма. Естественно в этом отношении обратиться к тому, как обращаются отдельные мастера с материалами исторического прошлого.
Если посмотрим на настоящие буржуазные традиции в этом вопросе, то увидим: с одной стороны — котурны, с другой стороны — халат и колпак. С одной стороны — прошлое возносится чрезвычайно высоко и чрезвычайно идеализируется, а с другой стороны — [его] стараются низвести как можно ниже.
115 Это явление не ново. Об этом писал Маркс в «Восемнадцатом брюмера» и об этом писал Пушкин в связи с выходом записок палача Самсона.
Он пишет: «После соблазнительных Исповедей философии XVIII века явились политические, не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее». […]
Если мы взглянем на [немецкую] кинематографию в годы социал-демократической Германии, мы увидим, что как раз тогда пользовались очень большим успехом фильмы «Бисмарк» и «Фридрих Рекс»5.
Низведение великих образов прошлого до [обыденного] образа практикуется очень усиленно. Отсюда идет опубликование интимных дневников, [создается] фильм о Парнелле6, где вождь Ирландии Парнелл представляется главным образом в разрезе его альковных похождений, которые ведут к его гибели, и с него снимается ореол исторической фигуры.
Оба пути, как я говорю, — искусственное уравнение эпохи настоящей с эпохами прежними.
Об этом пишет — не плохо, между прочим, — Карлейль7 в своей книге об Оливере Кромвеле.
Он пишет об Англии, например, так:
«Гений Англии больше не парит, устремив глаза на солнце и вызывая на бой весь мир, подобно орлу среди бури! Гений Англии, гораздо более похожий теперь на прожорливого страуса, всецело занятого добыванием пищи и сохранением своей шкуры, показывает солнцу другую оконечность своего тела, а свою страусовую голову прячет в первый попавшийся куст, под старые поповские рясы, под королевские мантии, под всякие лохмотья…»
У Карлейля возникает героизация прошлого, но вождей и героев он увидел не там, где нужно.
Я не буду задерживать вас на этом, вы это можете прочесть.
Иное отношение у нас к событиям и историческим персонажам, ибо мы с эпохами прошлого можем разговаривать на равном языке. Нам не нужно принижать героев прошлого, и нам не нужно подниматься на цыпочки, чтобы казаться им созвучными.
Я думаю, что лучшим примером понимания героев в нашем смысле будет фигура Чапаева в нашей кинематографии. [Чапаев] именно и замечателен тем, что был показан героической личностью, но в которой каждый чувствовал, что мы все — такого же склада. И попадись другой человек в это же положение, он был [бы] тем же самым [Чапаевым]. Отсутствие котурнов было одним из достижений в этом великолепном фильме и было как раз вкладом нового в нашу кинематографию.
116 Основная задача нашего фильма — это поднять нашу сегодняшнюю тему до высоты исторических обобщений. Пока это достигнуто только в приближении. Но мы должны сказать, что во многих случаях мы не имеем полного охвата этого.
Какова перед нами задача [в работе] над фильмом?
Эту задачу хорошо в свое время сформулировал Пушкин. Он говорил: «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».
Это последнее остается в силе и сегодня.
Если по этому признаку посмотрим наши картины, то обнаружим разительное раздвоение.
Возьмем [фильмы] «Октябрь» и «Ленин в Октябре». Часть элементов, касающихся массы и [обстановки] Петрограда 1917 года, оказалась в картине «Октябрь», [но в ней] нет исторических личностей и исторического вождя; с другой стороны — в картине «Ленин в Октябре» как раз недостает этих элементов, которые были в картине «Октябрь». Очень характерно в свое время выразился актер Салтыков, после того как просмотрел нашу «Стачку». Он сказал: «На этом фоне бы меня».
В то время мы очень обиделись, но нужно сказать, что в некоторой степени он был прав. «Стачка» и «Октябрь» в известной степени оказались теми полотнами, на которые не хватило крупной исторической личности. Теперь мы имеем крупную историческую фигуру, а [исторического] полотна не хватает. В большой степени это относится и к фильмам о гражданской войне.
Когда мне пришлось изучать материалы по Фрунзе, меня неожиданно поразил масштаб гражданской войны. Я себя поймал на том, что я гражданскую войну привык видеть в наших фильмах в [тех] образах, масштабах, какие дают наши фильмы. Всегда ощущение такое, что мы имеем прекрасного Чапаева и Щорса, но не хватает колоссального звучания эпохи гражданской войны. Этого охвата наши картины не передают. Они больше передают человека, чем историческое ощущение масштаба событий. Когда мне пришлось посмотреть на реальные события, то оказалось, что под Перекопом погибло десять тысяч человек в один штурм. Мы знаем, что с Врангелем ушли пароходы. Думали так — пять-шесть пароходов. Между тем ушло сто пятьдесят кораблей, и на них ушло сто пятьдесят тысяч человек. Если подсчитать, сколько народу прошло по югу России, северу Крыма за период гражданской войны, то оказывается, что по югу России в гражданской войне прошло шесть миллионов человек.
Я спрашиваю — в наших картинах, которые я очень уважаю, есть ли ощущение такого колоссального размаха событий? Это не значит, что нужно массовку в шесть миллионов снимать, но ощущения масштаба, в котором происходили эти события, в наших картинах о гражданской войне нет Они прекрасно обрисовывают 117 отдельных людей, но этой поступи колоссального масштаба мы не сумели передать.
На чем учиться историческому фильму? Я считаю, что блистательный пример [для] изучения — это «Борис Годунов» — народная драма о царе Борисе, где имеются два примера для обрисовки характера: монолог «Достиг я высшей власти» и знаменитое «Народ безмолвствует». Тут предел возможности работы солиста и хора, причем «народ безмолвствует» имеет три-четыре интерпретации в ту или иную сторону. То, что это место дискуссировалось историей литературы, показывает, до какой степени здесь в одной ремарке дан облик массы. Не хочу говорить о том, как этот расчлененный образ массы, который выступит в конце, разверстан между всеми возможными типами действующих лиц, которые проходят по трагедии. Это сгусток в финале [трагедии]. Если мы сопоставим наши фильмы с «Борисом Годуновым», то нужно сказать, что часть их тянет в сторону «высшей власти», а другая — [в сторону] «народ безмолвствует».
Если мы возьмем «Петра I» и «Александра Невского», то ясно, что «Петр I» делает сильный крен в сторону «Годунова», а «Александр Невский» — в другую сторону. Это происходит оттого, что задачи, которые ставили себе фильмы, были несколько различны. Важно обрисовать образ Петра и дать представление о народном движении XIII века, и это связано с традициями, от которых здесь шли. «Петр I» шел от литературы драматургических традиций, связанных с деятельностью автора, а «Александр Невский» шел по линии кинематографического эпоса. «Минин и Пожарский»8 должен был слить в себе эти два элемента, имея перед собой опыт обеих картин и традиций.
К сожалению, синтез получился недостаточным, но, [повторяю], наши картины дают очень большой опыт для основной задачи — для построения [фильмов о] современности.
Таковы общие вопросы, которых я хотел коснуться здесь. Я еще хочу остановиться на частных вопросах, которые возникают внутри вопроса о наших исторических фильмах.
Первое, что нужно было бы затронуть, это связь кино и литературы. Одно время об этом много говорилось. Сейчас меньше говорится, а следовало бы на это обратить большее внимание, потому что если у нас в кино есть определенное распадение на два жанра — собственно кинодраму и на киноэпос, — то и одно и другое с литературой связано теснейшим образом, но по-разному. Дело в том, что киноэпос глубоко связан с методом литературных форм. Вы помните, что мы очень много занимались, думали и о кинематографической метафоре и о целом ряде вещей, связанных с внутренней механикой и внутренней жизнью литературы. Когда мы становимся на позицию кинодрамы, то приходится сказать, что тут [также необходима] близость произведения 118 с литературной формой, здесь сюжетная драма без тесного контакта с опытом литературных форм дальше двигаться не может. Если мы возьмем большинство кинематографических удач, то увидим, что наиболее удачные образы (я это подчеркиваю) в фильмах тогда, когда имелись литературные прообразы. Начнем с «Матери», с «Чапаева», с «Петра». Даже отдельные фигуры «Александра Невского», имевшие прообразы под собой, всегда оказывались полнокровными. То же самое имело место в американской кинематографии. Скажем, нашумевший «Хуарец»9. Ведь он сделан по песне «Максимилиан и Хуарец». «Процесс Золя»10, который шел в [30-х годах]. Я знаю это очень хорошо, потому что первые предложения Парамаунта, которые были [мне] сделаны, это [поставить] «Процесс Золя». То же самое с «Трусом»11 и т. д. Почему это играет такую важную роль? Это играет важную роль потому, что в этих случаях имеется у режиссера одна возможность, которой в противном случае он не имеет. Если автор — истолкователь явлений жизни, то режиссер не только истолкователь этих явлений на базе своего опыта, но еще и интерпретатор произведения. Увлекательное, настоящее творческое наполнение режиссера [бывает тогда], когда он становится в единоборство с концепцией автора, когда он по-своему старается осмыслить и разглядеть. Если кто работал с полноценными пьесами или романами, тот знает, какое колоссальное творческое наслаждение и наполнение получаешь от разбора отдельных поворотов, от разгадывания замысла, от раскрытия мысли, которая там есть. Можно было бы сослаться на то, что в отношении образа, не [образа] человека, а образа эпохи, «Потемкин» сумел охватить 1905 год. Почему это удалось? Потому что «Потемкин», как вы знаете из его анекдотического прошлого, сделан из половины второй части. Но отдельные эпизоды «Потемкина» сумели вобрать в [себя] обобщающие черты 1905 года. Скажем, «Одесская лестница» не только изображает эпизод, имевший место на одесской лестнице, но и бесконечное количество аналогичных эпизодов, которые характерны для 1905 года. То есть получилось синтетическое изображение для 1905 года вообще.
Удачи в наших киносценариях, [таких], как «Щорс», или «Максим», или «Великий гражданин», или «Ленин», имеют место тогда, когда масштаб и время работы такого же громадного размаха, как это делается для полноценного литературного произведения.
Ведь в чем беда сценариев? Беда сценариев в том, что они должны быть чрезвычайно лаконичны. Там и облик эпохи, и облик действующих лиц просто по количеству времени и метражу должны быть видны в двух-трех решающих штрихах. Есть путь простой: берется штрих № 1, берется штрих № 2, берется штрих № 3 и склеиваются, и за этим ничего, кроме живого образа, не 119 получается (я это знаю из личной практики и потому прошу мне не возражать). Но есть и другой способ, когда создается один образ живого человека, образ эпохи и затем [все] сводится к двум-трем решающим эпизодам. Я знаю, например, как мы клеили «Александра Невского» и соединяли, причем не могу сказать, чтобы ни вас, ни меня это не удовлетворяло. Нужно сказать, правда, что как раз отпала та часть из сценария, где должен быть шекспировский поворот в характере, — конец, связанный с поездкой в орду Александра Невского. Но это дело домашнее, и на этом я не буду останавливаться.
Значит, все делю в том, что здесь нужно было бы идти тем методом, как, по существу, идет интерпретация исторического актера. Мы знаем, что в кинематографическом произведении, работая с актером, следует создавать образ. Затем отдельные ситуации этот [созданный] персонаж играет. Вам понятна эта мысль? Не только чтобы репетировать пять-шесть эпизодов, которые даются в фильме, а нужно выстроить человека, который может эти отдельные пять-шесть сцен в образе как-то дать. И для сценария было бы правильно разработать персонаж, который потом дает две-три решающих черты. То, что было сделано в литературе и театре в отношении образа Чапаева, послужило сильным подспорьем для создания в кино образа, который превзошел литературный и театральный образ Чапаева.
Исходя из этой же причины, нужно сказать, что в сценарии обычно очень хорошо удаются эпизодические фигуры — эпизодические потому, что здесь нет сложного характера поведения, а [только] две-три решающих черты. Поэтому в них обычно и получается удача.
Я все это говорю к тому, что без опыта литературы мы остаемся в положении большей частью звукозрительных симфонистов. Мы это уже научились очень мило делать, но, конечно, это нас не удовлетворяет ни в какой степени. Поэтому, опять-таки ссылаясь на американскую литературу, нужно сказать, что американская кинематография сильна тем, что почти за каждым жанром, за каждым образом кинематографической пьесы имеется целая гора соответствующих литературных жанров, в которых тема, и подход, и разрешение тех или иных ситуационных ходов разрешены до последних подробностей. Невероятное обилие жанров, невероятное обилие образцов внутри этих жанров. Нужно сказать, что нам эти жанровые области, эти прообразы, конечно, ни в какой степени не подходят, но мы должны предъявить счет нашей литературе, она должна заботиться о соответствующих для нас литературных прообразах.
Теперь я хочу перейти к совсем специальному вопросу, а именно к тому, как отдельные элементы исторического фильма нужно разрабатывать, как их нужно делать. И совершенно уже 120 узко — как нужно работать с историческим пейзажем, с персонажем, с музыкой, с отдельными сценами и т. д. Причем здесь ясно, что основной закон, который подлежит разрешению, по-видимому, один и тот же для всех элементов, и мы можем начать с самых простых и удобных.
Я позволю себе начать с исторического пейзажа — буду говорить о своем ощущении по этому поводу и сошлюсь на несколько примеров. Мне из картины «Минин и Пожарский» врезались в память сцены, когда Минин стоит над Волгой, затем когда проскакивает на коне Роман, и еще врезался кадр из «Александра Невского» с замерзшими лодками. Почему эти [сцены] запоминаются и что в них запоминается? В них запоминается ощущение того, что они исторически не воспринимаются. Когда я смотрел на этот пейзаж своих же замерзших лодок и елочек — для меня это все-таки елочный базар или в лучшем случае каток в Сокольниках, но никак не ощущение XIII века.
Спрашивается, в чем тут дело и можно ли вообще говорить об историческом ощущении елок и неисторическом ощущении?
Существует такой анекдотический рассказ об Илье Репине и академике Бруни, который критиковал картину Репина и сказал следующее: «У вас много жанру, это совсем живые, обыкновенные кусты, что на Петровском растут (а [Репин] принес картину “Диоген”), Камни тоже… Для исторической сцены это никуда не годится… В исторической картине и пейзаж должен быть историческим». Совет, который Бруни дал молодому Репину, не выдерживает критики. Он сказал: «Сходите в Эрмитаж, выберите себе какой-нибудь пейзаж Никола Пуссена и скопируйте из него себе часть, подходящую к вашей картине». Мы и сами иногда так делаем, но не в этом сила. В чем же суть дела? Сперва нужно поставить вопрос о том, что пейзаж имеет свой образ, и затем можно говорить о том, что он должен иметь исторический образ. Об образе пейзажа я позволю себе зачитать вам несколько высказываний молодого Энгельса. В «Скитаниях по Ломбардии» (1841) Энгельс пишет следующее: [«Кто ничего не чувствует перед лицом природы, когда она развертывает перед нами все свое великолепие, когда дремлющая в ней идея, если не просыпается, то как будто погружена в золотые грезы, и кто способен лишь на такое восклицание: “как ты прекрасна, природа!” — тот не вправе считать себя выше серой и плоской толпы». К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, М.-Л., Госиздат, 1929, т. II, стр. 92].
В другом произведении 1840 года — «Ландшафты» — Энгельс [пишет] (извиняюсь за довольно длинную цитату, но она мне поможет меньше говорить от себя):
«Эллада имела счастье видеть, как характер ее ландшафта был осознан в религии ее жителей. Эллада — страна пантеизма. Все ее ландшафты оправлены — или, по меньшей мере, были 121 оправлены — в рамки гармонии. А между тем каждое дерево в ней, каждый источник, каждая гора слишком выпирает на первый план, а между тем ее небо чересчур сине, ее солнце чересчур ослепительно, ее море чересчур грандиозно, чтобы они могли довольствоваться лаконическим одухотворением какого-то шеллиевского Spirit of nature26*, какого-то всеобъемлющего Пана; всякая особность притязает в своей прекрасной округлости на отдельного бога, всякая река требует своих нимф, всякая роща — своих дриад, и так вот образовалась религия эллинов. Другие местности не были так счастливы; они ни у одного народа не стали основой его веры и должны ждать поэта, который бы пробудил к жизни дремлющего в них религиозного гения.
Если вы находитесь на вершине Драхенфельза или Рохусберга у Бингена и, глядя вдаль поверх благоухающей от виноградных лоз Рейнской долины, видите, как далекие голубые горы сливаются с горизонтом, как зелень полей и виноградников, облитая золотом солнца, и синева неба отражены в реке, — то небо, кажется, пригибается со всей своей лучезарностью к земле и глядится в нее, дух погружается в материю, слово становится плотью и живет среди нас: перед вами воплощенное христианство.
Диаметрально противоположна этому северно-германская степь; здесь видишь только высохшие стебли и жалкий вереск, который в сознании своей слабости не решается подняться от земли; там и сям торчит некогда смелое, а теперь разбитое молнией дерево; и чем безоблачнее небо, тем резче обособляется оно в своем самодовлеющем великолепии от бедной проклятой земли, лежащей перед ним во вретище и в пепле, тем более гневно глядит его солнечное око на голый бесплодный песок: здесь представлено иудейское мировоззрение…
… Если иметь в виду религиозный характер местностей, то голландские ландшафты, по существу, кальвинистические. Всепоглощающая проза, отсутствие одухотворения, как бы висящие над голландскими видами, серое небо, так подходящее к ним, — все это вызывает те же впечатления, какие оставляют в нас непогрешимые решения Дордрехтского синода. Ветряные мельницы, единственная одаренная движением вещь ландшафта, напоминают об избранниках предопределения, которых приводит в действие лишь дыхание божественной благодати; все остальное пребывает в “духовной смерти”. И Рейн, подобно стремительному живому духу христианства, теряет в этой засохшей ортодоксии свою оплодотворяющую силу и вынужден здесь обмелеть. Такими представляются голландские берега Рейна, рассматриваемые с реки…» [К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, М.-Л., Госиздат, 1929, т. II, стр. 55, 57].
122 Вот как пишет Энгельс об ощущении образов природы.
Совершенно понятно, что здесь у него фигурируют две стороны дела. С одной стороны, в данном случае система, скажем, кальвинизм, вызывает у него совершенно отчетливое пластическое ощущение, с другой стороны, пейзаж складывается в синтетизирующую физиономию, в синтетизирующий образ, и уметь находить соответствие образа, о котором говорит пейзаж, образу, о котором говорит идея и о котором он сейчас думает, и есть одно из тех искусств, которым мы должны владеть в очень большой степени.
Какова же особая образная задача, которая должна лежать на историческом пейзаже? Я думаю, что одно обстоятельства для исторического пейзажа характерно. Это ощущение отдаленности. Я думаю, что эта задача отдаленности может воплотиться в пейзаж тем, что в историческом пейзаже нужно в первую очередь сохранять те элементы, которые связаны с пейзажем, рассмотренным издалека, то есть одно из первых условий — небольшое количество частностей, которые можно обозреть в этом самом пейзаже. Это — если лапидарно сказать. А более пышно сказать — пейзаж должен работать в исторической картине главным образом своими обобщенными и обобщающими чертами.
Если мы возьмем картины Рериха или Серова, то Серов в исторических картинах так, в сущности говоря, и поступает. Если взять доисторическую картину, его «Похищение Европы», и вспомнить в ней пейзаж, то, по существу, от пейзажа оставлено несколько обобщающих дуговых движений, рисующих движение первобытного моря, в котором плавает этот очаровательный бык.
Если мы от такого доисторического пейзажа перейдем к более историческому («Одиссей и Навзикая») — чрезвычайно низко посаженный горизонт, море и гладкий берег с двумя фигурами даны двумя-четырьмя штрихами и пятнами, — то мы увидим, что здесь опять-таки соблюдено это же условие отдаленности и обобщенности. Можно, конечно, сказать: Греция — она такая, ничего с ней не поделаешь. Но ту же самую закономерность в менее подчеркнутом виде соблюдает Серов, когда ему нужно сделать и исторический пейзаж царских охот, где наш обычный будничный русский пейзаж дан в таких же элементах, сведен к чрезвычайно резко очерченным обобщающим чертам.
Если такова установка для общих планов, то при приближении они должны сохранять ту же самую закономерность, то есть не заполнять [экран] чрезмерным количеством определяющих деталей, сохранять элементы обобщенности.
Здесь же встает очень любопытный вопрос о так называемых стилизационных задачах в исторических фильмах. Стилизационная задача имеет [целью] показать окружающую природу глазами 123 современника, как видели окружение люди той эпохи, которую мы показываем.
Тут, конечно, есть предел допустимого и есть очень вредное явление, так называемая стилизация из вторых рук, то есть когда [имеется] не непосредственное ощущение художника от того, как он мыслит себе природу того времени, как, ему кажется, видели ее тогда, а он пользуется уже чьей-то интерпретацией. Тут мы все грешны: кто делает под Рериха, кто под Сурикова, трудно справиться, когда вы имеете розвальни, — не вспомнить «Боярыню Морозову» невозможно.
Но тут и другое. С этим мне пришлось столкнуться при поездке в Узбекистан. Все знают персидские миниатюры и целый ряд специфических черт, которые для них очень характерны. Сидящая на ковре фигура проецируется всем своим ростом на ковре, не поднимается за пределы ковра. Я всегда думал, что если так начать снимать, то получается стилизация под персидских художников.
Что же случилось, когда я попал в Узбекистан? Оказывается, тут никакого насилия над взглядом человека нет. Просто-напросто расположение отдельных вещей и предметов именно такое. И если смотреть прямым взором на то, что видишь, то действительно оказывается, что там колоссальное количество предметов, которые вы видите, так и расположено. […]
Если вы пойдете в старую, хорошую чайхану и будете пить чай на четвертой площадке наверху, то у вас все фигуры [будут] расположены так, как это очень остро зачертила миниатюра.
Если вы пойдете по рисовым полям, которые тоже строятся уступами, то получается то же впечатление.
Все мы привыкли к застилизованным формам деревьев на миниатюрах — круглым, овальным и т. д. Но если вы пойдете мимо тутовых деревьев в известный период, — вы увидите, что все они выстрижены именно таким образом.
На миниатюре вы встретите барана, наполовину белого, наполовину черного, или лошадь, на которой почти геометрически правильно расположены пятна. Должен сказать, что я встретил и такого барана и такую лошадь.
Таким образом, миниатюристы, не испортившие себе глаз на иной живописи, умели смотреть на особенности точек зрения, которые образуются вокруг них.
То же самое у меня произошло с живописью Ван-Гога. У него абсолютно чистой тональности домики, речки, небо. Попав на родину Ван-Гога и поездив по Голландии, убеждаешься, что это почти фотосколок, такой чистоты тональность и прозрачность воздуха там имеет место.
Не следует бояться этой стороны дела, когда она обусловлена природой, а не является выкрутасом того или иного живописца.
124 Еще на одном примере можно остановиться. Если приходится иметь дело с пейзажами кватроченто, то поражает, что фигуры очень большие, а архитектура вся маленькая в дальней перспективе, не выше колен.
Здесь объяснение в том, что в тот период не умели писать элементы зданий: одну дверь, одно окно или один портик. В то время не умели из комплексного восприятия здания выделить отдельные элементы, приходилось давать здание целиком. А так как оно не лезло, приходилось его давать маленьким, и оно давало эффект отдаленности.
Я хочу сказать кое-что о наших фильмах в этом отношении.
Есть такие вещи, когда дается реальный пейзаж, а образ его не соответствует тому, что ощущаешь. Есть две картины о Дальнем Востоке: «Волочаевские дни»12 и «Аэроград»13. В «Аэрограде» наибольшее ощущение Дальнего Востока дают те кадры, которые были сняты в Крыму. В «Волочаевских днях» всегда есть ощущение Парголова. Вы можете мне, конечно, сказать, что листва и размер деревьев точно воспроизводят природу, которая имеется на Дальнем Востоке, но мною, в данном случае как малокультурным зрителем, образа Дальнего Востока не ощущается.
В этом отношении блестяще сделан с точки зрения ощущения историчности пейзаж в том же «Минине и Пожарском» — бегство из Москвы, когда двигаются эти сани. Это блестяще сделано. Почему? Потому что в этом месте есть ощущение отдаленности и разобщенности.
Мы стремились в «Александре Невском» везде по возможности это соблюдать для городского пейзажа и для пейзажа Переславля. Предел был достигнут в Чудском озере, где лед и серое небо. Попробуй разбери, когда это происходит.
Между прочим, если бы мне пришлось такую же битву снимать на льду, — у Конармии под Батайском, около Ростова, была примерно такая же битва, — немедленно возникает потребность снабдить этот пейзаж не отсутствием деталей, как на Чудском озере, а большим количеством приближающихся деталей, крупноплановых элементов.
Если говорить о листве и деревьях, то для исторической картины много работает обобщенная форма дерева, для жанровой картины больше будет работать листва.
Если мы возьмем прекрасную в жанровом отношении картину «Ошибка инженера Кочина», то [увидим, что] в этом фильме впервые прекрасно снята листва. Но если бы такой листвой насытить наши исторические фильмы, она бы резала глаз.
Пропустим два раздела об историческом персонаже и историческом сюжете. Давайте перейдем на батальные сцены.
Наибольший опыт, который мы имеем по историческим картинам, это в отношении батальных сцен, и так как нам придется 125 еще очень-очень много снимать исторических фильмов и очень-очень много снимать батальных сцен, то кое-что сейчас можно извлечь, и об этом нужно было бы рассказать.
В разные исторические этапы битва представлялась и велась по-разному. Я не говорю это к тому, что картина должна точно воспроизводить, как дрались в определенную эпоху, а потому, чтобы [более] отчетливо обрисовывались принципиальные положения.
Сперва баталия выступает как сумма отдельных поединков. Я в Мексике видел испанский танец, в котором выражалось завоевание маврами Испании. Тринадцать человек стояло в ряд против других тринадцати, они сходились, и каждый вступал в поединок со своим противником с переменным успехом.
Затем баталия развивалась как поединок организованных масс, и третий тип — баталия как поединок, согласное действие военных соединений разного рода оружия.
Существуют три типа построений в этом отношении.
Первый тип — когда бой решается как монтаж отдельных поединков. Очень показателен в этом отношении последний акт «Макбета», [есть примеры] и в других пьесах Шекспира. У меня подробно выписан пятый акт, как отдельные сцены следуют друг за другом и как отдельные поединки следуют друг за другом. Этого сейчас читать не стоит, я дам это в стенограмме.
Перейдем ко второму типу, ко второму полотну — к батальному полотну, где имеются столкновения больших масс.
Причем здесь имеются очень любопытные приемы, которые здорово использовал Пушкин в баталиях «Руслана и Людмилы».
Здесь сделано так: отдельные разные эпизоды как бы нарисованы на сумме одного поединка, то есть даны перипетии одного поединка, дано несколько сцен боя, но составлены они так, как будто бы происходит один поединок, — это бой с печенегами.
Сошлись — и заварился бой.
Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони,
Со свистом туча стрел взвилась,
Равнина кровью залилась…
Вы имеете совершенно точный ввод.
Сравнительный элемент волнующихся коней и звука мечей.
Дальше движение кверху.
Дальше движение вниз.
Дальше:
Стремглав наездники помчались,
Дружины конные смешались;
Сомкнутой, дружною стеной
Там рубится со строем строй.
126 Пехота и конница. Дальше идет бой конницы и пехоты:
Со всадником там пеший бьется;
Там конь испуганный несется…
Если всматриваться в эти строки, то увидим возможный исход боя, что будет убит [или] конный, или [пеший].
Там русский пал, там печенег…
Возможный исход: или русский пал, или печенег.
Дальше уход в общий план.
Это я очень подчеркиваю, потому что мы все обычно забываем эти соединительные перебивки общим планом, заигравшись парной сценой.
Наконец, последний момент — финал: перебит пеший. Но этот момент подчеркнут очень здорово: конь обрушен на щит с максимальной силой.
Композиция целого боя может в известном случае строиться также на том же элементе. И когда будем говорить о четкости картины, как раз об этом придется вспомнить.
Соединение отдельных типов [боя] можно привести из «Потерянного рая» Мильтона. Там бои с точки зрения батальной сделаны блестяще. Я жалею, что я прочитал Мильтона после того, как я сделал «Александра Невского», потому что в сцене провала под лед там можно было взять несколько элементов.
Последнее. «Отыгрыш» родов оружия.
Мне пришлось это применить в «Потемкине». Когда играют пушки, машины не показывают, когда играют машины — не показывают море, когда играет море — не показывают броненосец. Это тоже соблюдено в довольно строгой последовательности и в «Ледовом побоище» как в наступлении «свиньи», так и в отдельных фазах боя, где распределены равномерно функции боя. Когда отыгрывается конница, то пехота не лезет.
Еще один из характерных приемов — это прием случайного участника или штатского в военной обстановке.
Классический пример дан Толстым в «Войне и мире» — Пьер Безухов.
У меня была сцена, которую мы не показали: мы хотели [показать] освобождение Зимнего дворца через фигуру офицера. Был такой поручик Синегуб, который оставил мемуары, [как] все оставили дворец, [как] он один волновался. Я хотел через него показать все элементы жизни и разрушения дворца.
И еще через одного участника, который вместе с полком попал в Зимний. Это штатский человек, который никакого отношения к бою не имеет. Он ходит по дворцу, рассматривает вещи и наконец доходит до кабинета Николая, где находит альбом с картинками легкого содержания.
127 Несколько общих композиционных условий батальной сцены.
Первое, что нужно, — это иметь отчетливое ощущение образов боя, физиономии боя как такового. Совершенно точно вырисовать себе, какое ощущение бой в целом должен дать не только как характеристика событий, но и как эмоциональный образный комплекс. Без этого невозможно выстроить самое главное — четкого хода не будет. А четкость хода боя — это четкость смены фаз.
Скажем, у меня сильно затянувшийся бой в «Ледовом побоище» (правда, не по моей вине, потому что не дали вырезать 200 метров) был построен от рога немцев, который собирает всю массу, до рога, который уходит в воду. И тема — лейтмотив рога — пронизывает всю эту историю. И ощущение этого контура и диктовалось сменой фаз в бою. Она недостаточно отчетливо сохранилась, потому что около 200 метров не дали мне вырезать.
Второе условие — это четкость — кто кого и кто когда — потому что большинство сцен так запутывает действие, что вы теряете ориентацию и не знаете, за кем следить. Тут нужно сценарно-сюжетное положение менять, и эта удача является крепким опорным пунктом. С другой стороны — следует обращаться к пластическим элементам. В этом отношении можно сослаться на прекрасное использование «цвета» в «Щорсе» и на то же различие, которое было сделано в «Невском», где вы имеете все время черный и белый цвета.
Кроме пластических и сюжетных элементов есть еще ритмические характеристики. Здесь можно указать на относительный бой на одесской лестнице, где вы имеете ритмическую характеристику — и солдат и тех, кто спасается с лестницы. И в «Чапаеве» вы имеете ритм одной стороны и разбитый ритм другой стороны, то есть вы чувствуете противников не только по фамилии, но и по ритмическому лейтмотиву, который придан той или [другой] стороне.
Еще одно важное обстоятельство — это четкость дислокации и стратегической картины баталии. Эта вещь решает судьбу сражения, потому что, если это неясно, то происходит невероятное смешение представлений на сцене. Здесь средства раскрытия разные, но общеупотребительный способ — это военный совет, когда до боя рассказывают или над картой, или просто поясняют, что будет происходить. Но мы старались в «Александре Невском» этот совет видоизменить, и пришлось придерживаться рассказа. Меня интересовало, как возникает у Александра Невского мысль о том клине, который зажат с двух сторон. Мы его искали, искали долго материально-предметную основу. Тут брали и топор и шли по льду, и все это нас не удовлетворяло, пока я не вспомнил о сказке о Лисе и Зайце.
Нажимать на этот эпизод, как на эпизод, который может дать стратегический замысел картины, не приходилось. Если бы мы 128 еще месяц поработали, мы бы нашли исчерпывающее решение.
Очень большую роль играет карта, и если есть карта, если имеется возможность время от времени птичьими полетами устанавливать, как фаза боя происходит, — это еще лучше. В этом отношении большой опыт дает батальная живопись всех времен, вплоть до образца, как у Калло, где есть осада крепости Бреда, где первый план — средний и крупный план — сражающихся; второй план — мелко дерущихся и третий план — это карта, где отмечено, где находились отдельные части. В кино нужно иметь умелое монтажное изменение, и его следует уметь преподнести зрителю.
Очень важный момент — чтобы массовки тоже образно работали в кадре, то есть чтобы движение масс друг против друга, схватки и все прочее были бы сделаны не только крупными планами, а четко вычитывались бы в общих планах. Этому я научился на собственной беде. Мне пришлось доснять целую массовку, так как у меня было отсутствие видимости одной массы, которая выдвигается или вдвигается в другую массу, и это не давало ощущения реального боя.
Два слова еще об эмоциональности. Во-первых, нужно учесть то, что бой следует всячески эмоционально подготавливать. Я не могу согласиться со второй серией «Петра I», где все начинается просто с Полтавского боя. Семьдесят пять процентов эмоционального напряжения, которое в бою будет развиваться, пропадет зря, потому что нельзя требовать от зрителя, чтобы он на протяжении полутора лет помнил все то, что происходило в первой серии.
Ну, о том, что надо менять не только фазы боя, и о ритмических характеристиках, — это понятно. В этом отношении непревзойденным остается Пушкин с Полтавским боем, который можно разобрать как идеальный сценарий, по которому можно разобрать бой.
Заканчивая, я бы хотел еще раз повторить, что нашей основной, главной, генеральной задачей является показ современности и современного человека, поднятых до широкого исторического обобщения. Исторический фильм этому приносит великую пользу, и я убежден, что мы сумеем нашу великую эпоху так показать.
129 ДИККЕНС, ГРИФФИТ И МЫ*
«Начал чайник…».
Так начал Диккенс своего «Сверчка на печи».
«Начал чайник…».
Казалось бы, что может быть дальше от кинематографа! Поезда, ковбои, погони… И вдруг «Сверчок на печи»?
«Начал чайник…».
Но как ни странно — отсюда начался и кинематограф.
Отсюда, от Диккенса, от викторианского романа ведет свое начало самая первая линия расцвета эстетики американского кино, связанная с именем Дэвида У арка Гриффита.
И как на первый взгляд ни казалось бы неожиданно и несовместимо со всеми представлениями, связанными у нас с кинематографом, и с кинематографом американским в особенности, — это фактически именно так, и, как увидим ниже, подобная связь к тому же вполне органична и «генетически» последовательна.
Высказывания Гриффита на тему о связи метода его творчества с Диккенсом сохранили и его биографы и историки кино.
Но прежде всего вглядимся пристально в то лоно, где, может быть, и не зародилось кино, но которое явилось почвой его первого мирового расцвета в масштабах небывалых и непредвиденных.
Мы знаем, откуда пошло как мировое явление кино. Мы знаем неразрывность связи его с развитием сверхиндустриализации Америки.
Мы знаем, как отразились на производстве, на искусстве и на литературе капиталистический размах и строй Соединенных Штатов Америки.
130 Американское кино — ярчайшее и типичнейшее отражение состояния американского капитализма.
Казалось бы, что общего между этим Молохом современной индустрии, головокружительным темпом городов и метрополитенов, ревом конкуренции, ураганом биржевых спекуляций, с одной стороны, и… мирным патриархальным викторианским Лондоном романов Диккенса, с другой?
Однако начнем с самой «молниеносности», «урагана» и «рева».
Собственно, такой — вернее, сплошь такой — рисуется Америка лишь тем, кто знает ее по книжкам, да и то по ограниченному их числу и по не слишком совершенному их подбору.
Посетителя Соединенных Штатов недолго удивляет все это море огней (действительно, необъятное), весь этот водоворот биржевой игры (действительно, не знающей себе равной), весь этот рев (действительно, способный оглушить кого угодно).
Что же касается быстроты уличного движения, то подобная быстрота на улицах больших городов захватить не может по той простой причине, что ее просто нет. Забавное противоречие здесь в том, что автомобилей, сверхбыстроходных и молниеносных, здесь до такой степени много, что они, не давая друг другу двигаться, вынуждены от блока к блоку ползти сверхчерепашьим шагом, замирая надолго на каждом перекрестке, а перекрестки авеню и стритов встречаются буквально на каждом шагу.
И вот, сидя в сверхмощной машине и двигаясь темпом черепахи среди моря густо зажатых друг другом прочих сочеловеков, сидящих в столь же сверхмощных и почти недвижных машинах, невольно начинаешь размышлять о двойственности динамической картины облика Америки и о глубокой взаимообусловленности этой двойственности в Америке во всем и через все.
Толчками прорываясь от блока к блоку по сверхзапруженной улице, невольно блуждаешь глазом снизу вверх и сверху вниз по небоскребам.
«Почему они не кажутся высокими?» — лениво ползет в голове мысль.
«Почему при всей их высоте они кажутся домашними и провинциальными?»
И ловишь себя на мысли, что «трюк» небоскреба состоит в том, что этажей в нем много, но что сами по себе этажи-то низенькие. И сразу же высоченный небоскреб начинает казаться состоящим из провинциальных домишек, поставленных друг на друга. И достаточно выехать за черту города, а в некоторых городах — за черту центра города, чтобы увидеть те же домики размещенными не по сорок, шестьдесят, сто двадцать друг над другом, а вытянувшимися безграничной вереницей одно- и двухэтажных коттеджей вдоль скучных главных улиц (знаменитых Мэйн-стритов) или почти полудеревенских боковых.
131 Здесь вы можете мчаться во всю прыть, если не боитесь «копсов» (полисменов) или, будучи иностранцем, убедительно сыграете, что не сумели разобраться в знаках; здесь улицы пусты, движение редко и, в противоположность улицам метрополии, не буйное движение задыхается в каменных тисках города, а одинокие машины мчатся ураганом, чтобы не заснуть заштатной бездумной спячкой американской провинции.
Полки небоскребов зашли далеко в глубь страны, стальные нервы железных дорог оплели ее густой сеткой; но в равной степени мелкопоместная фермерская заштатная Америка кажется захлестнувшей чуть ли не самые центры городов; бывает иногда достаточно завернуть за угол небоскреба, чтобы лицом к лицу очутиться с домиком колониальной архитектуры, казалось бы, каким-то чудом перенесенным из глубоких саванн Луизианы или Алабамы в самый центр делового города.
Но там, где эта провинциальная волна захлестывает не домиком или церковкой (отгрызая угол монументального современного Вавилона — «Радио-Сити»), не кладбищем, внезапно раскинувшимся в самом центре Сити, или развешенным за углом Уоллстрита бельем итальянских кварталов, — там провинциализм заворачивает внутрь квартир, свивается клубком у каминов, утыкается в мягкие дедовские кресла с кружевными салфеточками, обволакивает чудеса современной техники: холодильники, стиральные машины, радиолы.
Но границы могущества провинциализма, который вплетается в эти и прочие чудеса техники, еще далеко не здесь.
Под черепными коробками, в столбцах настольных газет, в сентенциях радиофицированных проповедей и транслируемого шарлатанства сидит он крепче всего, на многие, многие годы определившись тем, чего вовсе не нужно ходить искать… «Далеко на востоке»1, но что можно найти под жилетом или котелком у многих и многих дельцов этого века сверхиндустрии в том месте, где принято носить сердце или иметь мозги.
В Америке прежде всего и больше всего поражает обилие того заштатного, провинциального, патриархального, чем проникнуты быт и нравы, мораль и философия, идейный горизонт и правила жизни американских средних слоев.
И чтобы понять Гриффита, нужно рядом с образом мчащихся автомобилей, летящих паровозов, бегущих телеграфных лент и конвейеров помнить и об этой второй Америке — об Америке традиционной, патриархальной, провинциальной, и тогда вас уже гораздо меньше удивит эта связь Гриффита с Диккенсом.
Линии обеих этих Америк сплелись в манере и индивидуальности Гриффита как самый причудливый из всех его параллельных монтажей.
132 Но любопытнее всего то, что один и тот же Диккенс оказался наводящим впечатлением для обеих линий манеры Гриффита, отразивших оба неразрывных облика Америки: Америки провинциальной и Америки — сверхдинамичной.
Мы легко соглашаемся признать это для «интимного» Гриффита, для Гриффита современного или прошлого американского быта, где Гриффит глубок; для тех картин, о которых Гриффит мне сам говорил, что «они делались для себя и неминуемо проваливались в прокате…».
Но нас немного удивляет, когда и для строя «официального» пышного Гриффита, Гриффита ураганных темпов, головокружительного действия, сногсшибательных погонь источником наводящего опыта оказывается тот же Диккенс! А между тем это именно так.
Однако сперва о Диккенсе «интимном».
Итак: «Начал чайник…»
Достаточно узнать в этом чайнике типичный «крупный план», чтобы воскликнуть: «Как же мы раньше не замечали! Это, конечно же, чистейший Гриффит! Сколько раз в его картинах мы видели аналогичный крупный план в начале эпизода, сцены, фильма!»
Кстати, не следует забывать, что одной из самых ранних картин самого Гриффита был именно «Сверчок на печи»!
Об этом сообщает широковещательное рекламное объявление в «The New York Dramatic Mirror» от 3 декабря 1913 года.
Он значится двадцатой по порядку картиной среди… ста пятидесяти малых картин и нескольких «больших», вроде «Юдифи из Бетулии» (первого американского фильма, имевшего уже целых четыре части), снятых Гриффитом за период с 1908 по 1913 год.
Конечно, этот чайник — типичнейший гриффитовский крупный план.
Крупный план, насыщенный — теперь мы это видим отчетливо — типично диккенсовской «атмосферой», которой с одинаковым мастерством умеет обволакивать Гриффит и строгий облик быта «Далеко на востоке» и леденящий холод морального облика его персонажей, толкающих провинившуюся Лилиан Гиш на зыбкую поверхность мчащегося… ледохода.
Разве не такую же неумолимую атмосферу холода создает Диккенс, например, в «Домби и сыне»? Через холод и чопорность раскрывается образ мистера Домби. И вот уже отпечаток холода лежит на всем, везде и во всем — мистер Домби окружен леденящей атмосферой: холодны крестины его мальчика, холодна комната, холоден прием застывших гостей. Чинно стоят в строю книги на полках, как будто они замерзают. Холодно все в церкви, холоден обед, холодно, как лед, шампанское, холодна, как свинец, телятина и т. д. …
133 И «атмосфера» всегда и всюду — одно из типичнейших средств раскрытия внутреннего мира и нравственного облика самих персонажей.
Тот же метод Диккенса мы узнаем и в неподражаемых гриффитовских эпизодических персонажах, казалось бы, прямо из жизни забежавших на экран. Я уже не помню, кто с кем говорит в американских эпизодах на улице в «Нетерпимости»2. Но я никогда не забуду маски прохожего с носом, вытянутым вперед между очками, и обвислой бородой, с руками за спиной и маниакальной походкой. Своим проходом он прерывает самый патетический момент в разговоре страдающих юноши и девушки. О них я почти ничего не помню, но прохожий, на мгновение мелькнувший в кадре, стоит передо мною как живой, а видел я картину лет двадцать назад!
Иногда эти незабываемые люди действительно входили в фильмы Гриффита почти что с улицы: то это бывал маленький актеришка, выраставший в руках Гриффита в звезду; то человек, так никогда вновь и не снимавшийся; то… видный профессор математики, приглашенный играть страшного палача в «Америке»3, покойный Луис Уолхейм, так бесподобно сыгравший в дальнейшем солдата в «На западном фронте без перемен»4.
Наконец, вполне в традиции Диккенса и эти милые старики; и эти благородные и чуть-чуть односторонние, страдающие молодые люди и хрупкие девушки; и эти деревенские сплетницы и разные чудаки. У Диккенса они особенно убедительны, когда представлены в объеме эпизодов.
«… Еще одно замечание, которое, впрочем, относится ко всем без исключения произведениям Диккенса, — пишет Честертон (Г. Честертон, Диккенс, Л., 1929, стр. 141), — все его персонажи тем изумительнее, чем меньшая роль уделена им в романе. Его образы безупречны до тех пор, пока он их не втягивает в действие. Бамбль является совершенно исключительной фигурой, пока ему не доверяют ужасной тайны… Микобер благороден, пока он бездельничает, но становится малопривлекательным, когда начинает добровольно шпионить за Урией Гийом… Образ Пекснифа является наиболее сильным в романе, но, как только он втягивается в интригу, он блекнет…».
Гриффит свободен от этого ограничения, и с такой же убедительностью его персонажи перерастают у него из эпизодов в те обаятельные и законченные образы живых людей, которыми так богат экран Гриффита.
Но не будем вдаваться в подробности. Обратимся лучше к тому факту, что и вторая сторона творческого мастерства Гриффита — волшебника темпов и монтажа — растет, на этот раз уже вовсе неожиданно, все из того же викторианского источника.
134 Но, по совести говоря, все удивление по этому поводу и кажущаяся неожиданность могут быть отнесены лишь за счет нашего… незнания Диккенса.
Мы все читали его в детстве, меньше всего думая о том, что многое в его неотразимости лежит не только в захватывающих перипетиях детских биографий его героев, но и в той непосредственной детскости ведения рассказа, равно типичного и для Диккенса и для американского кино, которое удивительно умеет использовать для воздействия инфантильные черты своей аудитории. Еще меньше интересовались мы техникой диккенсовской композиции: нам было не до этого — в плену приемов этой техники мы страница за страницей лихорадочно следили за его действующими лицами, то теряя их из виду в самый критический момент, то вновь обретая их между отдельными звеньями параллельно идущей второй линии действия.
Детьми мы на это не обращали внимания.
Взрослыми — редко перечитывали его романы.
А ставши кинематографистами, не удосужились взглянуть под крышки этих романов, чтобы разгадать, что же именно нас так пленяло в этих романах и каким путем так неотразимо приковывали к себе внимание эти неимоверно многостраничные тома!
Гриффит оказался осмотрительнее…
Но прежде чем вскрыть то, что мог на страницах Диккенса узреть пристальный взгляд американского кинематографиста, я хочу вспомнить, чем был он сам — Дэвид Уарк Гриффит — для нас, молодых кинематографистов поколения двадцатых годов.
Вспомним наш экран ранних дней первых лет Октябрьской социалистической революции. Догорели «камины» отечественных кинохозяйчиков, потеряли над ними власть «навьи чары» их производства, и, прошептав побелевшими губами «позабудь про камин»5, ушли Худолеев и Рунич, Полонский и Максимов в забытье, Вера Холодная — в могилу, Мозжухин и Лисенко — в эмиграцию.
Молодая советская кинематография набиралась впечатлений революционной действительности, первого опыта (Вертов), первых систематизирующих попыток (Кулешов), чтобы во второй половине двадцатых годов невиданным взрывом предстать самостоятельным, взрослым, оригинальным искусством, сразу же завоевавшим себе всемирное признание.
Сам экран в это время являл собой сплетение самых различных разновидностей кино.
Из этого странного месива старых русских картин и старавшихся продолжить их «традиции» новых, еще не советских, беспорядочно импортируемых или залежавшихся у нас заграничных постепенно отчетливо начинают выбиваться два основных потока.
135 С одной стороны, это была кинематография соседней послевоенной Германии. Мистицизм, упадочничество и мрачная фантастика в искусстве потянулись вслед за неудачей германской революции двадцать третьего года. Эти настроения отразились и на экране.
«Носферату — вампир»6, «Улица»7, таинственные «Тени»8, мистически-уголовный «Доктор Мабузо»9 тянулись к нам с экранов страны, достигавшей предела ужаса, видевшей перед собой вместо будущего беспросветную ночь, наполненную мистическими тенями и уголовщиной…
Хаос многократных экспозиций, расплывающихся наплывов, перерезающихся изображений характеризовали несколько более поздние, но отражавшие те же настроения картины «Мертвая петля»10 или «Тайна одной души»11. В них также как бы отражались растерянность и хаос послевоенной Германии.
Все эти тенденции собрались в клубок в знаменитом «Докторе Калигари» (1920)12, в этом варварском празднике самоуничтожения здорового человеческого начала в искусстве, в этой братской могиле здоровых кинематографических начал, в этом сочетании немой истерии действия, ассортименте раскрашенных холстов, намалеванных декораций, расписанных лиц, противоестественных изломов и поступков, чудовищных химер.
Экспрессионизм почти не оставил следов на нашем кино.
Уж слишком чужд был этот размалеванный и истерзанный «святой Себастьян» кинематографии молодому, здоровому по духу и телу восходящему классу.
Интересно, что недостатки в области кинотехники тех лет сыграли в данном случае положительную роль. Они помогли удержать от ложного шага тех, чьи увлечения могли бы качнуться в эту сомнительную сторону.
Ни размеры ателье, ни светооборудование, ни материал киногрима, костюмов или декораций не дали бы нам возможности громоздить на экран подобную фантасмагорию.
Но главное другое: наш дух гнал нас в жизнь — в гущу народа, в кипение действительности возрождающейся страны.
Экспрессионизм вошел в историю формирования нашего кино сильнейшим фактором… отталкивания.
Иной оказалась роль другого кинофактора, бежавшего рядом лентами: «Серая тень», «Дом ненависти»13, «Клеймо Зорро»14.
Календарь точной последовательности прокатных выпусков здесь не играет роли: названия здесь играют роль скорее видовых обозначений, нежели наименований отдельных картин.
В этих лентах был мир нам непонятный, но не отталкивающий, наоборот, по-своему захватывавший и молодых и будущих кинематографистов совершенно так же, как молодых и будущих 136 инженеров в то же время захватывали образцы неведомой нам машинной техники, шедшей из той же далекой заокеанской страны.
Пленяли не столько сами фильмы. Пленяли возможности. Как в тракторе пленяла возможность коллективно возделывать будущие колхозные поля, так в беспредельном темпераменте и темпе этих удивительных (и удивительно никчемных) произведений неведомой страны уже грезились возможности того глубокого, осмысленного, классово направленного использования этого чудесного инструмента, орудия, оружия, каким вырисовывался кинематограф.
Самой увлекательной фигурой на этом фоне рисовался Гриффит. Ибо в его произведениях кино уже звучало не только забавой, не только времяпрепровождением, но содержало рудименты того искусства, которому в руках плеяды советских мастеров было суждено наравне с новизной идей, беспрецедентностью сюжетов и совершенством формы завоевать советскому кино неувядаемую славу на страницах истории мировой кинематографии.
Обостренное любопытство тех лет к конструкции и методу быстро распознало, в чем таится один из наиболее могучих факторов воздействия картин Гриффита.
Оно распознало его в доселе мало известной области, носившей название, близкое нам не по искусству, но по машиностроению и электрооборудованию и впервые возникшее на самом передовом участке искусства — в кинематографии.
Этой областью, этим методом, этим принципом построения и конструкции был монтаж.
Тот самый монтаж, основы которого были заложены американской кинокультурой, но расцвет, окончательное осмысление и мировое признание которому принесло наше кино.
Монтаж, который в творчестве Гриффита играл серьезнейшую роль и принес ему самые славные его успехи.
Через прием параллельного действия пришел к нему Гриффит и, по существу, на нем и остановился, предоставив кинематографистам другой половины земного шара, другой эпохи и другой классовости довести дело до окончательного завершения.
Но не будем забегать вперед. Займемся вопросом, как пришел монтаж к Гриффиту или Гриффит — к монтажу.
Через прием параллельного действия пришел к нему Гриффит. А на мысль о параллельном действии навел его тот же… Диккенс!
Об этом свидетельствует сам Гриффит.
Но достаточно хотя бы поверхностно ознакомиться с творчеством великого английского романиста, чтобы убедиться в том, что кинематографу Диккенс мог бы дать и дал гораздо больше наводящего, нежели только монтаж параллельного действия.
137 Близость Диккенса к чертам кинематографа — по методу, манере, особенностям видения и изложения — поистине удивительна.
И быть может, в природе именно этих черт, в общности их и для Диккенса и для кинематографа лежит часть тайны того массового успеха, который им обоим помимо тем и сюжетов приносили и приносят особенности такого изложения и письма.
Чем были романы Диккенса для своего времени?
Чем были они для его читателей?
Ответ один: — Тем же, чем нынче для тех же слоев оказался… кинематограф.
Такими же страстями заставляли они жить читателя, звали таким же призывом к добру, сентиментальному, как фильм, к такому же содроганию перед пороком, к такому же уходу в необычайное, необычное, фантастическое от скучного, прозаичного, повседневного. И вместе с тем облеченное с виду именно в повседневное и прозаичное.
И, освещенное обратным отсветом со страниц романов в жизнь, это обыденное начинало казаться романтичным, и скучные люди повседневности были благодарны автору за причисление их к лику фигур потенциально романтических.
Отсюда такая же прикованность к романам Диккенса, как нынче к фильму. Отсюда и такой же захватывающий поголовный успех его романов. Предоставим по этому поводу слово Стефану Цвейгу, открывающему описанием именно этого массового успеха свое эссе о Диккенсе (С. Цвейг, Три мастера, Л., 1929, стр. 51 – 52):
«Нет, не в книгах и не у биографов следует справляться о том, как любили Чарльза Диккенса его современники. Любовь живет полным дыханием только в живой человеческой речи. Нужно, чтобы об этом порассказали; лучше всего, чтобы рассказал англичанин, из тех, что, вспоминая дни юности, припомнит и эпоху первых успехов Диккенса, из тех, что до сих пор, спустя пятьдесят лет, не могут решиться назвать автора “Пиквика” Чарльзом Диккенсом, а именуют его старинным, более дружеским и интимным, шуточным прозвищем “Боз”. По их позднему, тронутому скорбью волнению можно судить об энтузиазме тысяч людей, хватавшихся в ту пору с неистовым восторгом за ежемесячники в синей обложке, ныне ставшие редчайшей находкой для библиофилов… В ту пору — так рассказывал мне один из этих “Old Dickensians”27* — они не в силах были заставить себя в день прибытия почты дожидаться дома, пока почтальон не доставит наконец в своей сумке вновь вышедшую синюю книжку. Целый месяц, изголодавшись, 138 мечтали они о ней, терпеливо надеялись, спорили, женится ли Копперфильд на Доре или на Агнессе, радовались, что дела Микобера дошли опять до кризиса, — радовались, ибо прекрасно знали, что он героически преодолеет этот кризис при помощи горячего пунша и доброго настроения! — и вот приходилось ждать, пока притащится наконец почтальон в своей тележке и разрешит все эти забавные загадки. И из года в год в торжественный день старые и молодые выходили за две мили навстречу почтальону, только бы раньше получить книжку. Уже на обратном пути они принимались за чтение, заглядывали через плечо друг другу, читали вслух; и только самые благодушные бежали во всю прыть домой, чтобы поделиться добычей с женой и детьми. И так же, как этот городок, любили в ту пору Чарльза Диккенса каждая деревня, каждый город, вся страна и, за пределами страны, весь английский мир, расселившийся в разных частях света: любили с первого часа знакомства до последней минуты жизни.
… Когда Диккенс решился выступить публично как чтец и впервые встретился лицом к лицу со своими читателями, Англия словно охмелела. Помещения брались приступом и заполнялись до отказа; восторженные поклонники карабкались на колонны, забирались под эстраду, только бы услышать любимого писателя. В Америке в жесточайший мороз люди спали перед кассами на принесенных с собой матрацах, официанты приносили им кушанья из соседних ресторанов; ничем нельзя было сдержать напор публики: все наличные помещения оказались слишком тесными, и в конце концов в Бруклине писателю отвели церковь в качестве зала для чтения».
Головокружительность массового успеха романов Диккенса для своего времени можно сравнить по масштабу только с теми ураганами успеха, какие сейчас вызывает тот или иной сенсационный фильм.
И может быть, секрет здесь в том, что Диккенса с кино прежде всего роднит удивительная пластичность его романов. Удивительная их зрительность. Оптичность.
Персонажи Диккенса такие же пластически зримые и чуть-чуть преувеличенные, как сегодняшние герои экрана.
Эти герои врезаются в чувства зрителя видимым обликом, эти злодеи запоминаются гримасой физиономии, эти герои неразрывно связаны с тем особым, слегка неестественным сияющим блеском, которым их высвечивает экран.
Совершенно таковы же персонажи Диккенса — эта безошибочно пластически схваченная и беспощадно резко прочерченная галерея бессмертных Пиквиков, Домби, Феджинов, Тэккльтонов и прочих.
Эту черту Диккенса, эту способность его письма, эту особенность его взгляда мы можем привести в весьма колоритном описании 139 Стефана Цвейга. (Для нашей темы оно способно даже оказать услугу… объективности, ибо проблема «Диккенс и кино» никогда не волновала Цвейга и не приходила ему на ум!)
«Взор Диккенса, отличаясь чрезвычайной точностью, представляет орудие изумительное и непогрешимое. Диккенс был гением видения. Возьмем любой из портретов Диккенса, юношеский или, еще лучше, в зрелых годах: первенствующее в них — его удивительные глаза. Это не глаза поэта, закатившиеся в высоком безумии или элегически затуманенные, в них нет мягкости, податливости, нет также и пламенной прозорливости. Это английские глаза — холодные, серые, блестящие, как сталь. И действительно, взор его подобен был сокровищнице из стали, в которой несгораемым, неизъемлемым, в некотором смысле воздухонепроницаемым, в себе округленно, хранилось все то, что когда-либо, вчера или много лет назад, было ему доверено извне; самое высокое и самое безразличное, какая-нибудь пестрая вывеска над лондонской лавочкой, давным-давно попавшаяся на глаза пятилетнему мальчику, или дерево под окном с распускающимися цветами. Ничто не уходило от этого взора, он был сильнее, чем время; бережливо складывал он впечатление за впечатлением в кладовые памяти, ожидая, пока писатель потребует их назад. Ничто не подвергалось забвению и не блекло, все покоилось в ожидании, хранило сочность и аромат, прозрачность и красочность; ничто не отмирало, не стиралось. Зрительная память Диккенса несравненна. Стальным лезвием своим разрезает он туман, окутывающий детство; в “Дэвиде Копперфильде”, этой завуалированной автобиографии, воспоминания двухлетнего ребенка о матери и служанке даны как силуэты, точно вырезанные ножницами по транспаранту подсознания. У Диккенса нет расплывчатых контуров: он не дает поводов к многообразному толкованию картины, он принуждает к ясности. Его изобразительная сила не оставляет свободы для фантазии читателя, он насилует эту фантазию… Призовите два десятка иллюстраторов к произведениям Диккенса и потребуйте от них портреты Пиквика и Копперфильда: рисунки выйдут похожими друг на друга, на них непостижимо схоже изображены будут пухлый джентльмен в белом жилете с приветливым взглядом из-под очков или красивый белокурый, робкий мальчик в почтовой карете, направляющийся в Ярмут. Диккенс изображает так отчетливо, так детально, что приходится подчиняться гипнозу его зрения; ему несвойствен был магический взор Бальзака, который высвобождает человеческий образ из огненного облака страстей, формируя его поначалу хаотически; он обладал земным взором моряка или охотника, обладал соколиным зрением в отношении человеческих мелочей. Но мелочи, по его словам, и составляют смысл человеческой жизни. Его взор ловит мелкие приметы, он замечает пятно на платье, слабый и 140 беспомощный жест смущения, схватывает прядь рыжих волос, выглянувшую из-под темного парика, когда его владелец впал в ярость. Он чувствует оттенки, ощущает при рукопожатии каждый отдельный палец, наблюдает переходы в улыбке. Он, прежде чем стать литератором, провел годы в качестве парламентского стенографа и упражнялся в искусстве давать целое в его частях, одним штрихом изображать слово, одним завитком — фразу. И впоследствии он как писатель выработал для себя род сжатой записи действительной жизни, описание заменял коротким значком, из многообразных фактов выжимал свою наблюдательскую эссенцию. Он обладал острым до жути зрением на внешние мелочи, от его взора ничто не ускользало, он, как объектив хорошего фотографического аппарата, улавливал движение, жест в одну сотую секунды. И эта острота усиливалась еще благодаря особой способности преломления, приводившей к тому, что предмет не отражался в его глазах в естественных своих соотношениях, как в обыкновенном зеркале, а принимал особо характерные очертания, как в зеркале вогнутом. Диккенс постоянно подчеркивает приметы своих героев…
В самом деле, гений Диккенса — в этой своеобразной оптике, а не в душе, несколько мещанской. Собственно говоря, Диккенс никогда не был психологом из тех, что, волшебным образом постигая человеческую душу, развивают из ее темных или светлых начал таинственные ростки явлений с их окраской и контурами. Его психология начинается с видимого, он характеризует по внешним признакам — правда, по тем признакам, последним и тончайшим, которые доступны только творчески острому взору. Подобно философам английской школы, он начинает не с предвзятых утверждений, а с признаков. Он ловит самые незаметные, часто внешние проявления душевной жизни и делает по ним ясным весь характер благодаря своей замечательной искажающей оптике. По признакам он дает возможность определить вид. Школьного учителя Крикля он наделяет тихим голосом, так что тот говорит с трудом. И уже чувствуешь трепет детей перед этим человеком, у которого от голосового напряжения вздуваются на лбу гневные жилы. У его Урии Гипа всегда холодные и влажные руки, — и образ дышит уже чем-то нерасполагающим, противно змеиным. Все это мелочи, внешние приметы, но такие, которые действуют на душевную область» (С. Цвейг, Три мастера, стр. 65 – 67).
В момент работы Диккенс действительно видел перед собой то, что он описывал; слышал вокруг себя то, о чем он писал. Биограф Диккенса — Форстер цитирует его письмо:
«… Когда из глубины моих хлопот и страданий я сажусь за мою книгу, неведомая благодатная сила показывает мне ее перед собой целиком, соблазняет меня интересоваться ею, и я не выдумываю ее — честное слово, не выдумываю, — но вижу ее и 141 только записываю ее» (см.: Y. Forster, The Life of Charles Dickens, London, 1892, стр. 362)28*.
Зрительные образы у Диккенса неотрывны от слуховых. Английский философ и писатель Джордж Генри Льюис (в статье 1872 года) приводит свидетельство Диккенса о том, что каждое слово, произнесенное его персонажами, Диккенс отчетливо слышал.
И эта способность реально перед собой видеть то, что он описывал, дает не только абсолютную точность детали, но и абсолютную точность рисунка поведения и поступков его действующих лиц. И это верно как для мельчайшей детали поведения — жеста, так и для общей картины поведения персонажа в целом, то есть для основной, обобщающей характеристики образа.
Разве не исчерпывающей режиссерски-актерской ремаркой кажется выхваченный наугад кусочек описания поведения мистера Домби:
«Рука его уже взялась за шнурок звонка, чтобы по обыкновению вызвать к себе Ричарде, когда взгляд его упал на шкатулку для писем, принадлежавшую его покойной жене и взятую вместе с другими вещами из комода в ее комнате. Уже не первый раз взгляд его останавливался на ней. Он носил ключ в своем кармане; и теперь он перенес ее к своему столу и открыл ее, предварительно запершись в комнате, — рукой привычной и уверенной» (там же, стр. 234).
Здесь обращает на себя внимание последняя фраза: она описательно неуклюжая. Однако эта «вставная» фраза: «предварительно запершись в комнате», «врезанная» как бы спохватившимся автором в середину другой фразы, вместо того чтобы быть поставленной там, где ей следовало бы быть в порядке последовательного описания, то есть перед словами: «и теперь он перенес ее», вовсе не случайно находится именно в этом месте.
В этой умышленной «монтажной» перестановке последовательности описания блестяще схвачена характеристика мимолетной вороватости поступка, проскальзывающая между предварительным действием и актом чтения чужого письма, выполняемыми с той абсолютной корректностью джентльменского достоинства, какую мистер Домби умеет придавать любому своему действию или поступку.
Здесь в самой (монтажной) расстановке фраз дано точное указание «исполнителю», как, в отличие от чинного и уверенного открывания столика, следует «играть» закрывание двери с намеком на совсем другой оттенок поведения. Кстати, в том же «оттенке» придется играть и разворачивание письма; и эту часть «игры» Диккенс уточняет уже не только выразительностью расстановки слов, но и точной описательной характеристикой.
142 «Из-под кипы разорванных и уничтоженных обрывков бумаги он вынул письмо, оставшееся целым. Невольно задерживая дыхание, он вскрыл документ, и, теряя от этого вороватого поступка что-то от своей обычной вызывающей осанки, он сел и, облокотив голову на одну руку, прочел его» (там же).
Самое чтение вновь проходит в оттенке абсолютно джентльменской холодной чинности:
«Он читал его медленно и внимательно, аккуратно вчитываясь в каждый слог. Иным путем, чем своей чрезмерной непринужденностью, казавшейся неестественной и, видимо, бывшей результатом усилия не менее большого, он не позволил проявиться ни одному из своих чувств. Когда он прочел его до конца, он медленно согнул и перегнул его несколько раз и аккуратно разорвал письмо на куски. Остановив движение своей руки, автоматически собиравшейся бросить их, он засунул обрывки в карман, как бы не желая подвергнуть их риску хотя бы случайно вновь соединиться и быть прочитанными; и, вместо того чтобы, как обычно, позвонить и велеть принести маленького Поля, он просидел в одиночестве весь вечер в своей безрадостной комнате…» (там же).
Кусочек именно этого описания действий Домби я привел потому, что в роман из рукописи он не попал.
В целях увеличения напряжения действия Диккенс вырезал его по совету Форстера, который в своей книге о Диккенсе сохранил этот отрывок, отмечая ту беспощадность, с которой Диккенс «вырезал» то, что иногда с большим трудом ему удавалось написать.
Эта беспощадность еще раз подчеркивает ту резкую отчетливость изображения, которой всеми средствами добивался Диккенс, стараясь с чисто экранной лаконичностью говорить о том, что ему было нужно. (Это, однако, ничуть не мешало его романам достигать громадного объема.)
Я не боюсь затянутых цитат, я не боюсь упрека, что отвлекаюсь в сторону, ибо достаточно переменить два-три имени действующих лиц и имя Диккенса переменить на имя героя моей статьи, чтобы почти дословно отнести все здесь сказанное на счет Гриффита.
Начиная со стального блеска пронизывающего взгляда, который я помню по личным встречам с ним, вплоть до мимолетно схваченной ключевой детали или приметы — признака характера, — все здесь у Гриффита той же диккенсовской остроты и четкости, как и у Диккенса, кинематографической «оптичности», «кадровости», «крупнопланности» и искажающей выразительности специальных объективов!
Невольно вспоминаю собственное первое впечатление от первой встречи с Гриффитом, с первым классиком кино:
143 «“Кадр” казался вырезанным из ранней его картины.
… Отель на Бродвее. В самом центре Нью-Йорка… Здесь же и состоялась встреча с Гриффитом, тридцать лет хранящим верность раз облюбованному жилищу.
Итак, пять-шесть часов утра. Серый рассвет на Бродвее. Металлические бочки с мусором. Подметаются улицы. Громадный пустой холл. В утреннем свете кажется, что окон нет и пустой Бродвей вливается в сонный отель. Перевернутые кресла. Скатанные ковры. Идет уборка. В глубине холла теряется портье с ключами. Около него фигура в сером. Серая щетина выступает на серой коже лица. Серый взгляд светлых глаз. Острый. Неподвижно направлен в одну точку: между перевернутыми креслами и скатанными коврами — носилки. На голых плитах два санитара. За ними — полицейский. На носилках — окровавленный человек. Повязка. Кровь. Рядом сметают пыль с пальм. Под окнами выметают горы бумаги. Где-то была поножовщина. Человека внесли в отель. Перевязали. Вынесли. Серая улица. Серые люди. И серый человек в глубине. Сколько раз он, Гриффит, воссоздавал перед нами подобные сцены американского бандитизма… Кажется, что видишь все это на экране: цвет исчез — одна гамма серых тонов от белых пятен бумаги на улице до почти полной темноты там, где лестницы отеля уходят вверх…»29*
Аналогии и сходство нельзя прослеживать слишком далеко — они теряют убедительность и прелесть. Дело начинает походить на махинацию или подтасовку. Мне было бы очень жаль утерять убедительность сопоставления Диккенса и Гриффита, дав этому обилию общих черт перескользнуть в игру анекдотической схожести примет.
Тем более что подобный разбор Диккенса выходит уже за пределы интереса кинематографического мастерства Гриффита и начинает касаться киномастерства вообще.
Но именно поэтому мне приходится дальше и дальше вкапываться в киноприметы Диккенса, раскрывая их через Гриффита — в качестве будущих кинопоказателей.
Поэтому да простят мне, что, листая Диккенса, я нашел даже… «наплывы». Как назвать иначе подобное описание из «Повести о двух городах»:
«По улицам Парижа резко и гулко стучат повозки смерти. Шесть крытых двуколок доставляют гильотине дневную порцию красного вина.
Шесть крытых двуколок катят по улицам. Обрати их в то, чем они были, о всемогущий маг Время, и пред нашим взором предстанут кареты самодержавных монархов, экипажи феодальной 144 знати, наряды распутных Иезавелей, церкви — не дома господни, а воровские притоны, хижины миллионов голодных крестьян».
Сколько подобных «кинематографических» неожиданностей таят в себе страницы Диккенса!
Однако, добровольно ограничив себя, обратимся к основным монтажным построениям, которые рудиментарно были представлены в творчестве Диккенса, прежде чем они расцвели элементами кинокомпозиции в творчестве Гриффита.
Приподымем краешек завесы над этим богатством и доныне полезного опыта, откинув крышку первого попавшегося нам под руку романа.
Пусть им окажется «Оливер Твист».
Раскроем его наугад. Хотя бы на XXI главе.
Прочтем ее начало:
«Глава XXI…30*
I
… Унылое было утро, когда они вышли на улицу: дул ветер, шел дождь, нависли хмурые грозовые тучи.
Дождь шел и ночью: на мостовой стояли большие лужи,
из желобов хлестала вода.
Слабо загорался день, но это только омрачало унылую картину; при бледном свете тускнели уличные фонари, и этот свет не окрашивал в более теплые и яркие тона мокрые крыши и темные улицы.
В этой части города, казалось, никто еще не просыпался: во всех домах окна были закрыты ставнями,
а улицы, по которым они проходили, были тихи и безлюдны.
II
Когда они свернули на Бетнел-Грин-Род, совсем рассвело. Уже погасили много фонарей:
по направлению к Лондону медленно тащилось несколько деревянных повозок,
изредка проносилась с грохотом почтовая карета, покрытая грязью,
и кучер, в виде предостережения, угощал ударом бича неторопливого возчика, который ехал не той стороной дороги, вследствие чего кучеру грозила опасность подъехать к конторе на четверть минуты позже.
Уже открылись трактиры, где горел газ.
Начали открывать и другие лавки, и навстречу изредка попадались люди.
145 Затем появились группы рабочих, шедших на работу;
потом — мужчины и женщины с корзинами, нагруженными рыбой, на голове;
повозки с овощами, запряженные ослами;
повозки с живностью или целыми тушами;
молочницы с ведрами —
нескончаемая вереница людей, несущих съестные припасы к восточным предместьям города.
III
По мере приближения к Сити шум и грохот экипажей усиливались.
Когда они проходили по улицам между Шордитч и Смитфилд, гул перешел в рев, началась толкотня.
Стало совсем светло — светлее уже не станет до наступления ночи, и для половины населения Лондона настало деловое утро.
IV
… Был базарный день.
Нога чуть ли не по самую щиколотку увязала в грязи; над дымящимися крупами рогатого скота поднимался густой пар
и, смешиваясь с туманом,
казалось, опустившимся на дымовые трубы, тяжелым облаком навис над головой.
… Крестьяне,
мясники,
погонщики,
разносчики,
мальчишки,
воры,
зеваки,
опустившиеся бродяги
смешались в толпу;
V
свист погонщиков,
лай собак,
мычание быков,
блеяние овец,
хрюканье и визг свиней,
крики разносчиков,
вопли, проклятья и ругательства со всех сторон,
звон колокольчиков,
гул голосов, вырывающийся из каждого трактира,
толкотня, давка, драки,
гиканье и вопли,
146 отвратительный и безобразный шум, то и дело доносящийся со всех концов рынка,
и немытые, небритые, жалкие и грязные люди, выбегающие из толпы и мечущиеся туда и сюда, — все это производило странное, ошеломляющее впечатление, совершенно сбивавшее с толку».
Сколько раз в творчестве Гриффита встречали мы построения такого же типа!
С близкой к этому строгостью нарастания и убыстрения темпа, с такой же постепенностью игры света: от горящих фонарей — к гаснущим, от ночи — к рассвету, от рассвета — к полному сиянию дня («светлее уже не станет до наступления ночи»); с продуманной сменой чисто зрительных элементов, с вплетающимися в них элементами звуковыми; сперва в виде неопределенного гула, издалека вторящего постепенному рассветанию, чтобы затем через гул, переходящий в рев, обратиться к построениям чисто звуковым, уже конкретным и предметным (раздел V нашей разбивки); с такой же мимолетно врезанной игровой сценкой — вроде кучера, спешащего к открытию конторы; и, наконец, с такими же великолепными типизирующими деталями, как дымящиеся крупы рогатого скота, пар которых смешивается в общее облако с утренним туманом, или крупный план ноги, что «чуть ли не по самую щиколотку увязала в грязи», дающий лучше десятка страниц описания ощущения полной картины базара!
Поражаясь этими примерами из Диккенса, мы не должны забывать еще одного обстоятельства, связанного с творчеством Диккенса вообще.
Думая о нем и «уютной» старой Англии, мы легко способны забыть тот факт, что произведения Диккенса не только на фоне английской литературы, но и вообще всей мировой литературы той эпохи выделялись как произведения художника-урбаниста. Он первый ввел в литературу заводы, машины, железные дороги.
Но черты этого «урбанизма» у Диккенса не только в тематике, они же и в… том головокружительном темпе смены впечатлений, которыми Диккенс рисует город в виде динамической (монтажной) картины; и монтаж этот ритмом своим передает ощущение предела быстроты темпа тех времен — 1838 года — ощущение мчащегося… дилижанса!
«… Любопытно было наблюдать, в каком странном чередовании проходят они перед глазами. Магазины великолепных платьев, тканей, привезенных из всех частей света; заманчивые лавки, где все возбуждало пресыщенный вкус и придавало новый аромат часто повторяющемуся пиршеству; посуда из полированного золота и серебра, принявшая изящную форму вазы, блюда, кубка; ружья, сабли, пистолеты и патентованные орудия разрушения; кандалы для мошенников, белье для новорожденных, лекарства для больных, гробы для мертвых, кладбища для погребенных — 147 все это, наползая одно на другое и располагаясь рядом, пролетало, казалось, в пестром танце…» (Ч. Диккенс, Жизнь и приключения Николаса Никльби, М.-Л., 1941, стр. 456 – 457).
Чем не предвосхищение «симфоний большого города»?
Но вот и другой, прямо противоположный аспект города, тоже, казалось бы, на восемьдесят лет опередивший описание города американским кинематографистом:
«Он состоял из нескольких больших улиц, очень похожих одна на другую… населенных людьми, которые точно так же были похожи один на другого, входили и выходили в одни и те же часы с одним и тем же шумом, по одним и тем же мостовым, для одной и той же работы, и для которых каждый день был таким же, как вчера и завтра, а каждый год был двойником прошлого и следующего».
Англия 1854 года («Тяжелые времена») или «Толпа» Кинга Видора15 1928 года?
Если в вышеприведенных примерах мы встречаемся с прообразами характерных для Гриффита монтажных экспозиций, то стоит нам вчитаться в роман об Оливере Твисте, чтобы сразу же найти и другой типичный для Гриффита монтажный метод — метод монтажного ведения параллельных сцен, врезанных друг в друга.
Для этого обратимся к той группе сцен, в которых излагается известный эпизод о том, как мистер Браунлоу оказывает доверие подобранному им Оливеру, посылая его вернуть книги книготорговцу, и о том, как Оливер снова попадает в лапы вора Сайкса, его подруги Нэнси и старого Феджина.
Сцены эти разворачиваются совершенно по-гриффитовски и по внутриэмоциональной линии и по необычайной рельефности в обрисовке персонажей; по необыкновенной полнокровности как драматических, так и юмористических их черт; наконец, и по типично гриффитовскому монтажу параллельного сплетения всей цепи отдельных эпизодов.
Остановимся особенно подробно на этой последней особенности, столь неожиданной, казалось бы, у Диккенса и столь характерной для Гриффита.
«Глава XIV, заключающая дальнейшие подробности о пребывании Оливера у мистера Браунлоу, а также замечательное пророчество, которое некий мистер Гримуиг изрек касательно Оливера, когда тот отправился исполнять поручение.
— Ах, боже мой, какая досада! — воскликнул мистер Браунлоу. — Мне так хотелось отослать сегодня вечером эти книги!
— Отошлите их с Оливером, — с иронической улыбкой сказал мистер Гримуиг. — Он несомненно доставит их в полной сохранности.
148 — Да, пожалуйста, позвольте мне отнести их, сэр, — сказал Оливер. — Я буду бежать всю дорогу, сэр.
Старый джентльмен хотел было сказать, что Оливер ни в каком случае не пойдет, когда злорадное покашливание мистера Гримуига заставило его принять другое решение: быстрым исполнением поручения Оливер докажет мистеру Гримуигу несправедливость его подозрений хотя бы по этому пункту, и немедленно».
Оливера снаряжают к книготорговцу.
«… — Десяти минут не пройдет, как я уже вернусь, сэр! — с жаром отвечал Оливер».
Миссис Бэдуин, хозяйка мистера Браунлоу, дает ему наставления и отправляет его.
«— Да благословит бог его милое личико! — сказала старая леди, глядя ему вслед. — Почему-то мне трудно отпускать его от себя.
Как раз в эту минуту Оливер весело оглянулся и кивнул ей, прежде чем свернуть за угол. Старая леди с улыбкой ответила на его приветствие и, заперев дверь, пошла к себе в комнату.
— Ну-ка, посмотрим: он вернется не позже чем через двадцать минут, — сказал мистер Браунлоу, вынимая часы и кладя их на стол. — К тому времени стемнеет.
— О! Вы всерьез думаете, что он вернется? — осведомился мистер Гримуиг.
— А вы этого не думаете? — с улыбкой спросил мистер Браунлоу.
В тот момент дух противоречия был силен в душе мистера Гримуига, а самоуверенная улыбка друга сделала его еще сильнее.
— Нет! — сказал он, ударив кулаком по столу. — Не думаю! На мальчике новый костюм, под мышкой пачка дорогих книг, а в кармане билет в пять фунтов. Он пойдет к своим приятелям-ворам и посмеется над вами. Если этот мальчик когда-нибудь вернется сюда, сэр, я готов съесть свою голову.
С этими словами он придвинул стул к столу. Два друга сидели в молчаливом ожидании, а между ними лежали часы».
За этим идет короткая «перебивка» в виде отступления:
«Следует отметить, дабы подчеркнуть то значение, какое мы приписываем нашим суждениям, и ту гордыню, с какой мы делаем самые опрометчивые и торопливые заключения, — следует отметить, что мистер Гримуиг был отнюдь не жестокосердным человеком и непритворно огорчился бы, если бы его почтенного друга обманули и одурачили, но при всем том он искренне и от всей души надеялся в ту минуту, что Оливер Твист никогда не вернется».
И снова возвращение к двум джентльменам:
«Сумерки сгустились так, что едва можно было разглядеть цифры на циферблате, но два старых джентльмена по-прежнему сидели молча, а между ними лежали часы».
149 Сумерки говорят о том, что прошло немало времени, а крупный план часов, которые уже дважды показаны лежащими между старыми джентльменами, говорит о том, что времени прошло уже много. Но вот, в то время как в игру «вернется — не вернется» втянуты уже не только оба старых джентльмена, но и благосклонный читатель, худшие опасения и смутные предчувствия старой леди оправдывают себя врезкой новой сцены — «Глава XV, рисующая, сколь нежно любили Оливера Твиста веселый старый еврей и мисс Нэнси». (Это — сперва короткая сцена в трактире между бандитом Сайксом с собакой, стариком Феджином и мисс Нэнси, которая должна была выследить местопребывание Оливера.)
«— Напали на след, Нэнси? — спросил Сайке, предлагая ей стакан с водкой.
— Напала, Биль, — ответила молодая леди, осушив стакан, — и здорово устала…».
Затем — одна из лучших сцен всего романа — по крайней мере та, что с детства наравне с зловещей фигурой Феджина наиболее плотно сохраняется в памяти, — сцена, когда к Оливеру, шествующему с книгами, внезапно подбегает некая молодая женщина:
«Вдруг он вздрогнул, испуганный громким воплем какой-то молодой женщины: “О дорогой мой брат!” И не успел он осмотреться и понять, что случилось, как чьи-то руки крепко обхватили его за шею…»
Этим ловким маневром Нэнси при сочувствии всей улицы водворяет как «блудного брата» отчаянно отбивающегося Оливера обратно в лоно воровской шайки Феджина.
Сама же глава XV заканчивается уже знакомой нам монтажной фразой:
«Зажгли газ; миссис Бэдуин в тревоге ждала у открытой двери, служанка раз двадцать выбегала на улицу посмотреть, нет ли вдали Оливера. А два старых джентльмена по-прежнему сидели в темной гостиной, и между ними лежали часы».
В главе XVI Оливер водворен обратно в логово шайки, подвергается издевательствам. Нэнси защищает его от побоев.
«— Я не хочу стоять и смотреть на это, Феджин! — крикнула девушка. — Мальчик у вас, чего же вам еще нужно? Не троньте его, не троньте, не то я припечатаю кого-нибудь из вас так, что попаду на виселицу раньше времени».
(Как, между прочим, характерны и для Диккенса и для Гриффита эти внезапные вспышки благородства у «морально деградировавших» персонажей, и как безошибочно, хотя и достаточно сентиментальным образом, они действуют на самых даже скептических читателей и зрителей!)
В конце главы Оливер измучен, утомлен и «засыпает крепким сном».
150 Здесь прерывается физическое единство времени — этот вечер и эта ночь, полные событий; но не прерывается монтажное единство эпизода, сплетающего Оливера с мистером Браунлоу, с одной стороны, и шайкой Феджина — с другой.
Следует в главе XVII приезд церковного сторожа мистера Бамбля в ответ на объявление о пропавшем мальчике и появление Бамбля у мистера Браунлоу, который снова в обществе Гримуига.
Содержание и смысл их разговора раскрывает самое название главы: «Судьба, продолжая преследовать Оливера, приводит в Лондон великого человека, чтобы опорочить его репутацию».
«… — Боюсь, что все это правда, — грустно сказал старый джентльмен, просмотрев бумаги. — Награда за доставленные вами сведения невелика, но я бы с радостью дал вам втрое больше, если бы они оказались благоприятными для мальчика.
Знай мистер Бамбль об этом обстоятельстве в начале свидания, весьма возможно, что он придал бы совсем иную окраску своему краткому рассказу. Однако теперь поздно было это сделать, а потому он степенно покачал головой и, спрятав в карман пять гиней, удалился.
… — Миссис Бэдуин, — сказал мистер Браунлоу, когда вошла экономка, — этот мальчик, Оливер, оказался негодяем.
— Не может этого быть, сэр, не может быть! — с жаром сказала старая леди. — … Никогда не поверю этому, сэр… Никогда!
— Вы, старуха, верите только шарлатанам да нелепым сказкам, — проворчал мистер Гримуиг. — Я это знал с самого начала…
— Это было милое, благодарное, кроткое дитя, сэр! — с негодованием возразила миссис Бэдуин. — Я детей знаю, сэр. Я их знаю вот уже сорок лет; а те, кто не может сказать того же о себе, пусть лучше помолчит о них. Таково мое мнение!
Это был резкий выпад против мистера Гримуига, который был холостяком. Так как у этого джентльмена он вызвал только улыбку, старая леди тряхнула головой и разгладила свой передник, приготовляясь к новому выступлению, но ее остановил мистер Браунлоу.
— Довольно! — сказал старый джентльмен, притворяясь рассерженным, чего на самом деле отнюдь не было. — Больше никогда я не желаю слышать имени этого мальчика!! Я вас позвал, чтобы сообщить вам об этом. Никогда! Никогда, ни под каким предлогом, запомните! Можете идти, миссис Бэдуин. Помните! Я не шучу».
И весь этот монтажно сложный комплекс всего эпизода заканчивается фразой:
«В эту ночь тяжело было на сердце у обитателей дома мистера Браунлоу…»
Я не случайно позволил себе столь подробные выписки, касающиеся не только композиции сцены, но и обрисовки персонажей, ибо в самой лепке их, в их характеристике, в их поведении 151 и обрисовке здесь очень много типичного для манеры Гриффита. Это в равной мере касается и его «по-диккенсовски» страдающих беззащитных существ (вспомним Лилиан Гиш и Ричарда Бартельмеса в «Сломанных побегах»16 или сестер Гиш в «Сиротках бури»17) и не менее типичных для него персонажей вроде двух старых джентльменов и миссис Бэдуин; и, наконец, вовсе для него характерных членов шайки «веселого старого еврея» Феджина.
Что же касается непосредственной задачи нашего разбора монтажного хода композиции сюжета у Диккенса, то результаты его можно представить следующей табличкой:
1. Старые джентльмены.
2. Уход Оливера.
3. Старые джентльмены и часы. Еще светло.
4. Отступление о характере мистера Гримуига.
5. Старые джентльмены и часы. Сумерки сгустились.
6. Феджин, Сайке и Нэнси в кабаке.
7. Сцена на улице.
8. Старые джентльмены и часы. Уже зажжен газ.
9. Оливер водворен обратно к Феджину.
10. Отступление в начале XVII главы.
11. Путешествие мистера Бамбля.
12. Старые джентльмены и распоряжение мистера Браунлоу забыть об Оливере навсегда.
Как видим, перед нами типичный и для Гриффита образец параллельного монтажа двух сюжетов, где наличие одного (ожидающие джентльмены) эмоционально повышает напряжение и без того драматического другого (злоключения Оливера).
В «освободителях», мчащихся на выручку «страдающей героини», Гриффит сумеет на поприще параллельного монтажа пожинать самые богатые свои лавры!
Но любопытнее всего, что в самый центр разобранного нами эпизода вклинивается еще одна «перебивка» — целое отступление в начале главы XVII, о котором мы пока умышленно умолчали. Чем же примечательно это отступление?
А тем, что оно — своеобразный «трактат» о принципах того именно монтажного построения сюжета, которое так пленительно сделано здесь у Диккенса и от него перешло в манеру Гриффита.
Вот оно:
«На театре существует обычай перемежать во всех отменных человекоубийственных мелодрамах трагические сцены с комическими в строгом порядке, подобно тому как в полосатой свиной грудинке чередуются слои красные и белые. Герой опускается на соломенное свое ложе, отягощенный цепями и несчастиями; в следующей сцене верный, но ничего не подозревающий его оруженосец угощает слушателей комической песенкой. С трепещущим сердцем мы видим героиню во власти надменного и 152 беспощадного барона; честь ее и жизнь равно подвергаются опасности, она извлекает кинжал, чтобы сохранить честь, пожертвовав жизнью; и в тот самый момент, когда наше волнение достигает высшей степени, раздается свисток, и мы сразу переносимся в огромный зал замка, где седобородый сенешаль распевает забавную песню вместе с еще более забавными вассалами, которые не привязаны ни к какому месту — ни к церковным сводам, ни к дворцам — и толпами скитаются по стране, вечно распевая песни.
Такие перемены как будто нелепы; но они не менее натуральны, чем может показаться с первого взгляда. В жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду отнюдь не менее поразителен; но дело только в том, что в жизни мы — хлопотливые актеры, а не бездейственные зрители, и в этом-то существенная разница. Актеры в подражательной жизни театра не видят резких переходов и неистовых побуждений страсти или чувства, которые глазам простого зрителя сразу представляются достойными осуждения как неумеренные и нелепые.
Так как внезапные чередования сцен и быстрая смена времени и места не только освящены в книгах многолетним обычаем, но и почитаются доказательством великого мастерства автора, — такого рода критики расценивают искусство автора в зависимости от тех затруднительных положений, в какие он ставит своих героев в конце каждой главы, — это краткое вступление к настоящей главе, быть может, будет сочтено необходимым».
В приведенном выше «трактате» Диккенса интересно еще другое: в нем собственными устами Диккенс обрисовывает свою непосредственную связь с театральной мелодрамой.
Этим сам Диккенс как бы ставит себя в положение связующего звена между будущим, еще даже не предугадываемым искусством кинематографа, и недавним (для Диккенса) прошлым — традициями «отменных человекоубийственных мелодрам».
«Трактат» этот, конечно, не мог не попадаться на глаза патриарху американского кино, и часто-часто его построения кажутся сколком с мудрых советов, преподанных кинематографисту XX века великим романистом середины XIX [века]. И недаром Гриффит, не скрывая этого, отдает должное памяти Диккенса.
Впервые подобное построение на экране использовано Гриффитом в фильме «Много лет спустя»18 (инсценировка «Эноха Ардена» Теннисона, сделанная в 1908 году).
Фильм этот известен еще и тем, что в нем же впервые осмысленно был применен, а главное, использован крупный план.
Это были первые крупные планы в Америке со времени знаменитого «Ограбления поезда»19 Эдвина Портера, поставленного за пять лет до этого и где был всего лишь один крупный 153 план, да и тот в качестве чисто трюковой сенсации: преступник был показан стреляющим в упор в аудиторию!
Эрих Эллиот в книге «Anatomy of Motion Picture Art»31* упоминает еще один фильм из той же эпохи раннего «Вайтаграфа»20, называвшийся «Конечности», в нем во всех сценах участвовали одни только… ноги исполнителей — Клары Кимоэлл Ионг и Мориса Костелло32*.
Но не это важно. Важно было, как Гриффит именно здесь впервые монтажно использовал крупный план.
Для тех дней было смелостью показать в сцене, когда Энни Ли ждет возвращения своего мужа, одно ее лицо, снятое крупно. Уже это вызвало протест со стороны хозяев «Байограф Студио», где тогда работал Гриффит. Но еще гораздо смелее было сразу же после этого крупного плана врезать план того, о ком Энни Ли думает и кого она ждет, — план ее мужа Эноха, заброшенного далеко на пустынный остров.
Это вызвало просто бурю негодования и упреков в том, что никто не поймет подобной переброски действия (cut-back).
Интересно, что, отстаивая свое изобретение, Гриффит ссылается… именно на Диккенса.
Линда Арвидсон (жена Д.-У. Гриффита) в своих воспоминаниях приводит характерный кусочек диалога:
«… — Как можно излагать сюжет, делая такие скачки? Никто ничего не поймет!
— Ну, — отвечал мистер Гриффит, — а разве Диккенс не так пишет?
— Да, но это — Диккенс; он пишет романы, это совсем другое дело.
— Разница не так уж велика, я делаю романы в картинах» (Mrs. D. W. Griffith (Linda Arvidson), When the Movies were young, New York, 1925, стр. 66).
Если здесь были только первые намеки на то, чем в дальнейшем прославился Гриффит, то уже в ближайшей его постановке — «Уединенная усадьба» (1909)21 — новый метод расцветает полностью. И отсюда начинает вести свое летоисчисление параллельный монтаж, нагнетающий напряжение в финальной сцене «спасения жертвы в последнее мгновение». Вламывающиеся громилы, охваченная ужасом семья, отец, мчащийся на выручку жены и детей, сплетались здесь в первый образец того, что потом с новой силой появилось в «Рождении нации», в «Нетерпимости», в «Сиротках бури», в «Америке» и многих других образцах зрелого гриффитовского монтажа.
154 Но Гриффит мог бы продолжить генеалогическое древо монтажа еще дальше в глубь веков и найти для себя и для Диккенса еще другого великолепного предка в лице другого англичанина — Шекспира.
Впрочем, театр, о котором упоминает Диккенс, конечно, не что иное, как типичная вульгаризация в формах бульварной мелодрамы начала XIX века великих традиций елизаветинского театра или самого этого театра, сыгранного в мелодраматической манере начала XIX века. Ведь к первым детским театральным впечатлениям Диккенса — по свидетельству того же Форстера — относится как раз такое исполнение наиболее, кстати сказать, близких к мелодраме трагедий Шекспира «Ричард III» и «Макбет».
Для примера здесь ограничимся лишь одним из самых совершенных в этом направлении образцов монтажного строя Шекспира.
Это пятый акт именно «Макбета», который мы здесь вскользь напомним.
Что касается монтажа, то пятый акт «Макбета» как раз один из наиболее блистательных образцов монтажного построения у Шекспира. Это как бы сплошной монтажный поединок отдельных коротких сцен между собой с тем, чтобы в сцене VII распасться на группу поединков между отдельными действующими лицами.
Напомним вкратце это движение сцен:
«Макбет». Акт V.
Пятый акт открывается знаменитой сценой сомнамбулизма леди Макбет.
Затем идет поединок сцен, переходящий в поединки действующих лиц.
Сцена II. Местность около Данзинана.
Сообщение о приближении английских войск и о месте соединения — Бирнамском лесе.
Сцена III. Данзинанский замок.
Макбет вспоминает предсказание о Бирнамском лесе и «не рожденном женщиной» своем победителе.
Сообщение о десяти тысячах солдат, идущих против замка.
Сцена IV. Около Бирнамского леса.
Малькольм отдает распоряжение солдатам замаскироваться срезанными ветвями.
Сцена V. Данзинанский замок.
Умирает леди Макбет.
Сообщение о том, что Бирнамский лес движется на Данзинан. Макбет выходит в поле.
Сцена VI. Местность перед замком.
Малькольм. Макдуфф и старик Сивард с армией. Распоряжение сбросить маскирующие ветви и идти на приступ.
155 Сцена VII. Другая местность перед замком.
Здесь уже сама сцена дробится на отдельные поединки.
Макбет один (о противнике, «не рожденном женщиной»).
Поединок с молодым Сивардом. Макбет его убивает. («Он рожден женщиной»). Уходит.
Замок Данзинан сдается (сообщение об этом отца Сиварда Малькольму). Уходят.
Макбет один. Отказ от самоубийства (новый поворот темы о противнике, «не рожденном женщиной»).
Макбет и Макдуфф. Поединок. Макдуфф — «не рожден женщиной, а вырезан из чрева». Сражаясь, уходят.
«Перебивка», увеличивающая напряжение. Повторение поединка молодого Сиварда в рассказе Росса об этом старику Сиварду.
Появление Макдуффа с головой Макбета.
Финал. Провозглашение Малькольма королем.
С таким же успехом можно было бы разобрать и последний акт «Ричарда III», не только с его батальными эпизодами, но и со всем ассортиментом «двойных экспозиций» жертв Ричарда, являющихся ему ночью перед боем.
Впрочем, если угодно искать прообразов этим кинематографическим приемам — «видений-наплывов» и «двойных экспозиций» в елизаветинском театре, то лучше всего обратиться к Вебстеру, который в «Белом дьяволе» дает в этом направлении два непревзойденных образца:
«… Действие II,
сцена 3-я.
Комната
в доме Камилло.
Входят: Браччьяно и Заклинатель.
Браччьяно.
Обещанное делай. Умирает
Полночь, искусства твоего пора.
Убийцы для Камилло и несносной
Княгини исполняют ли заказ?
Заклинатель.
Вы щедростью меня склонили к делу,
Что редко совершаю. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Прошу.
Садитесь, вот колпак заговоренный.
Искусством строгим покажу я ныне,
Как разорвалось сердце герцогини.
ПАНТОМИМА
Входят, озираясь, Юлио и Христофоро, отдергивает занавес, за которым портрет герцога Браччьяно. Надевают стеклянные маски, закрывающие им глаза и нос. После этого зажигают куренья перед портретом и вымывают губы. Покончив, тушат свечи и уходят смеясь. Входят: Изабелла в ночном платье, собираясь ложиться спать. За ней несут свечи 156 граф Людовиго, Джованни, Гвидантонио и другие из свиты. Она преклоняет колени как бы для молитвы, потом отдергивает занавеску у портрета, трижды кланяется ему и трижды целует. Ей дурно, но она никому не позволяет подойти. Умирает. Видно огорчение Джованни и графа Людовиго. Герцогиню торжественно уносят.
Браччьяно.
Отлично! Умерла!
Заклинатель.
Ее
убили
Прокуренным портретом. Перед сном
Она привыкла приходить прощаться
С портретом вашим, губы и глаза
Бесстрастной тенью теша. Доктор Юлий,
Заметив это, маслом пропитал портрет
И разными снадобьями. От них-то
Она задохлась…»
(Дальше «в этой же технике» показана вторая пантомима — убийство Камилло.) (Джон Вебстер, Белый дьявол, или Трагедия о Паоло Джордано Орсини, герцоге Браччьяно, а также жизнь и смерть Витторио Коромбоны, знаменитой венецианской куртизанки, перевод И. Аксенова, М., 1916 [стр. 115 – 116].)
Так тянется это влияние от елизаветинцев и Шекспира сквозь вульгаризацию их произведений в английской бульварной мелодраме начала XIX века, через Диккенса к Гриффиту.
Мелодрама, уже достигшая на американской почве к концу XIX века своего наиболее совершенного и пышного расцвета, в этой высшей стадии развития оказала на Гриффита большое влияние, откладываясь в железный фонд гриффитовского кинематографа немалым количеством удивительных и характерных черт.
Как же выглядела и чем была американская мелодрама периода, прямо предшествующего появлению Гриффита?
Самое любопытное в ней — это тесное сценическое сплетение тех обеих сторон, столь характерных в дальнейшем для будущего творчества Гриффита; тех двух сторон, типичных для его письма и стиля, о которых мы говорили вначале.
Постараемся проиллюстрировать это на частном примере истории сценического предшественника кинематографического «Далеко на востоке».
Кое-что из этой истории сохранили воспоминания театрального продюсера этой мелодрамы Уильяма Э. Брэди (журн. «Stage», январь 1937 г., статья «Drama in Homespun», стр. 98 – 100). Они интересны как описание возникновения и популяризации жанра так называемой «домотканой» (home-spun) локальной мелодрамы.
157 Воспоминания Брэди не менее интересны и с точки зрения описания сценического воплощения этих мелодрам на подмостках. Ибо чисто постановочно это сценическое воплощение во многих случаях буквально предвосхищает не только темы, сюжеты и их интерпретацию, но даже те постановочные приемы и эффекты, которые нам всегда казались «чисто кинематографическими», беспрецедентными и… порожденными экраном!
Поэтому сразу же после данных о том, в каких условиях и в каком виде слагалась и достигала успеха постановка «Далеко на востоке» в девяностых годах, я даю не менее рельефное описание сценических эффектов мелодрамы «Девяносто и девять», делавшей битковые сборы на нью-йоркской сцене в 1902 году.
В конце семидесятых годов по сценам американских театров варьете гастролирует некий Денмен Томпсон со скетчем, в котором изображает колоритную и трогательную фигуру провинциального старика Джошуа Уайткомба.
Это представление видит мистер Джемс М. Хилл из Чикаго — специалист по перепродаже подержанного платья — и убеждает Томпсона написать четырехактную мелодраму вокруг фигуры «старого Джошуа».
Так возникает мелодрама «Старая ферма» («The old Home-stead»), постановку которой финансирует мистер Хилл. Новый жанр прививается туго. Но умелая реклама и пропаганда делают свое дело: они умеют разбудить сентиментальную мечтательность и воспоминание о добрых, старых, увы, покинутых домашних очагах; о быте доброй старой провинциальной Америки, и… пьеса не сходит со сцены двадцать пять лет, сделав мистера Джемса М. Хилла за это время миллионером.
Другим успехом из круга подобной же тематики была «Деревенская ярмарка» Нейла Баргесса.
Постановка ее особенно примечательна тем, что здесь впервые за все время существования театра на сцене были выведены реальные… скачки. Лошади неслись по… бегущему тротуару, все время оставаясь в поле зрения сценической площадки33*.
Новизна и привлекательность тематики в сочетании с подобной изобретательностью сценической выдумки быстро создают повсеместную моду на этот жанр локальной драмы.
Джекоб Литт сколачивает несколько миллионов за десять лет мелодрамой «В старом Кентукки».
Огестус Томас создает целых три мелодрамы: «Алабама», «Аризона» и «В Миссури».
158 И скоро не остается буквально ни одного штата, который не имел бы локальной мелодрамы, развертывающейся на его материале.
Предприимчивому Брэди в это время попадает в руки манускрипт пьесы «Энни Лоури». Почуяв верное дело, Брэди за десять тысяч долларов приобретает право полной собственности на эту пьесу, передает ее в «лечебную обработку» Джозефу Р. Гризмеру. Гризмер выпускает окончательную редакцию пьесы под ныне знаменитым названием «Далеко на востоке» («Way Down East»).
Однако пьеса терпит полный провал. Никакая реклама не помогает. Убытки достигают сорока тысяч долларов. Пока не случается того, что красочно описывает сам Уильям Э. Брэди.
«Как-то вечером зашел к нам в театр один из хорошо известных проповедников — священник — и написал нам очень милый похвальный отзыв. Это натолкнуло нас на мысль. Мы срочно разослали десять тысяч бесплатных “проповеднических билетов”, прося всех об отзывах, и получили их. Мы устроили “вечер проповедников”, и театр был переполнен. Они все признали пьесу шедевром, произносили длиннейшие речи на эту тему со сцены и продолжали это проповедями в своих церквах. Я нанял для рекламы большой электрический щит на треугольном здании на углу Бродвея и Двадцать третьей улицы (первый большой щит на весь Нью-Йорк). Он стоил нам тысячу долларов в месяц… Газета “Sun” написала, что “Далеко на востоке” лучше “Старой фермы”. Это дало нам рекламный лозунг, продержавшийся более двадцати лет…»
Несмотря на все это, тур по провинции принес снова полный провал. Поэтому по возвращении в Нью-Йорк были приняты самые экстренные и героические меры.
«… Гризмер и я вместе все обдумали и решили сделать грандиозную постановку, введя в спектакль лошадей, рогатый скот, овец, все виды фермерских повозок и детали фермерского быта, гигантские сани, запряженные четверкой лошадей для санного пробега, электрическую снежную бурю, двойной квартет, певший при всяком удобном случае песни, которые “любила мама”, — из всего этого мы создали самый настоящий фермерский цирк на сцене. Эффект походил на взрыв бомбы, и зрелище держалось в Нью-Йорке весь сезон».
А вот второй образец сценических зрелищ, волновавших Нью-Йорк на рубеже нашего столетия34*:
«7 октября 1902 года состоялась премьера захватывающей мелодрамы “Девяносто и девять”, блеснувшая такими эффектами, на какие только была способна сцена при отсутствии кинематографа. 159 Вот как описывает ее “Театральный журнал” тех дней: “Скромное селение окружено бушующим кольцом горящих прерий. Пожар угрожает жизни трех тысяч человек. На железнодорожной станции в тридцати милях оттуда десятки взволнованных людей следят за тем, как телеграф выстукивает картину ужаса и бедствий. Специальный поезд готов двинуться на спасение погибающих. Но машинист отсутствует, а блестящий молодой миллионер отказывается взять на себя риск и прорваться через огненное кольцо. Появляется юный герой и смело берется за эту задачу. Полная темнота. Минута напряжения. Взвивается занавес, раскрывая захватывающую сцену… Все пространство сцены буквально залито бушующим пламенем. В центре огня массивный паровоз натуральной величины, почти скрытый из виду огнем… Им управляет доброволец-машинист, истерзанный и опаленный, в то время как пожарный из ведра окачивает его водой, ограждая от снопов летящих искр…”»
Комментарии, как говорится, излишни: тут и напряжение параллельного действия, и скачки, и погони; необходимость поспеть вовремя, пробиваясь сквозь огненное кольцо препятствий; тут и проповедь морали, способная воспламенить тысячу проповедников; тут и ответ на обостренный интерес аудитории к малознакомому быту, представленному во всей своей «экзотической полноте»; тут и неотразимые напевы, связанные с воспоминаниями детства и о «старушке матери».
Словом, тут заложен весь арсенал того, чем в дальнейшем так неотразимо будет покорять свои аудитории Гриффит.
Но если от общих положений о монтаже захотеть перейти к его узкоспецифическим чертам, то и тут Гриффит мог бы найти себе еще и других «монтажных предков», и притом у себя же, на собственной родной американской почве.
Я оставляю в стороне грандиозные монтажные концепции Уолта Уитмена. Его монтажную традицию Гриффит, кстати сказать, и не продолжает (хотя строчка Уитмена о «колыбели времен» послужила Гриффиту неудачным рефренным куском для его «Нетерпимости», о чем ниже).
Здесь же я хочу в связи с монтажом сослаться на одного из самых веселых и остроумных современников Марка Твена, писавшего под псевдонимом Джона Феникса. Этот монтажный образец относится к… 1853 (!) году и извлечен из пародии Джона Феникса, в которой он осмеял новинку того времени — появление первых иллюстрированных английских журналов.
Называется эта пародийная газета «Феникс-журнал» («Phoenix Pictorial») и позднее помещена в сборник, составленный Марком Твеном из сочинений лучших современных ему писателей-юмористов («Marc Twain’s Library of Humor», 1888) с характерной твеновской «Апологией составителя»: «Выбор образцов из 160 собственных моих произведений для этого сборника сделан не мною, а двумя моими помощниками-составителями. Иначе их было бы больше! Марк Твен».
А вот и сама строчка, которая нас здесь интересует:

Fearful accident on the Camden Amboy Railroad!! Terrible loss of life!!!
В этой строчке путем сопоставления четырех знаков-шаблонов, из которых один повернут, а другой перевернут, Джон Феникс «по всем правилам искусства» монтажа «вызывает образ»… «страшной катастрофы на Кэмден-Эмбойской железной дороге!! Масса человеческих жертв!!!» — о чем гласит подпись.
Монтажный метод очевиден: игрой сопоставления в себе неизменных и даже безотносительных деталей — кадров создается желаемый образ целого!
Особенно пленителен «крупный план» искусственных зубов, поставленный рядом с «общим планом» перевернутого вагона, оба данные в одинаковом размере, то есть совершенно так же, как это случилось бы с ними, показанными «во весь экран»!
Любопытна и сама фигура автора, скрывавшего под звонким псевдонимом Феникса почтенное имя полковника Джорджа Горацио Дерби. Он один из первых крупных американских юмористов нового типа. Некоторые авторы считают его чуть ли не «отцом» всей новой школы американского юмора. Другие отводят ему место главного источника влияния на творчество Марка Твена. Но так или иначе, совершенно очевидно, что Джон Феникс принадлежит к несомненным предшественникам того «буйного» юмора, который на кино достигает своего высшего расцвета, например, в творчестве братьев Маркс35*.
Достаточно вспомнить такой рассказ Джона Феникса, как «Машина для вырывания зубов» (Tushmaker’s Toothpuller), где дело идет о машинке, которая вместе с зубами вытянула из одной почтенной леди… весь скелет (!), после чего она стала именоваться «резиновой дамой» и никогда больше не жаловалась… на ревматизм (!!).
Жизнерадостный полковник Дж.-Г. Дерби, бывший по профессии не юмористом, а военным инженером, умер в 1861 году от 161 солнечного удара, полученного при постройке маяков на берегах Флориды…
Таков был один из первых американских предков чудодейственного метода монтажа!
Не знаю, как читателям, но мне лично всегда отрадно еще и еще раз сознаться самому себе в том, что кино наше вовсе не без роду и без племени, без прошлого, без традиций и богатого культурного запаса отошедших эпох. Только очень легкомысленные и заносчивые люди могут строить и закономерности и эстетику кино исходя из предпосылки подозрительного самозарождения этого искусства не то от голубя, не то от воды и духа!
Пусть Диккенс и вся плеяда предков, восходящих еще к грекам и Шекспиру, будут им лишним напоминанием о том, что и Гриффит и наше кино отсчет своей самобытности начинают не с самих себя, а имеют огромное культурное прошлое, и это отнюдь не мешает им, каждому в свой момент мировой истории, двигать вперед великое искусство кинематографии. Пусть это прошлое укорит этих легкомысленных людей в излишней заносчивости и в отношении литературы, которая внесла многое и многое в это, казалось бы, беспрецедентное искусство, и в первую очередь самое главное: искусство взгляда — именно не глаза, а взгляда — в обоих смыслах, охватываемых этим термином.
И в этом перерастании от эстетики кинематографического глаза к эстетике образного воплощения взгляда на явление был один из серьезнейших процессов развития именно нашего советского кино; была и громадная роль нашего кино для истории развития мировой кинематографии в целом, и в этом немалую роль сыграло то особое понимание принципов киномонтажа, которое столь характерно для советской школы кинематографии.
И тем не менее роль Гриффита и в деле выработки системы советского монтажа огромна.
Роль Гриффита огромна, но наша кинематография — не бедный родственник перед ним и не неоплатный должник. Дух и содержание самой нашей страны и ее тематики не только темой и сюжетом оказались, и не могли не оказаться, недосягаемо далеко впереди доступных для Гриффита идеалов и отражающих их художественных образов.
Сердобольная мораль его фильмов нигде не поднимается выше уровня христианского обличения людской несправедливости, и нигде не звучит в его фильмах протест против социальной несправедливости. Ни призыва, ни борьбы в его фильмах не содержится.
В лучших своих фильмах он проповедник пацифизма и примирения с судьбой («Разве жизнь не чудесна?»)22 или человеколюбия «вообще» («Сломанные побеги»). Здесь в своих порицаниях и осуждениях Гриффит способен иногда подниматься до великолепного пафоса (например, в «Далеко на востоке»).
162 В тематически более сомнительных его произведениях — это защита… сухого закона (фильм «Борьба»)23 или метафизическая философия о вечности начал добра и зла («Нетерпимость»).
Метафизичностью проникнут фильм «Печаль сатаны» по роману популярной английской писательницы Мэри Корелли.
Наконец, в отталкивающих его фильмах (есть и такие) мы видим Гриффита неприкрытым апологетом расизма, воздвигающим целлулоидный памятник в честь ку-клукс-клана («Рождение нации»).
Впрочем, и в этом последнем случае он близок традициям английского империализма — этой оборотной стороне милых диккенсовских персонажей.
Монтажное мышление неотрывно от общеидейных основ мышления в целом.
Строй, отразившийся в концепциях гриффитовского монтажа, — это строй буржуазного общества. И он действительно подобен диккенсовской иронической «полосатой грудинке», он в действительности, а не в шутку соткан из непримиримо несплетающихся слоев «белого» с «красным» — богатых и бедных. (Это вечная тема романов Диккенса, который дальше подобного разделения и не идет. «Крошка Доррит» так и разделена на две части: «Бедность» и «Богатство».) И это общество, осознанное лишь как противопоставление имущих и неимущих, отразилось в сознании Гриффита не глубже образа затейливого бега двух параллельных линий.
Соответственно отразилась и единственная связь этих двух навсегда разобщенных линий — связь беспощадной борьбы; связь борцов, спазматически схвативших друг друга за глотку; связь противников, пронизывающих друг друга шпагами в поединке. Отсюда как бы родится этот образ двух скрещивающихся тем, которые в своем беге взаимно подгоняют друг друга к недоброму и неблагополучному концу. Этого не может не чуять и Гриффит, и, чтобы отогнать от себя эти мысли, он насильно ставит в окончание фильма конец благополучный!
И метод монтажной классики Гриффита кажется сколком со строя того общества, которое стояло и стоит перед его глазами!
Гриффит в первую очередь величайший мастер наиболее наглядного из этой области — мастер параллельного монтажа.
Гриффит прежде всего великий мастер монтажных построений, создающих прямолинейное убыстрение и нарастание темпа (преимущественно в указанных выше формах параллельного монтажа).
Школа Гриффита прежде всего — именно школа темпа, а не ритма.
С молодой школой советского монтажа ему было не под силу соревноваться в области выразительности и беспощадной воздейственности 163 ритма, задачи которого выходят необъятно далеко за узкотемповые задачи и пределы.
Именно эти черты сокрушительного ритма, в отличие от эффектов темпа, были отмечены в наших первых советских фильмах в Америке.
После отклика на темы и идеи наших произведений именно об этой особенности нашего кино трубят в 1925 – 1926 годах американские газеты.
Но истинный ритм предполагает прежде всего органичность единства.
Не последовательное чередование механически врезаемых друг в друга или сплетаемых друг с другом антагонистических тем, но прежде всего единство, которое в игре внутренних противоречий, через смену игры напряжений чертит свое органическое биение, — вот что лежит в основе ритма. Это не внешнее — сюжетное единство, которое несет с собой и классический образец сцены погони, а то особенное внутреннее единство, которое способно осознаваться в монтаже как совсем иная система построений, среди которых так называемый параллельный монтаж может фигурировать как одна из наиболее высоких или особенно глубоких частных разновидностей.
Характерно, что из всего многообразия форм монтажа, которыми щеголял в любых крайностях наш монтаж, как раз на долю этого узкопонимаемого «параллельного монтажа» приходится в нашем классическом фонде меньше всего образцов. Этот как раз наиболее характерный для Гриффита частный случай монтажа как раз меньше всего привился у нас, хотя, казалось бы, если бы дело шло о заимствованиях, то именно эта черта должна была особенно пышно расцвести в нашем кино.
А между тем это вовсе не так. И это не случайно. Прообразом для гриффитовского монтажа стоит та «полосатая грудинка» несводимых параллелей, о которой пишет Диккенс.
Дуализм в предпосылках подобного монтажного мышления — очевиден.
Но, как мы сказали выше, монтажное мышление неотрывно от общеидейных основ мышления в целом.
И неизбежный дуализм Гриффита (продукт того социального строя, что отразился в его сознании) неизбежен и в методах его искусства, непосредственно вытекающих из строя его мышления.
Как мы видели, предел горизонта социального видения Гриффита — это деление общества на богатых и бедных.
Буржуазная этика, мораль и социология учат, что это две имманентные категории, чуть ли не господом богом установленные.
Согласно этой точке зрения — для нас дикой и смешной — есть «бедные» и есть «богатые», существующие как два самостоятельных, 164 независимых параллельных явления, да еще, кстати сказать, и… необъяснимых!
Эта формула кажется нам смехотворной.
Между тем дословно так говорят об этом буржуазные теоретики, и совершенно так же рисуют себе картину общества и те седовласые финансовые магнаты, которые философствуют на «социальные темы»!
Я думаю, что рисуется им это, вероятно, иначе и гораздо правильнее, но тем настойчивее заставляют они свои науки и искусства всячески расписывать именно подобную «версию».
При этом делается все для того, чтобы скрыть истинное положение вещей, а именно, что «бедные» и «богатые» вовсе не два независимых безотносительно параллельных явления, но что они две стороны одного и того же явления — общества, построенного на эксплуатации.
В этих двух явлениях такая же единая основа и такая же дуализму непонятная, как наличие, например, явлений идеальных и материальных, которые никак не исключают друг друга, не отрицают друг друга и меньше всего «подтверждают» позиции дуализма.
Единое явление, рассмотренное в своих противоречиях, раздвоение единого явления и новая сборка его в новом его осознании — вот что лежало и лежит в основе идейного вооружения другой части земного шара, противостоящей буржуазному миру.
Иное сознание, иной метод мышления — отсюда и иной метод осмысления явлений, иная концепция методов искусства.
И естественно, что концепция монтажа Гриффита, как монтажа прежде всего параллельного, кажется сколком с его дуалистической картины мира, бегущего двумя параллельными линиями бедных и богатых к некоему гипотетическому «примирению» там, где… пересекаются параллельные линии, то есть в той бесконечности, которая… так же недоступна, как и само это «примирение»!
Совершенно так же естественно, что наша концепция монтажа должна была родиться из совершенно иного «образа» понимания явлений, которое нам открыло мировоззрение монистическое и диалектическое.
Нам микрокосм монтажа не мог не рисоваться картиной единства, которое во внутреннем напоре противоречий раздваивается, чтобы вновь собираться в новое единство на новом уровне, качественно повышенное, образно по-новому осознанное и переосознанное.
Между концепцией монтажа у Гриффита и концепцией монтажа в советской кинематографии лежит принципиальное различие.
165 Попытка выразить теоретически эту общую тенденцию нашего понимания монтажа выпала на мою долю. Высказывал я ее в статье «За кадром» в 1929 году, меньше всего думая в то время о том, до какой степени наш метод монтажа и генетически и принципиально противостоит монтажу Гриффита.
Излагалось это в форме установления стадиальной связи между кадром и монтажом.
О тематической единице содержания фильма, о куске — «кадре», я писал:
«Кадр — вовсе не элемент монтажа.
Кадр — ячейка монтажа. По ту сторону диалектического скачка в едином ряде кадр — монтаж».
Монтаж — это перерастание внутрикадрового конфликта (читай: противоречия) сперва в конфликт двух рядом стоящих кусков: «Внутрикадровый конфликт — потенциальный монтаж, в нарастании интенсивности разламывающий свою четырехугольную клетку и выбрасывающий свой конфликт в монтажные толчки между монтажными кусками».
Затем — разбегание конфликта в целую систему планов, посредством которых «мы снова собираем воедино разложенное событие, но в нашем аспекте; в нашей установке по отношению к явлению…».
Так дробится монтажная единица — клетка на цепь раздвоений, которые вновь собираются в новое единство — в монтажную фразу, воплощающую концепцию образа явления.
Интересно, что совершенно такой же процесс происходит и в истории языка в отношении слова («кадр») и предложения («монтажная фраза»), знающего такую же первоначальную стадию «слова-предложения», лишь в дальнейшем «расщепляющегося» в предложение, состоящее из отдельных самостоятельных слов.
В. А. Богородицкий пишет, что в «самом начале человечество выражало свои мысли одиночными словами, которые и были первоначальной формой предложения» («Общий курс русской грамматики», М.-Л., 1935, стр. 203).
Выше мы изложили особенности нашего взгляда на монтаж.
Однако различие монтажной концепции нашей и американской достигнет своей предельной яркости и отчетливости, если мы взглянем на такую же принципиальную разницу понимания и другого новшества, введенного Гриффитом в кинематографию и также получившего у нас совершенно иное осмысление.
Речь идет о так называемом «крупном плане».
Это принципиальное различие начинается, по существу, уже с самого названия.
Мы говорим: предмет или лицо снято «крупным планом», то есть крупно.
166 Американец говорит: близко (дословное значение термина close-up36*).
Американец говорит о физических условиях видения.
Мы же говорим о качественной стороне явления, связанной со значением его (совершенно так же, как мы говорим о крупном даровании, то есть таком, которое выделяется по своей значительности из общего ряда, или о крупном шрифте, который неразрывно связан с выделением наиболее существенного и значительного).
У американца термин связан с видением.
У нас — с оценкой видимого.
Как глубоко принципиально различие здесь, мы увидим ниже, разобравшись в системе того, как по методу и приложению использует крупный план наш кинематограф в отличие от пользования «close-up» в американском.
При этом сличении сразу же рельефно выступает главнейшая функция крупного плана в нашей кинематографии — не только и не столько показывать и представлять, сколько значить, означать, обозначать.
И это было одной из особенностей очень быстрого осмысления у нас по-своему самой природы крупного плана после того, как он едва был замечен в качестве средства показа в практике американского кино.
С первых же шагов на этом пути нас привлекла в методике крупного плана именно удивительная его черта: создавать новое качество целого из сопоставления отдельного.
Там, где у Гриффита изолированный крупный план в традиции диккенсовского чайника был деталью, часто решающей или «ключевой»; там, где смена крупных планов лиц была немым предвосхищением будущего синхронного диалога (кстати сказать, звуковое кино Гриффит не обновил ни одним приемом), — там мы выдвигали идею принципиально нового качественного сплава, вытекающего в процессе сопоставлений.
Я лично, например, чуть ли не с самых первых устных и письменных моих высказываний двадцатых годов так и обозначал кинематограф как «искусство сопоставлений» прежде всего.
Там, где, если верить Селдесу37*, сам Гриффит дошел до того, что «увидел, как посредством разделения сцен на скок спасителей и ужас жертв он грандиозно умножает эмоциональный эффект; как целое оказывается в бесконечное число раз больше, нежели 167 сумма составляющих его частей», там для нас и этого оказывалось мало.
Нам было мало этого количественного нарастания — даже в таком «умноженном» состоянии: мы искали и нашли в сопоставлениях гораздо большее — качественный скачок.
Скачок оказался за пределами возможности сцены — скачком за пределы ситуации: в область монтажного образа, монтажного понятия, монтажа как средства прежде всего раскрывать идеологическую концепцию.
Кстати, в одной из книг Селдеса38* помещено его пространное осуждение американского кино двадцатых годов, утратившего свою непосредственность в претензиях на «артистичность» и «театральность».
Оно написано в форме открытого письма к киномагнатам. Начинается оно сочным обращением: «Невежественные и несчастные люди» и содержит в конце своем такие примечательные строки:
«… и тогда появится новый фильм без вашего содействия. Ибо когда вы, ваша капитализация и ваша рекламная шумиха уберетесь к чертям, поле окажется открытым для других… Оно станет достоянием подлинных художников. С артистами вместо фигляров, с новыми идеями (среди которых мысль о наживе больших денег может и отсутствовать) эти художники вернут экрану то, что вы растлили, — воображение. Они будут творить посредством камеры, а не только регистрировать… Возможно и желательно создание больших эдосов об американской индустрии, и пусть машина в них действует подобно характеру в драме, подобно тому как и земля Запада и пшеница должны играть свою роль. Грандиозные концепции Фрэнка Норриса39* вполне в пределах достижимости камеры. Есть живописцы, архитекторы, фотографы, готовые творить для камеры. И писатели, я думаю, тоже найдут немало интересного в сценариях как в новом средстве выражения.
Нет конца тому, что мы можем создать.
… Ибо фильм — это творческое воображение человечества в действии…»
Селдес ждал этого светлого кинобудущего от каких-то неведомых, все удешевляющих фильмов, из рук каких-то не менее неведомых «подлинных художников» и от эпосов, посвященных… американской сверхиндустрии или американской пшенице. Но его 168 слова оправдались совсем в другом направлении: они оказались как бы предсказанием того, что именно в эти годы (книга вышла в 1924 году) собиралось на другом конце земного шара, чтобы затем воплотиться в расцвете плеяды первых немых советских фильмов, которым было суждено превзойти все его предвидения.
Ибо только новый социальный строй, навсегда освободивший искусство от узкокоммерческих задач, мог дать полноценную жизнь тому, о чем лишь мечталось передовым американцам!
Одновременно и в технику монтажа вошло совершенно новое его осмысление.
Параллелизму и чередованию крупных планов Америки наше кино противопоставляет единство их в сплаве: МОНТАЖНЫЙ ТРОП.
По теории словесности известно, что «троп есть перенесение слова от собственного значения к несобственному, например, острый ум (собственно, острая сабля)». (Н. Минин, Учебная теория словесности, Спб., 1872, стр. 51 – 52.)
Этого типа монтажных построений не знает гриффитовское кино. У него крупные планы создают атмосферу; обрисовывают характеристики действующих лиц; чередуют в диалоге героев; в погонях преследующих за преследуемыми нагнетают темп. Но везде Гриффит остается на уровне изобразительного и предметного и нигде не старается через сопоставление кадров стать смысловым и образным.
Впрочем, одну такую попытку, и попытку грандиозного масштаба, знает и практика Гриффита. Это «Нетерпимость».
Один из историков американского кино обоснованно называет ее «гигантской метафорой». Не менее обоснованно он называет ее одновременно и «блистательным поражением».
Ибо если «Нетерпимость» — в американской своей части — стоит непревзойденным самим Гриффитом блестящим образцом метода гриффитовского монтажа, то одновременно по линии желания выйти за пределы рассказа в область обобщения и метафорического иносказания картину действительно постигает полная неудача.
Но историк американского кино был неправ, отрицая за кинематографом всякую вообще возможность образного сказа, допуская метафору уподобления, сравнение и прочее в лучшем случае лишь в тексте титров!
Предпосылка к неудаче здесь была в другом.
А именно — в недопонимании Гриффитом того обстоятельства, что областью метафорического и образного письма является сфера монтажных сопоставлений, а не сами изобразительные монтажные куски.
Отсюда неудача с рефренным повторением кадра, в котором Лилиан Гиш качает колыбель. Перевод вдохновившего Гриффита 169 отрывка из Уолта Уитмена не в строй, не в гармоническую повторяемость монтажного выражения, а в отдельную картинку привел к тому, что колыбель никак не могла абстрагироваться в образ вечно зарождающихся эпох и неминуемо так и оставалась бытовой колыбелью, вызывая насмешки, удивление или досаду у зрителя.
Почти аналогичный промах мы знаем и в нашем кино: это история с пресловутой «голой бабой» в «Земле» Довженко. Здесь был такой же неучет того, что для образных и внебытовых «манипуляций» кинокусок должен быть абстрагирован от бытовой изобразительности.
Такую абстрагированность от быта в известном случае может дать крупный план.
Здоровое, цветущее женское тело действительно способно подняться до образа жизнеутверждающего начала, которое нужно было дать Довженко, столкнув его монтажно с похоронами в «Земле».
Умело проведенное монтажное сочетание по-рубенсовски снятых крупных планов, отделенных от быта и абстрагированных в нужном направлении, вполне способно подняться до подобного «плотоядно ощутимого» образа.
Но все это построение в «Земле» было обречено на неудачу, потому что вместо таких планов режиссер врезал в похороны общий план хаты и мечущейся в ней голой женщины. И зритель никак не может отделить от этой конкретной бытовой женщины то обобщенное ощущение пышущего плодородия, чувственного жизнеутверждения, которое режиссер хочет перенести на сцену всей природы, пантеистически противостоящей теме смерти и похорон!
Не пускают ухваты, горшки, печь, полотенце, скамейки, скатерти — все эти детали быта, от которых это тело легко мог бы освободить обрез кадра — изобразительная бытовщина не помешала бы воплощению переносной метафорической задачи.
Но вернемся к Гриффиту.
Если он делает промах от немонтажного мышления в разработке повторности «волн времени» через пластически неубедительный символ качающейся колыбели, то на другом полюсе — на сборке всех четырех тем фильма по тому же принципу своего монтажа — он делает другой промах.
Великолепно задумано это сплетение четырех эпох40*. О нем Гриффит писал:
170 «Эти четыре рассказа сначала потекут подобно четырем рекам, на которые смотришь с вершины горы. Сперва эти четыре потока побегу? отдельно, плавно и спокойно. Но по мере того как они бегут, они сближаются больше и больше, текут все быстрее и быстрее и, наконец, в последнем акте они сливаются в единую могучую реку взволнованной эмоции».
Но эффект не получился.
Ибо снова получилось сочетание четырех разных историй, а не сплав четырех явлений в одно образное обобщение.
«Нетерпимость» — «Драма сравнений» — назвал Гриффит свои будущее творение. Так, «драмой сравнений», а не единым мощным обобщающим образом и осталась «Нетерпимость».
И здесь тот же дефект в неумении абстрагировать явление, без чего оно не поддается никакому иному обращению, кроме узкоизобразительного. Поэтому и неразрешимы для него никакие «сверхизобразительные», «переносные» (метафорические) задачи.
Только отделив «горячее» от температурного показателя, можно говорить о «горячем чувстве».
Только абстрагировав «глубину» от метров и саженей, можно говорить о «глубоком чувстве».
Только высвободив «падение» из-под формулы ускорения падающего тела (mv2/2), можно говорить об «упавшем настроении»!
Однако неудача «Нетерпимости» в получившейся «неслиянности» лежит еще и в другом обстоятельстве: четыре взятых Гриффитом эпизода действительно несводимы.
И формальная неудача их слияния в единый образ Нетерпимости есть лишь отражение ошибочности тематической и идейной.
Неужели крошечная общая черта — общий внешний признак метафизически и неосмысленно взятой Нетерпимости — с большой буквы! — способна объединить в сознании такие вопиющие исторически не сводимые явления, как религиозный фанатизм Варфоломеевской ночи и стачечная борьба в крупнокапиталистической стране! Кровавые страницы борьбы за гегемонию над Азией и сложный процесс внутриколониальной борьбы еврейского народа в условиях порабощения римской метрополией?
И здесь мы сталкиваемся с ключом к тому, почему именно на проблеме абстракции не раз спотыкается метод гриффитовского монтажа.
Секрет здесь не профессионально-технический, но идеологическо-мыслительный.
Не в том дело, что изображение не может быть поднято при правильной подаче и обработке до строя метафоры, сравнения, образа.
171 Не в том дело, что здесь Гриффиту изменяет его метод или профессиональное мастерство.
А в том, что он, неудачно пытающийся это делать, не способен на подлинно осмысленное абстрагирование явлений: на извлечение обобщенного осмысления исторического явления из многообразия исторических фактов.
Для истории и экономики понадобилась гигантская работа Маркса и продолжателей его учения, пока удалось понять закономерности процесса, стоящего за пестротой единичных фактов.
Пока удалось науке абстрагировать в обобщение хаос отдельных черт, характерных для явления.
Пока на новой ступени подъема благодаря совершенному орудию познания — марксизму удалось совершить такую же революцию в высших областях познания, какую совершило человечество, когда в свое время выработало первые орудия производства, давшие ему возможность первичного абстрагирования, первичного обращения с «переносными» понятиями.
В практике американских киностудий существует превосходный профессиональный термин «limitations» — «пределы», «ограничения». «Пределы» такого-то режиссера — рамки музыкальной комедии. «Ограничения» такой-то актрисы — роли великосветских барышень. За эти «пределы», за эти «ограничения» (в большинстве случаев вполне разумно) то или иное дарование и не высовывается.
Рискованный выход за эти «пределы» иногда дает вовсе неожиданные по блеску результаты, но обычно, как рядовое явление, он ведет к неудаче.
Пользуя этот термин, я сказал бы, что в области монтажной образности американское кино не снискало себе лавров; и это — в силу своих идеологических «ограничений», своих идеологических «пределов», своих идеологических «limitations».
Здесь не взять ни техникой, ни размахом, ни масштабами, ни капиталовложениями, ни масштабами капиталовложений.
Вопрос монтажной образности предполагает определенный строй и систему мышления; он может определиться и определился лишь через коллективное сознание, являющееся отражением определенной, новой (социалистической) стадии человеческого общества и результатом идейного и философского воспитания мышления, неразрывно связанного с социальным строем этого общества.
Мы, наша эпоха — остроидейная и интеллектуальная — не могла не прочесть в кадре прежде всего его свойства идеологической энграммы — знака; не могла не усмотреть в сопоставлении кадров становления нового качественного элемента, нового образа, нового понятия.
172 Разглядев это, мы не могли не броситься в резкий эксцесс в этом направлении.
В нашем фильме «Октябрь» мы врезали в сцену речей меньшевиков арфы и балалайки. И арфы эти были не арфами, но образным обозначением медоточивых речей меньшевистского оппортунизма на Втором съезде Советов в 1917 году. Балалайки были не балалайками, но образом надоедливого треньканья этих пустых речей перед грозой надвигавшихся исторических событий.
И, ставя рядом меньшевика и арфу, меньшевика и балалайку, мы раздвигали рамки параллельного монтажа в новое качество, в новую область: из сферы действия в сферу смысла.
Период подобных достаточно наивных сопоставлений прошел довольно быстро. Подобные решения, несколько «барочные» по своей форме, во многом старались (к тому же и не совсем удачно!) доступными паллиативными средствами немого кинематографа предвосхитить то, что с легкостью стала делать музыка в звуковом кино!
Они быстро сошли с экрана.
Однако осталось главное — осталось понимание монтажа не только как средства производить эффекты, но прежде всего как средства говорить, средства излагать мысли, излагать их путем особого вида кинематографического языка, путем особой формы кинематографической речи.
Приход к понятию нормальной киноречи совершенно естественно шел через эту стадию эксцесса в области тропа и примитивной метафоры. Интересно, что в этом направлении мы перекликнулись с методикой глубочайшей древности! Ведь, например, «поэтический» образ кентавра есть не что иное, как сочетание человека и коня с целью выразить образ мысли, непосредственно неизобразимый картинкой (а именно, что люди известной местности «быстроходны», быстры в беге).
Так сама выработка простых понятий возникает как процесс сопоставления.
Поэтому и игра сопоставлений в монтаже имеет такую глубинную подоплеку воздействия. С другой же стороны, именно через первоначальное обнаженное сопоставление должна была вырабатываться система сложного внутреннего (уже внешне не прочитывающегося) сопоставления, чем является каждая фраза обыкновенной, нормальной, грамотной монтажной речи.
Однако этот же процесс верен и для выработки всякой речи вообще. И прежде всего для той словесной речи, которой мы говорим. Известно, что метафора есть сокращенное сравнение (А. А. Потебня).
И в связи с этим о нашем языке очень тонко сказал Маутнер (Fritz Mautner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, II Band, XI — Die Metapher, S. 487):
173 «Всякая метафора, по существу, — острóта. Язык, которым сейчас говорит тот или иной народ, представляет собой сумму миллионов острот, является собранием миллионов анекдотов, история возникновения которых пропала безвозвратно. В этом отношении людей периода образования языков хочется себе представить еще большими остряками, чем сегодняшние зубоскалы, живущие за счет своих острот… Острота подмечает отдаленные схожести. Близкие соответствия могли сразу же закрепляться путем понятий или посредством слов. Сдвиг же в значении слов состоит в завоеваниях слова, то есть в метафоричном и остроумном распространении понятия на отдельные схожести…»
Так же категорически об этом говорит и А. А. Потебня:
«… исходная точка языка и сознательной мысли есть сравнение… язык происходит из усложнения этой первоначальной формы…» (А. А. Потебня, Мысль и язык, 1913, стр. 181).
И у порога создания языка стоят сравнение, троп и образ:
«Все значения в языке по происхождению образны, каждое может с течением времени стать безобразным. Оба состояния слова, образность и безобразность, равно естественны. Если же безобразность слова сочтена была за нечто первоначальное (тогда как она всегда производна), то это произошло оттого, что она есть временный покой мысли (тогда как образность есть новый ее шаг), а движение более привлекает внимание и более вызывает исследование, чем покой.
Спокойный наблюдатель, рассматривая готовое переносное выражение или более сложное поэтическое создание, может найти в своей памяти соответственное безобразное выражение, более образно соответствующее его (наблюдателя) настроению мысли. Если он говорит, что это безобразное есть “communis et primum se offerens ratio”41*, то он свое собственное состояние приписывает создателю образного выражения. Это вроде того, как если бы ожидать, что среди горячей битвы возможно такое же спокойное рассуждение, как за шахматной доской, если играют заочно. Если же перенестись в условия самого говорящего, то легко перевернуть утверждение холодного наблюдателя и решить, что primum se offerens, хотя и не “communis”, есть именно образное…» (А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, 1905, стр. 204).
Вернер в своем учении о метафоре также ставит ее у самой колыбели языка, хотя и по другим мотивам — он связывает ее не с тенденцией познавать новые области, осваивая незнакомое 174 через известное, но наоборот, с тенденцией скрыть, заместить, заменить в обиходе то, что находится под словесным запретом — «табу».
Интересно, что уже самый «факт слова» есть, по существу, рудимент поэтического тропа:
«Независимо от отношения слов первообразных и производных, всякое слово, как звуковой знак значения, основано на сочетании звука и значения по одновременности или последовательности, следовательно, есть метонимия» (А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, стр. 203).
И кто бы вздумал возмутиться и восстать против этого положения, тот сам неминуемо попал бы в положение педанта из новеллы Л. Тика, педанта, восклицающего:
«… Когда человек только сравнивает один предмет с другим, то уже лжет. “Утренняя заря рассыпает розы”. Можно ли придумать что-нибудь глупее? “Солнце погружается в море”. Болтовня!.. “Утро пробуждается”. Нет никакого утра, как же оно может спать? Это ведь не что иное, как час восхода солнца. Проклятие! Ведь солнце даже не восходит, — и это уже бессмыслица и поэзия. О, если бы мне была предоставлена власть над языком, я бы хорошо его очистил и вымел! О проклятие! Вымести! В этом вечно лгущем мире нельзя обойтись без того, чтобы не говорить бессмыслицы!» (Л. Тик, «Die Gemälde»).
Этому же вторит и образное переосмысление простого изображения. Хорошо об этом сказано у того же Потебни:
«Образ важнее изображаемого. Рассказ про монаха, который, чтобы не оскоромиться жареным поросенком, произнес над ним заклинание: “оборотись, порося, в карася”, — этот рассказ, лишенный своего сатирического характера, представит нам всемирно-историческое явление человеческой мысли: слово и образ есть духовная половина дела, его сущность» (А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, стр. 490).
Так или иначе, примитивная метафора неизбежно стоит на самой заре языка, тесно связанная с периодом выработки первых переносных, то есть смысловых, а не только моторных и предметных понятий, то есть с периодом зарождения первых орудий как первых средств «переноса» функций тела и его деятельности с самого человека на орудие в его руках. Не удивительно поэтому, что период зарождения членораздельной монтажной речи будущего должен был тоже пройти через острометафорический этап, характерный обилием не всегда достаточно полноценных «пластических острот»!
Однако очень скоро эти «остроты» стали ощущать себя как эксцессы и выверты некоего «языка». И внимание постепенно перемещается от любопытства по поводу эксцесса в сторону интереса к природе самого этого языка.
175 Так постепенно разгадывается тайна строения монтажа как тайна структуры эмоциональной речи. Ибо как самый принцип монтажа, так и все своеобразие его строя — суть точный сколок с языка взволнованной эмоциональной речи.
Достаточно прочесть характеристику подобной речи, чтобы без всяких комментариев убедиться в том, что это именно так и есть.
Раскроем соответствующую главу прекрасной книги Ж. Вандриеса «Язык»42*.
«Основное различие между языком аффективным и логическим (интеллектуальным) заключается в построении фразы. Эта разница бросается в глаза при сравнении языка письменного с языком устным. У французов язык письменный и язык устный так далеки друг от друга, что, можно сказать, по-французски никогда не говорят так, как пишут, и редко пишут так, как говорят…
… Те самые элементы, которые письменный язык старается заключить в связное целое, в языке устном оказываются разделенными, разобщенными, расчлененными; самый порядок этих элементов совершенно отличен. Это уже не логический порядок обычной грамматики: это порядок, в котором есть тоже своя логика, но логика преимущественно чувства, в котором мысли расположены не по объективным правилам последовательного рассуждения, а по тому значению, которое им приписывает говорящий и которое он хочет внушить своему собеседнику.
В устном языке понятие фразы в грамматическом смысле сходит на нет. Говоря: “Человека, которого вы видите сидящим там, на песчаном берегу, я встретил вчера на вокзале”, я пользуюсь приемами письменного языка и вмещаю свои мысли только в одну фразу. В устной речи я сказал бы: “Видите вы этого человека? — Вон там. — Он сидит на песчаном берегу. — Так вот, я его встретил вчера, — он был на вокзале”. Сколько здесь фраз? Это трудно сказать. Допустите, что я сделаю остановку в местах, отмеченных тире, тогда слова “вон там” составят сами по себе отдельную фразу, совсем так, как если бы я отвечал на вопрос: — “Где этот человек? — Вон там”. И даже фраза: “Он сидит на берегу” легко может разбиться на две фразы, если я останавливаюсь между двумя ее составными частями: “Он сидит — там на берегу” или: “Там на берегу — вот где он сидит”. Граница грамматических фраз здесь настолько трудноуловима, что лучше отказаться определить ее. Но с известной точки зрения здесь только одна фраза. 176 Словесный образ (l’image verbal) один, хотя он и развивается, так сказать, кинематически. Но в то время как в письменном языке этот образ дается сразу, в языке устном его разбивают на отрезки, число и сила которых соответствуют впечатлениям, которые испытывает говорящий, или тому, как он хочет подействовать на слушателя» (стр. 142 русского перевода).
Разве это не точный сколок с того, что происходит в монтаже? И разве то, что здесь сказано о «письменном» языке, не кажется списанным с неуклюжего «общего плана», который, когда он пытается что-либо драматически представить, всегда безнадежно похож на витиеватую неповоротливую фразу, полную придаточных предложений, причастий и деепричастий «театральных» мизансцен, на которые он сам себя обрекает?!
Впрочем, это вовсе не значит, что нужно гнаться во что бы то ни стало за «монтажной окрошкой». По этому поводу здесь на фразы можно распространить то, что писал автор «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» славянофил А. С. Шишков о словах: «В языке нужны и длинные и короткие слова; ибо без коротких слов будет он похож на некое протяжное мычание коров, а без длинных — на некое единообразное и краткозвучное стрекотанье сорок…» (А. Шишков, Собрание сочинений и переводов, гл. V, Спб., 1825, стр. 229).
Что же касается до «логики чувств», о которой пишет Вандриес и которая лежит в основе устной речи, то монтаж очень быстро прощупал, что дело именно в ней, но для нахождения всей полноты ее системы и закономерности монтажу пришлось совершить еще немало серьезных творческих «рейдов», прежде чем обнаружить, что фонд этих закономерностей запечатлен еще в третьей разновидности речи — не в письменной, не в устной, но во внутренней речи, где аффективная структура присутствует в наиболее полном и чистом виде. Но строй этой внутренней речи уже неотъемлем от того, что именуется чувственным мышлением.
Так мы дошли до первичного источника тех внутренних закономерностей, которые управляют уже не только строем монтажа, но внутренним строем всякого произведения искусства, — к базисным закономерностям речи искусства вообще — к общим закономерностям формы, лежащим в основах произведения не только кинематографического искусства, но всех и всяческих искусств вообще.
Но об этом… в другом месте.
Сейчас же вернемся к тому историческому этапу, когда монтаж на нашей почве осознал себя монтажным тропом, и проследим тот путь развития, который он проделал в области создания единства произведения, неотрывно от того процесса, в котором он стал осознавать себя самостоятельным языком.
177 Так, по-своему, монтаж стал осознавать себя у нас уже с самых первых не подражательных, а самостоятельных шагов нашей кинематографии.
Интересно, что даже на промежуточной стадии между старым кино и нашим кинематографом идут поиски именно по линии сопоставления. И еще интереснее то, что на этом этапе они, по существу, идут под знаком… противопоставлений. Поэтому на них прежде всего лежит отпечаток «созерцательного расчленения» вместо эмоционального сплава в некое «новое качество», чем характеризуются уже первые искания в области собственного языка советского кинематографа. Такой умозрительной игрой противопоставлений полна, например, картина «Дворец и крепость»24 (1923), как бы вносящая принцип противопоставления из заглавия в самый стиль вещи. Здесь это все еще построения не скрещивающегося параллелизма типа: «здесь и там», «прежде и теперь». Оно совершенно в духе плакатов того времени, показывающих на разделенном надвое листе — слева помещичий дом прежде (барин, крепостное право, порка) и справа — теперь (школа в том же доме, ясли).
Совершенно такого же типа столкновение кадров находим мы и в фильме: ножки балерины на пуантах («Дворец») и ноги Бейдемана, закованные в кандалы («Крепость»). Так же умозрительно в порядке параллелизма подано и сочетание кадров — Бейдеман за решеткой и… канарейка в клетке в комнате надзирателя.
(Этот мотив гораздо более высокой степени осмысления — в образе Безысходности использован позднее Пудовкиным в «Матери» в сцене разговора матери с сыном в тюрьме, перебиваемой планами таракана, которому не дает вылезти из липкой массы палец часового.)
В этих и других примерах нигде еще нет тенденции к объединению изображений в обобщающий образ; их не объединяет ни единство композиции, ни — главное — эмоция: поданы они на равном повествовании, а не на том градусе эмоциональной взволнованности, когда только естественно и возникает образный оборот речи, когда он только и звучит.
Произнесенный же не на соответствующем эмоциональном градусе, достигнутом соответствующей эмоциональной подготовкой, «образ» неминуемо звучит нелепо. Когда Гамлет говорит Офелии, что он ее любит, как «сорок тысяч братьев любить не могут», — это очень патетично и захватывающе; но попробуйте-ка снять с этого выражения эмоциональную повышенность, переведите его в обстановку обыкновенного бытового разговора, то есть вдумайтесь в непосредственное предметное содержание этого образа, и ничего, кроме смеха, он не сумеет вызвать!
178 Первыми «пробами пера» в этом новом и самостоятельном направлении уже во всей полноте изобилует «Стачка» (1924). Массовый расстрел демонстрации в финале, сплетаясь с кровавыми сценами городских боен, сливается (для той «детской» поры нашего кино это звучало вполне убедительно и производило большое впечатление!) в кинометафору «человеческой бойни», вбирающей в себя память о кровавых репрессиях со стороны самодержавия. Здесь уже не простые «созерцательные» противопоставления «Дворца и крепости», но уже — пусть еще грубая, пусть лапидарная — последовательная и сознательная попытка сопоставления.
Сопоставления, стремящегося к тому, чтобы сказать о расстреле рабочих не только изображением, но еще и через обобщающий «пластический оборот речи», приближающийся к словесному образу «кровавой бойни».
В «Броненосце “Потемкин”» три безотносительных крупных плана разных мраморных львов в разных положениях сплавлялись в одного вскочившего льва и, больше того, в другое киноизмерение — воплощение метафорического возгласа: «Взревели камни!»
У Гриффита мчится ледоход. По льду бежит, торопится Лилиан Гиш. С льдины на льдину прыгает, спасая ее, Бартельмес.
Но параллельный бег ледохода и действия людей не смыкаются у него нигде в единство образа «людского потока», людских масс, разорвавших оковы, людских масс, устремляющихся всесокрушительным разливом, как, например, в финале «Матери» Горького — Зархи — Пудовкина.
Конечно, бывали и на этом пути и эксцессы, бывали и просто срывы; конечно, бывало немало примеров и того, как доброе намерение терпело поражение от недоучета композиционных закономерностей и достаточных предпосылок контекста: тогда вместо сверкающего единства образа убогий троп оставался на уровне невозникающего сплава, на уровне механической склейки типа «шли дождь и два студента».
Но так или иначе, характерные для Гриффита дуалистические параллельные ряды сбегались в нашем кино на путях к осознанию себя в будущем единстве монтажного образа сперва в целую серию игры монтажных сравнений, монтажных метафор, монтажных каламбуров.
Это были более или менее бурные потоки, которые все неслись в сторону того, чтобы яснее и яснее проступало конечной задачей главное в монтажной стороне произведений — создание в ней безраздельного господства образа, единого монтажного образа, монтажно создаваемого образа воплощения темы, как это достигнуто и в «Одесской лестнице» в «Потемкине» и в «Атаке каппелевцев» 179 в «Чапаеве», в «урагане» «Потомка Чингис-хана», в «Днепре» из пролога «Ивана»25, слабее — в «Морском десанте» в «Мы из Кронштадта», с новой силой в «Похоронах Боженко» в «Щорсе», в «Трех песнях о Ленине» Вертова26, в «Атаке рыцарей» в «Александре Невском»… Это славный самостоятельный путь советского кино — путь создания монтажного образа-эпизода, монтажного образа-события, монтажного образа — фильма в целом — равноправного, равновоздействующего и равнообязательного в совершенном фильме — наравне с образом героя, с образом человека, народа.
Этот путь и эти цели не снились американским кино-«предкам». У них, лишенных социалистической почвы, не могли родиться те побуждения, те искания, те концепции и конечные цели, которыми живем и живы мы!
Ибо это общее коллективное устремление к единству образа было смутно осознаваемым путем и средством отразить не только в темах, но и в методе искусства то величайшее единство, что в нашей социалистической системе лежит там, где классовое общество обречено на раздор и антагонизм.
У нас концепция монтажа далеко переросла классическую дуалистическую монтажную эстетику Гриффита, символизируемую несводимостью двух параллельно бегущих, переплетающихся тематически разноцветных полосок с видами на обоюдное усиление занимательности, напряжения и темпов.
Для нас монтаж стал средством достижения единства высшего порядка — средством через монтажный образ достигать органического воплощения единой идейной концепции, охватывающей все элементы, частности, детали кинопроизведения.
И так понятый, он оказался гораздо шире понятия узкокинематографического монтажа, так понятый, он вносит много оплодотворяющего и обогащающего в понимание методов искусства вообще.
Ибо наш монтаж как метод уже не сколок с борьбы противоположностей как образа пути, отразившего классовую борьбу, — но отражение единства этих противоположностей, как образа, достигнутого в завершении пути через уничтожение классов, через построение бесклассового общества, заставляющее сверкать социалистическое единство сквозь многонациональное многообразие Советской страны, пришедшей на смену всем векам и эпохам антагонизма.
И в соответствии с этим принципы нашего монтажа звучат как принципы единства в многообразии.
Свое окончательное художественное единство оно находит в разрешении проблемы единства звукозрительного синтеза — проблемы, сейчас разрешающейся у нас, проблемы, даже не стоящей на повестке дня американских исследований.
180 Стереоскопия и цвет реализуются на наших глазах.
И близок тот миг, когда не только сквозь метод монтажа, но и сквозь синтез идеи, драмы играющего человека, экранного изображения, звука, трехмерности и цвета проступит в единство целостного экранного образа тот же великий закон единства в многообразии, который лежит в основах нашего мышления, в основах нашей философии и в равной мере пронизывает монтажный метод от мельчайшего звенышка до полноты монтажного образа фильма в целом.
181 ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ*
Когда мчишься на быстроходной машине советского производства по улицам Москвы; когда бродишь по ее новым скверам и площадям; или когда зачарованный стоишь в вечерний час, любуясь величием ее заново отстроенных архитектурных ансамблей, — трудно вспомнить и представить себе, чем была Москва тридцать лет назад.
Трудно представить себе, что на месте дома Совета Министров тянулась вереница одноэтажных домишек и что между Манежем и гостиницей «Москва» еще в 1924 году я сам снимал пролеты каких-то подворотен и двориков, достойных старой Твери или Костромы.
А глядя с крыши самой гостиницы на панораму Красной площади и Кремля, невозможно поверить самому себе, что здесь на десяток этажей под собственными ногами то самое место, где когда-то еще при нэпе процветали дореволюционные лавки охотнорядцев, из-под полуарок Охотного ряда вылезавшие на панель бочками моченых яблок и брусники, кадушками соленых грибов и огурцов.
Двигаясь улицей Горького, уже не можешь вспомнить очертаний былой Тверской, следы которой лишь изредка стыдливо выглядывают сквозь аркады новых корпусов причудливым фасадом старых «передвинутых» домов, почтительно отступивших в сторону, чтобы не мешать обновленной магистрали, распрямляясь, лететь от Исторического музея к Белорусско-Балтийскому вокзалу.
Движешься от центра к окраинам, и изумление растет еще больше: шаг за шагом перед удивленным старожилом разворачивается панорама индустриальных гигантов, клубов и новых жилых районов, выросших на месте этих когда-то убогих окраин, 182 ютившихся вокруг «Лизина пруда» в Симоновке или «Кутузовской избы» на Филях1.
Строения эти — живое свидетельство перерастания Москвы за эти годы в мощный центр индустриализации, как бы символизирующий в судьбе столицы процесс перерастания самой страны из страны отсталой и аграрной в одну из самых мощных индустриальных держав мира.
Глядя на сверкающие новые заводские корпуса, трудно восстановить в памяти те задворки и трущобы, закоулки и переулки, что были когда-то на их месте.
Однако еще труднее вызвать в памяти облик того, чем были производственные базы — киностудии, киноателье — и самый «производственный размах» кинематографии — тематический и постановочный — к началу новой эры в истории человечества, которую открывал Октябрь.
Сейчас, когда гигант «Мосфильм» раскинул во все стороны мощные свои павильоны; когда через Москву с ним перекликаются из разных концов города другие ателье, когда через всю страну ответно сверкают юпитерами мощные студии Ленинграда и Киева, Тбилиси и Свердловска, Ташкента и Баку, Еревана и Сталинабада43* и когда дальняя Алма-Ата и более близкие Одесса и Ялта гордятся блестяще оборудованными ателье — производственными подножиями для блестящих образцов многонациональной кинокультуры — трудно представить себе, что тридцать лет тому назад очертание всего этого небывалого социалистического ныне размаха ограничивалось двумя жалкими и убогими «очагами», откуда в дальнейшем начался отсчет самостоятельного бытия советского киноискусства.
Это были — крошечное ателье на Житной улице, своими стеклянными боками с фиолетовыми занавесками скорее походившее на старое фотоателье; да вскоре в дальнейшем сгоревшее подобие деревянной загородной виллы с палисадником где-то в дебрях шоссе Энтузиастов, где, трепеща за свое будущее, ютилась фирма «Русь» — в дальнейшем первая база «Межрабпом». Даже производственный «пик» — если не по размаху, то хотя бы по точке своего расположения — ателье на крыше «дома Нирензее» (когда-то наиболее высокого здания Москвы)2 — и тот к этому моменту канул в забвение.
От «Соньки — Золотой ручки» до «Сильного человека» (но Пшибышевскому) и от «Дяди Пуда»3 до «Навьих чар» и «Девьих гор» «киношки» затопляли зрительское любопытство уголовщиной; фарсово-балаганным «юмором», перепевами «декаданса» и «модернизма», переложенными в самые низкопробные, «общедоступные» и облубоченные формы. Все это шло здесь на потребу жадного 183 до сенсации, щекотанья нервов мещанства — основного потребителя кинопродукции.
Атмосфера романов Вербицкой и Нагродской, арцыбашевского «Санина» или уайльдовского «Дориана Грея»4 дурманом растекалась по раззолоченным «Паризианам», «Мажестикам» и «Пикадилли», уже сменившим своей самодовольной роскошью те жалкие кинотеатрики, которые когда-то ютились в обыкновенных квартирах, где зрительный зал составлялся из гостиной и столовой, объединенных проломом стены, а проекционная будка ласточкиным гнездом прилеплялась к наружной стене во двор.
Дела шли блестяще. Кино входило в моду и становилось равноправным местом развлечения «золотой молодежи», ни в чем не уступая другим очагам беззаботного времяпрепровождения буржуазного и аристократического «бомонда».
Под эгидой «Обществ трезвости», старательно оберегавших народные массы не столько от водки, сколько от «пагубного вольнодумства идей», кинематограф продвигался и к рабочим районам. Но, конечно, не темы, волновавшие в эти годы рабочий народ, мелькали перед ним на экранах.
Здесь процветает псевдонародная драма, лживая и рассчитанная лишь на то, чтобы держать рабочего в кругу самых отсталых и примитивных воззрений и представлений, проповеди непротивления и послушания и прочих «домашних добродетелей», отвлекающих мысли от тем социальной несправедливости и методов борьбы с ней.
Как ни далеко то время, однако моральный и идейный облик «киноискусства» этой предоктябрьской поры не так уж трудно себе представить: ведь младший брат его, обогащенный, позлащенный и сверкающий всем изощрением и богатством техники голливудской «страны чудес», точь-в-точь, по существу, таким же смотрит на нас с экранов Америки и прочих буржуазных стран, и, глядя на эти «творения» или читая о них, с невольным ужасом думаешь, что, не будь великого Октябрьского поворота в истории нашей страны, и наша русская кинематография несла бы на экраны мира не воплощение коммунистических идеалов наиболее передовой идеологии мира, но «идеалы» идейного и эстетического диапазона господ Ермольевых, Дранковых и Трофимовых, собиравших обильную дань для своих хозяев — Рябушинских и Лианозовых — по тем же рецептам, согласно которым сеют духовную отраву и собирают звонкую монету банки Уоллстрита, финансирующего Голливуд.
Моральному облику результатов творчества вторил и облик производства и распределения этих «непреходящих ценностей».
При скудости производственных баз нас поражает многоводность этого мутного потока «творений». Но достаточно вспомнить эстетический уровень и производственное совершенство их, чтобы 184 перестать удивляться. Известный анекдот об одном кинодельце, «перехватившем» сюжет у другого, пожалуй, наиболее наглядный ключ к изъяснению всего этого положения.
«Царь Федор Иоаннович» имеет на театре громадный успех5.
Ханжонков хочет проэксплуатировать этот успех на экране.
В крохотном ателье «воздвигнуты чертоги» — «грандиозные» по масштабам того времени боярские и царские хоромы.
На завтра назначены съемки…
И вот — в ночь накануне этих съемок — другой киномагнат, делец Дранков, с целой загримированной нужным образом труппой приезжает в ателье конкурента, подпаивает и подкупает сторожей и… в течение этой ночи (!) в чужих декорациях снимает тот же сюжет.
И по экранам уже катится готовая лента к тому самому моменту, когда инициатор съемок только-только собирается приступить к работе!
Не следует, однако, думать, что все поголовно было в этом роде в кинематографии предоктябрьских лет.
Отдельные, очень редкие попытки подойти к кинематографу серьезнее и глубже делаются уже и тогда. Достаточно вспомнить Протазанова — одного из мастеров старого времени, особенно искренне и творчески глубоко примкнувшего к кинематографии октябрьских лет.
В 1916 году он, наперекор разливанному морю торжествующей пошлости, инсценировкой «Пиковой дамы», представленной на уровне всего тогда культурно доступного, — старается сделать первый поворот к культурному приобщению широкого зрителя к творчеству русских классиков.
В этой же линии — фильм его о личной и социальной трагедии Толстого6, так и не выпущенный в свое время ввиду противодействия царской цензуры.
Но попытки эти единичны и ничтожны на общем фоне, и понятна та часто ироническая, чаще ошибочная и еще чаще близорукая недооценка за видимостью «достижений» кинематографа того времени самих возможностей кинематографии, которую мы часто находим в оценке, критике и осуждении этого «искусства будущего», неузнанного, непризнанного и нераспознанного многими искусствоведами и художественными критиками предоктябрьской поры.
Тем величественнее звучит пророческая оценка будущей социальной роли, социального значения и социальных возможностей, данная кинематографу Лениным еще в 1907 году.
В. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях пишет о том, как в то время в разговоре с ним и А. А. Богдановым Владимир Ильич Ленин проводил мысль о том, «что кино до тех пор, пока оно находится в руках пошлых спекулянтов, приносит больше зла, чем пользы, нередко развращая массы отвратительным содержанием 185 пьес. Но что, конечно, когда массы овладеют кино и когда оно будет в руках настоящих деятелей социалистической культуры, оно явится одним из могущественнейших средств просвещения масс» (В. Д. Бонч-Бруевич, Ленин и кино (по личным воспоминаниям). — «Кинофронт», М., 1937, № 13 – 14, стр. 3 – 4).
А ведь кинематографическое окружение, в обстановке которого были сказаны эти вещие слова, ничем еще не предсказывало той глубины и значительности своего идейного содержания и той высоты и богатства своей культуры, с которыми советский кинематограф приходит к тридцатилетию Советской власти.
С новой силой звучит та же мысль в широко известных словах В. И. Ленина, обращенных в личной беседе его к А. В. Луначарскому: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» («Партия о кино», Госполитиздат, 1939, стр. 32).
* * *
Однако и в почти поголовной предоктябрьской недооценке кинематографии — как одного из важнейших искусств новейшего времени, как крупнейшего фактора духовного прогресса и орудия социального развития масс — предреволюционная русская эстетствующая буржуазная критика перекликается с тем, что продолжал писать и думать буржуазный Запад, прежде чем в его практику бомбой не ворвались первые советские фильмы.
Новое в них понимание искусства кинематографа, растущее из нового понимания его социальных задач, из нового миропонимания и мироощущения, взрывом внедрялось вместе с самими достижениями советского кинематографа в эту область человеческой творческой деятельности, которую — и в отношении буржуазного кино вполне обоснованно — не соглашались до этого считать равноправной в содружестве искусств.
Не говоря уже о том, чтобы допускать мысли о кинематографе как о великом, массовом, удивительном, передовом и первом по значению.
Советские картины, прорвавшие санитарные кордоны изоляции нашей страны, впервые принесли пораженному их появлением миру данные о духовной мощи, величии, героизме, благородстве и высоте морального облика нашей страны, рожденной в горниле революции семнадцатого года.
Появившись на экранах мира, они произвели небывалое впечатление на народы, на лучшие слои передовой интеллигенции и на «предержащие власти» буржуазного окружения молодой Советской страны.
«Власти предержащие» в ужасе бросились нагромождать рогатки цензурного сопротивления появлению на экране этих горевших убежденной страстностью творений, воспевавших приход 186 новой, социалистической эры истории человечества и звавших народы к свержению вековечного ярма эксплуатации.
Сами народы широкими волнами энтузиазма откликнулись на то, что несли эти фильмы, двумя-тремя метрами взволнованного показа истинного облика революционной действительности Советского Союза опрокидывавшие море ядовитой лжи и клеветы, которой потрясенные Октябрем враги прогресса хотели и хотят (и как хотят!) отвлечь народы от их естественного стремления к дружбе и близости с Советским Союзом.
Советское же кино первых лет своего появления на Западе способствовало и тому расколу интеллигенции, лучшая часть которой решительно обернулась лицом своим к СССР и вступила на путь активной и прогрессивной кровной связи, кровного контакта, с годами ставшего боевым содружеством с наиболее передовой страной мира.
Разрывая под нажимом кругов передовой интеллигенции цензурные кордоны и под давлением организованного рабочего движения проникая в страну за страной, дипломатически еще не признававшие Советского Союза, наши фильмы часто бывали первыми полпредами нашей страны — вербуя ей друзей, раскрывая народам глаза на истинный лик Советской страны, мобилизуя общественное мнение в сторону совместных действий с этой страной в борьбе ее за социальную справедливость, прокладывая пути к тому, чтобы в дальнейшем рука об руку с ней бороться с угрозами мировой агрессии.
Художественные образы наших фильмов с самых первых лет были тем рупором, через который воля и дух нашего народа, мудрость и предвидение наших вождей говорили с народами мира, учили их, мобилизовывали.
Разве не показательна в этом смысле та дикая, безудержная борьба против внедрения нашей кинематографии на мировые экраны, которую ведут цензуры всего мира в течение всех десятилетий нашего кино?
И так от самых истоков и начал: разве не вызывает запроса и яростных нападок реакционного крыла английского парламента факт допущения в пределы Великобритании советского режиссера Пудовкина — автора запрещенного «крамольного» фильма «Мать»?
Разве не гремит со скамей реакционного рейхстага в 1926 году такой же взволнованный и возмущенный запрос о недооценке в Германии военно-морской мощи Советского Союза7, внезапно призраком промелькнувшей через кадры трижды запрещенного и трижды разбивавшего оковы германской цензуры «Потемкина»?!
Двадцать шестой год; тридцать девятый; годы войны; послевоенные годы…
187 Традиция непрерывная, боевая, непрекращающаяся и неувядающая, традиция, неразрывно навсегда спаявшая дело революции и строительства коммунистического общества с воплощением этого дела через образы наиболее важного из искусств.
* * *
Но наравне с этой задачей идейного покорения, неустанного призыва народов к борьбе и приобщения их к опыту этой борьбы в живых ли образах трилогии о Максиме, в суровых ли кадрах «Великого гражданина», в классических ли фильмах о Ленине в Октябре и Ленине в восемнадцатом году или захватывающих кадрах «Чапаева» и «Щорса» наше кино — и тоже с первых же своих шагов — становится не только ратоборцем за признание кинематографа искусством, но сразу же становится во главу угла этого искусства, впервые внося в кино подлинную культуру, не только идею и тему, не только произведение, но и метод; не только практику, но и первые шаги теории; не только образотворчество, но и неустанное стремление научного раскрытия основ кинематографа.
Овладевая методом марксизма-ленинизма, киномастера все глубже стараются проникнуть в проблемы сущности своего искусства и на этом пути прокладывают первые вехи кинопоэтики и киноэстетики.
И первые же теоретические работы вслед собственным творческим достижениям уже являют стройную систему взглядов на принципы киноискусства, стяжая и на этом пути советской кинематографии всеобщее признание и поклонение.
И уже с конца двадцатых годов и на этом поприще наше киноискусство осуществляет мечту Белинского, который перед духовным своим взором рисовал родину, «стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».
И не удивительно, что именно в нашей стране и только в нашей стране — и как раз в знаменательный отрезок времени между юбилеем восьмисотлетия Москвы и тридцатилетия Октября — впервые в мире Академия наук — Академия наук СССР — учреждает в недрах своих сектор по изучению истории кино, отдавая этим как бы дань окончательного признания кинематографу как великому явлению культуры, лишь в достижениях советского киноискусства до конца заслужившему подобное признание.
Сейчас мы привыкли из года в год видеть наши кинопроизведения увенчанными лаврами побед на международных фестивалях.
Венеция 1947 года… Венеция и Канны сорок шестого… Москва 1935 года… Венеция 1934…
188 Мы уже привыкли к тому, что третьего дня приз был за «Чапаевым», что вчера за «Каменным цветком». Что один год в международные лауреаты выходит «Радуга», что в лучшие актрисы выходит Любовь Орлова, что приз за лучшее режиссерское достижение выпадает на долю Михаила Ромма за «Человека № 217», что в первые сценаристы зачисляется Чирсков за «Великий перелом», что лавры увенчивают «Парад молодости» Юткевича.
Сейчас мы это воспринимаем как должное. Нас в лучшем случае интересует вопрос: сколько первых мест? Сколько всего? Семь или пять? Кто впереди? Кто за что?
Имея по тем же картинам гораздо более высокую оценку наших советских премий, нас уже не поражает мировое признание наших творений.
Да и к этому типу международных признаний путем присуждения дипломов и медалей наши кинематографисты приучены издавна; и опять-таки — с самых первых шагов становления нашего кино. Разве не лежат где-то в наших личных архивах дипломы двадцатитрехлетней давности — с Парижской выставки 1925 года — большая золотая медаль за мою «Стачку», серебряная за фильмы Вертова и другие за картины 1924 года. А ведь это как раз еще те самые годы, когда на месте нынешней студии «Мосфильм», лежащей рядом с Ленинскими горами, которые вот-вот врастут в небо московскими небоскребами, — раскинулись одни необозримые пустыри Потылихи8, заросшие бурьяном!
Те годы, когда только-только, всего за несколько лет до этого, Советская власть изъяла из частновладельческих рук кинематографическое дело Российского государства, ставшего первым в мире государством Советским.
Раздробленная кустарщина как пережиток мелкого частного кинохозяйничанья там, где только начинало зарождаться мощное обобществленное социалистическое хозяйствование, еще давала себя знать везде и всюду. Годы разрухи еще глазели в разбитые стекла заносившихся снегом ателье.
Уродливые наросты пережиточного частного владельчества, вползавшего в эпоху нэпа, старались пролезть в любую щель уже не хозяйственным или производственным саботажем, но саботажем идеологическим, — в обход новых идей, в протаскиванье изжившей себя пошлятины отжившего прошлого…
Низкопробность пленки… Ограниченность техники осветительной и съемочной…
А у пришедших в кинематограф новых хозяев — никаких пока новых традиций иного подхода к искусству кинематографа, кроме жгучей ненависти к опрокинутому; кроме непримиримой враждебности к сметенному и сметаемому; кроме пламенного ощущения неприемлемости близлежащего кинематографического «прошлого» — в своей тлетворности категорически непригодного для 189 выражения новых мыслей, новых идей, новых чувств, новых слов новой эры.
Так как же, чем же, через что нашла в себе наша кинематография первых лет такую неуемную мощь, такие небывалые силы, такие необыкновенные средства выражения, что, выйдя из этих полуразбитых киноконур, недостойных названия киноателье; из этих клоак, еще не похожих на кинолаборатории; из рук этих молодых энтузиастов, еще не заслуживших обязывающих наименований кинорежиссеров, — первые же наши кинофильмы сумели противопоставить буржуазному киномиру Европы и Америки такой же новый мир кинотворений и киновоззрений, как сама Страна Советов, только что выходящая из гражданской войны, этапа разрухи и интервенций, сумела противопоставить себя миру рабства, угнетения и эксплуатации?
Где была первейшая основа этого чуда?
Где были те стимулы и силы, которые слагались в эту всесокрушающую энергию, которые обусловили этот гигантский небывалый взрыв совершенно новой культуры, которая как бы внезапно, во весь рост и сразу же взрослой, ведущей и передовой возникала из этого кажущегося материального и производственного «ничто», если сравнить его с гигантами студий Нейбабельсберга, Темпельгофа и Штаакена в Берлине, с «Метро Голдвин-Мейер» или «Парамаунтами» Голливуда?
* * *
Небывалый мир идей, небывалый поток новых задач, небывалое нагромождение требований на образное переложение составных частей единой программы по социалистическому пересозданию шестой части земного шара — вот то основное и главное, что определило собой необыкновенное своеобразие нашего кинематографа с первых же его шагов.
Средства выражения, поиски соответствующего языка, необходимость внедряться в самую сущность строения кинообраза — вот что оказалось необходимым для разрешения этих проблем, никогда прежде не стоявших с такой отчетливостью, с таким сознательным прицелом перед искусством кинематографа, никогда не знавшего ни столь новых, ни столь величественных, ни столь трудных задач.
И в одолении этих-то задач выковывалось неповторимое стилистическое своеобразие нашей кинокультуры, не похожей ни на одну из прежних кинематографий, как та философия, которую они несли, не была похожа ни на одну из прежних; как та идеология, которой они горели, не походила ни на одну из прежних — ибо ни на одно из прежних государств ни формой своей, ни содержанием не походило породившее наш кинематограф социалистическое Советское государство.
190 Отражая себя в творениях своей страны, небывалый по содержанию и по форме социальный строй этой страны не мог не породить и равно небывалых как по содержанию, так и по форме кинопроизведений.
Но целиком ли из предыдущего «небытия» — внезапной Минервой из голов молодых кинематографистов — родилось наше беспрецедентное кино?
Мы сказали выше, что к моменту прихода молодых кинодеятелей и кинотворцов на арену единоборства с теми, кто продолжал линию кинематографии класса, Октябрем «разбитого вдребезги», — это новое поколение кинематографистов, горевших непримиримой враждой к буржуазно-старому, было технически и кинематографически-образно безоружно, имея перед собой в качестве кинотрадиций лишь то, что они начисто сметали и отрицали.
Но значит ли это, что помимо пламенности новых идей, ищущих своего образного претворения в кино, они вместе с тем выступали лишенными какой бы то ни было культурной традиции?
Кинематографистской — да!
Но зато выступали они во всеоружии другой величайшей мировой культурной традиции — традиции русской национальной культуры и культуры братских народов, слившихся в единый Советский Союз.
Значение этого второго фактора в создании своеобразия не только идейного содержания, но и образного облика нашего великого искусства до сих пор еще не получило своей полноценной и исчерпывающей оценки.
А между тем именно в ней, в великой оплодотворяющей роли традиции русской культуры, неразрывной с великими идеями большевизма и победой Октября, лежат те мощные корни, которые так головокружительно быстро и стремительно вознесли советскую кинематографию за какие-нибудь два-три года [ее] существования на роль ведущей кинематографии мирового значения.
В этом мы вековечно неоплатные должники перед своим народом, на протяжении веков из недр своих творившим и порождавшим те великие достижения в ценности культуры, которые в наш век призвано возглавить искусство советского кинематографа как наиболее способного из искусств для воплощения величия современности.
Великие традиции этой русской культуры и в целом и в частностях в течение столетий растили и готовили те общие принципы, те ведущие тенденции, которые к нашему времени так органически вылились и вросли в собственную нашу кинематографию, так отчетливо в ней воплотились, так многогранно через нее выразились.
Ведь совершенно так же веками двигалась культура все усложняющейся общественной и политической мысли именно этой страны 191 и этого народа, с тем чтобы именно российский рабочий класс в союзе с революционным крестьянством и революционно-демократической интеллигенцией первый в мире органически врастал в самую передовую общественную и революционную идеологию — идеологию большевизма, и именно ее брал за программу неуклонной теоретической и практической революционной деятельности и построения бесклассового общества.
В союзе с многонациональными культурами нашего обширного государства наша страна добивается того великого духовного руководящего положения, которое мы видим сейчас.
И это снова как бы отражение в области культуры того общественно-исторического прогресса, в котором на долю русского народа выпадает роль объединения всех национальностей, входящих в Советский Союз; роль первого из равных, ведущего их к коммунизму.
Но, являясь вместе с этим наследницей всего лучшего, что в разные времена создавало человечество, наша эпоха и в выработке принципов своей кинокультуры, конечно, не брезгует ничем из сокровищницы культуры, собранной тысячелетиями человеческих трудов.
В порядке выработки, отточки и обогащения своих принципов наше кино могло и может привлекать из этих арсеналов прошлого все то, что в известный момент способно ему служить.
Будет ли это трагедийное величие образов Шекспира или сарказм Свифта; умение воссоздавать характер и эпоху в мастерстве Бальзака; чувственная многокрасочность искусства Востока; Сервантес и Гомер, Рембрандт и Микеланджело — все в нужный момент к услугам той плеяды киномастеров, которым приходилось биться за выработку своеобразия советского кино. Каждый в какой-то момент мог своим опытом помочь разбору или освоению какой-то частности среди проблем, стоявших в разработке драматургии, живописания характеров; в выработке пластического облика изображения или музыкального строя кинофильма.
Но весь этот вклад был неизбежно лишь расширением, лишь добавлением, лишь амплификацией по сугубо особым проблемам того основного питания и предрешения, которое принесло и приносило им неисчерпаемое богатство фондов собственного нашего русского культурного наследства и искусства.
Образы его, тенденции его, специфика его впитывались вместе с молоком матери теми будущими мастерами, которым к восемнадцати — двадцати — тридцати годам положено было в ногу с раскатами Октября штурмовать твердыни прошлого, возводя на них творения настоящего, перерастающего в предвидение будущего.
И мировую культуру они воспринимали, познавали и в нужный момент втягивали в необходимый для себя опыт через все
192 Исходная страница повреждена
193 Взглянем хотя бы на древнейший памятник нашей национальной литературной гордости — «Слово о полку Игореве».
Есть ли это просто печальное сказание о русском князе, плененном противниками русской земли?
Есть ли это просто повод для лирического излияния по-своему бессмертного плача Ярославны в далеком Путивле?
А может быть, анонимный автор задавался единственной целью обрушить на зачарованного слушателя воистину превосходные картины Игорева похода; воистину мало кем превзойденный сказ в описании природы, так поразительно вторящей судьбам героя?
Нет. Нет. И еще раз нет.
Еще Маркс писал об этом творении русского народного гения, что «смысл поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов» [К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 1 изд., т. XXII, стр. 122].
И с неослабевающей страстностью до сих пор звучит патетическое «золотое слово» Святослава, обращенное к русским князьям, объединиться в борьбе «за землю Русскую», лирическое упоминание о которой трижды рефреном прерывает его слова, как само это слово врезается в самую сердцевину поэмы, поэтические красоты которой кажутся лишь драгоценной оправой для драгоценнейшего зерна этой основной мысли всего творения.
Так уже XII век несет нам первый образец пламенного политического призыва, облекающего свою высокую идейность в сверкающее великолепие поэтического творения.
И не таков ли путь всей нашей русской литературы, произведения которой всегда в наивысших образцах своих неразрывно — поэма и призыв; пламенная страстность «золотого слова» общественно ценного поучения, неотрывного от совершенства художественных достоинств?
Радищев и Пушкин; «учительство» Гоголя и колоссальное значение, которое он придает «гражданственности» обязанностей писателя; Некрасов — Чернышевский — Герцен, вне общественного служения не мыслящие литературы.
И как бы связывая эпоху предоктябрьскую с эпохой Октября, высятся гиганты Горький и Маяковский, «учительство» которых уже непреложно в русле самой передовой идейности, самой насущной политической направленности, самой последовательной большевистской революционности.
И лозунги партийности литературы и искусства звучат не как нечто со стороны внесенное в нашу культуру, но как наиболее совершенное выражение для наиболее глубокого и совершенного выражения центральной устремленности всей нашей культуры через все века ее становления и бытия.
И разве не в этих же чертах — чертах безоговорочного служения новым идеям, идеям Октября, идеям большевизма — мы 194 усмотрели и определили начала своеобразия и зарождения подлинного советского киноискусства?
Не эта ли черта учительства и несения великих лозунгов Октября породила советское кино; создала его поэтическое богатство; придала ему — молодому — те черты несравненности, которым никогда бы не зародиться в обстановке маразма и тления буржуазного Запада?
И не этим ли советская кинематография продлевает все самое величественное из традиций российской культуры?
Однако не только неизменное наличие идейности объединяет в единую неразрывную цепь творения предыдущей российской культуры (мы коснулись здесь только литературы, но тенденции эти неразрывны и с живописью и музыкой, со скульптурой и образностью нашей архитектуры) от самых ранних дней до эры кинематографа.
Неразрывной делает эту цепь и та сквозная тема содержания этой идейности, которая пронизывает ее от истоков и начал к вершинам и наивысшему расцвету.
Это идея о национальном самосознании нашего народа.
От пафоса былин и «золотого слова» Святослава до пламенных строк «О национальной гордости великороссов» Ленина; через лозунг XVI века о Московском государстве: «Два Рима пали, а третий стоит. И четвертому не быть»; и [через] тревожные думы о будущих судьбах России, пронизывающие страницы «Мертвых душ», — к необъятным просторам показа героики русского народа в «Войне и мире» и дальше к эпопеям Горького, к «Железному потоку», к «Тихому Дону», к «Хождениям по мукам» — все крупнейшие наши творения прежде всего полны этой великой мыслью.
И потому так дорог нашей традиции эпос, как никакая иная литературная форма способный развернуть богатство и многообразие русской жизни, в котором чает и жаждет воплотить себя в неотрывности от просторов своей родины наш русский народ.
И разве не с эпических полотен начинается наша кинематография?
Разве не разворотом все усложняющейся эпической формы, вбирающей в себя все новые и новые темы и проблемы, все новые и новые задачи выразительного показа, отмечаются поворотные и взлетные моменты истории нашего кино — эпического, как ни одна из кинематографий мира, — равно творящего эпос революционного прошлого («Броненосец “Потемкин”», «Мать», эпическая трилогия о Максиме), историю гражданской войны («Чапаев», «Щорс», «Мы из Кронштадта»), далекую древность («Александр Невский», «Иван Грозный», «Минин и Пожарский»), историю более близкую («Петр I», «Суворов», «Кутузов»), историю высших точек напряжения революционной борьбы («Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек с ружьем», «Великий гражданин») и, 195 наконец, историю новейшую — открывающую «Клятвой» движение таких фильмов об Отечественной войне, как «Молодая гвардия», «Сталинградская битва», «Третий удар».
И разве непрестанным биением через все их многообразие не клокочет все та же мысль о величии и героике, национальном самосознании и многонациональном единстве нашей страны и государства, чем дышит наша классика прошлого, врастая в классику настоящего и будущего?
* * *
Но из этих же недр традиций российской культуры растет и наиболее плодотворный образ осознания киноискусства как искусства прежде всего синтетического.
Ни одна кинематография так последовательно [это] не возглашала, так принципиально не стремилась к тому, чтобы сделать это явью, чтобы воплотить этот лозунг в своем творении.
Если решающим стимулом к отчеканке подобной концепции был прообраз социалистического, многонационального государства, где наравне с классовым угнетением навсегда было уничтожено и национальное порабощение; и если сама идея содружества искусств в едином синтезе кажется прямым отражением и сколком с этого прообраза, то одновременно эта же мысль питается еще и поразительным своеобразием, которое в известные эпохи так близко роднит между собой по духу самые различные области нашего русского искусства.
В чем тайна того поразительного соответствия искусства красок, музыки и литературы, которого в наивысшей степени достигает триада Чехов — Левитан — Чайковский?
Триада, поселяющая в душе художника непосредственное предощущение возможностей полнейшего слияния между музыкой, поэзией и живописью — задолго до того, как до этого дорастает ищущая мысль и на это отваживается рука творца, вооруженного средствами кинематографа, единственно способного возвести в «перл создания» то, что еще пытался осуществлять российский чародей Скрябин, создавая цветовую палитру в тон музыкальной?
Но тайна эта раскрывается сама собой, когда мы вспоминаем, что это соответствие не случайно, ибо один творец в красках, другой в звуках оркестра, а третий в окрыленном слове не ищут соответствия друг другу, но каждый в отдельности средствами своей области старается выразить и петь о том, что социально волнует всех, — и, воспевая его, не может образно не слиться в единстве с другими — поющими о том же по своим областям.
Ибо живопись ли или литература; литература ли или музыка, если они действительно талантливы, то они не могут быть в отрыве 196 от комплекса идей своего времени; если они гениальны, они не могут не воплощать этих идей; если они подлинно русские, то они не могут самозабвенно не служить наиболее передовым из них.
Так общественно-политическое своеобразие черт русской культуры определяет собой и центральные вопросы художественно-эстетических проблем, достигающих предельного выражения в методике русских искусств к моменту прихода эры советского кинематографа.
Но не менее остро, живительно и оплодотворяюще действуют на наше кино творения классиков русской культуры и по всем и всяческим частям и частностям специальных вопросов, входящих в круг художественных проблем нашего кинематографа.
О средствах монтажной и пластической выразительности Пушкина и о значении этого лаконичнейшего мастера слова для кинокультуры можно было бы писать диссертации.
Об оптическом своеобразии и образности гоголевского описательного «кадра» можно написать не меньше, чем об его подлинно кинематографическом обращении с цветом.
Уроки Льва Толстого по линии переложения чувств и мыслей персонажа в детали поступка, а сами эти детали поступка — в детали его описания останутся навсегда неисчерпаемыми.
Драматическая напряженность ситуации у Достоевского пока остается непревзойденной по своему сценарному захвату, как непревзойденным остается умение Чехова создавать эмоционально насыщенный лиризм атмосферы отдельных сцен.
Мастер исторического фильма не сумеет пройти мимо Сурикова.
Мастер психологически-игрового — мимо опыта Репина.
Мастер углубленной характеристики кинопортрета — мимо мастерства Серова.
А великая традиция мастерства Мусоргского остается путеводной для образного драматизма киномузыки, в творениях Сергея Прокофьева нашедшей такое великое совершенство.
Изучение ритмической ткани Маяковского обогатит не одно поколение подрастающих кинематографистов.
А Горький навсегда останется академией мастерства реалистического показа реальной жизни и реального человека.
Но не будем разбегаться и растекаться по частностям и подробностям — это материал для многотомных исследований значения и роли многообразия наследия русской культуры в становлении самостоятельной стилистики и стиля советского кино.
Обратимся лучше к тому, чтобы проследить, какими разрастающимися циклами, развиваясь, идет, продлеваясь за тридцатилетие, сам этот наследник и любимое детище российской культуры — советский кинематограф.
Охватывая сейчас единым взором все то многообразие кинематографических произведений, которыми так богаты эти тридцать 197 лет, уже возможно обнаружить какие-то основы динамики его развития, какие-то общие черты этого развития, какой-то круг тенденций, которые, постепенно расширяясь, все более полно и глубоко захватывают все более широкие и обширные ряды его творений.
Сейчас, разглядывая это прошлое с позиций достигнутого, кажущаяся иногда случайность и неожиданность отдельных киноявлений складывается в стройную картину общего сотрудничества всех работавших и работающих в кинематографе, объединенными усилиями ведущих его к совершенно отчетливому и определенному конечному своеобразию.
* * *
На протяжении этих тридцати лет советская кинематография продлевает еще одну великую традицию русской культуры: то единство, которое пронизывает ее основные тенденции от самых древних лет к прекрасному нашему настоящему, как мы попробовали это охарактеризовать выше.
Эту традицию продолжает и советское кино.
И оно рисуется нашему глазу не только несравненным и единственным, но еще поразительно единым.
И чем многообразнее его стилистическое и жанровое разнообразие на протяжении этих лет, тем более органически единым оно нам рисуется.
Единым прежде всего по сквозной своей устремленности служить своему народу.
Единым по принципиальной своей последовательности на этом пути.
Единым, ибо в неразрывном единстве в судьбах своих с нашей страной, партией и народом.
И не о частном многообразии, но об этом единстве нашей славной советской кинематографии и о чертах этого единства хочется писать в дни празднования ее тридцатилетней годовщины.
198 ЕДИНАЯ
(Мысли
об истории советской кинематографии)*
Она мне рисуется не только единственной, но поразительно единой.
И чем многообразнее ее стилистическое и жанровое разнообразие на протяжении этих лет, тем более органически единой она мне рисуется.
Единой прежде всего по сквозной устремленности служить своему народу.
Единой по принципиальной своей последовательности на этом пути.
Единой, ибо неразрывно едины ее судьбы с нашей страной, партией и народом.
И не описывать ее частное многообразие, но поделиться мыслями об этом единстве нашей славной советской кинематографии и о чертах этого единства хочется в дни празднования тридцатилетней годовщины победоносной Октябрьской революции.
* * *
Оглядываясь на прошлое с позиций достигнутого, охватывая с высоты достигнутого все многообразие кинематографических произведений, уже возможно обнаружить основы динамики развития советского кино, общие черты этого развития, круг тенденций, которые, постепенно расширяясь, все более полно и глубоко захватывают все более широкие и обширные ряды его творений.
Сейчас кажущаяся иногда случайность и неожиданность отдельных киноявлений складывается в стройную картину общего сотрудничества всех работавших и работающих в кинематографе, 199 объединенными усилиями ведущих его к совершенно отчетливому и определенному конечному своеобразию.
Путь этот — путь неуклонного приближения советского кинематографа к последовательному и полноценному социалистическому реализму.
Это был нелегкий дуть. Не плавный, часто непоследовательный у отдельных мастеров.
И очень горячий и страстный в борьбе отдельных начинаний и принципиальных установок и точек зрения на то, каким же должен быть реалистический образ и облик советского фильма.
Характер борьбы был двоякий.
Неумолимый и беспощадный в отношении всего пережиточного и чуждого. Пережиточным было дореволюционно-буржуазное. Чуждым — буржуазно-зарубежное, своим влиянием старавшееся стать поперек пути становления советски самобытного.
В этой борьбе крепло и занимало ведущее положение молодое поколение кинематографистов Октября.
И рядом шла борьба не менее страстная и горячая, но борьба иного характера и аспекта. Борьба не только с чужаками, но борьба между своими — высокопринципиальная борьба за чистоту метода, за правильность принципов, за недопустимость заскоков в формализм или скатывания в беспринципность натурализма, за высокую идейность прежде всего, за неотрывную от нее правдивость, за взаимное принципиальное совершенствование, за здоровую органичность и бескомпромиссную идейную принципиальность своей, всем одинаково дорогой советской кинематографии.
Начиная с вещих слов Ленина, партия неуклонно следит на протяжении прошедших десятилетий за выработкой все более и более четкой линии приближения кинематографа к осуществлению своих великих задач.
Здесь и программные указания;
и суровое осуждение ошибок;
похвала и дружеское поощрение;
подробно разработанная система конкретных указаний по всем областям: от тончайшего идеологического анализа до хозяйственных мероприятий, от точнейшего разбора источников заблуждений до широчайших перспектив развития в целом.
Целый ряд законодательных мероприятий и развернутых постановлений, вновь и вновь указующих путь, по которому надлежит развиваться и двигаться вперед нашему киноискусству, приближаясь к его основной, главной и единственной цели — еще более полно, еще более последовательно, еще более самоотверженно служить нашему народу, — быть еще более массовым, еще более идейно глубоким, еще более правдивым, еще более художественно совершенным, еще более сокрушительным оружием в деле политической борьбы.
200 Ленин писал о задачах, стоявших перед рабочим классом, взявшим в свои руки государственную власть, о боевой задаче партии большевиков, которая вела и ведет рабочий класс от победы к победе: «Побороть все сопротивление капиталистов, не только военное и политическое, но и идейное, самое глубокое и самое мощное»1.
Под знаменем этих ленинских слов прошло первое крупнейшее государственное мероприятие по кинематографу в нашей стране — национализация кинодела2, сделавшая наш народ хозяином этого величайшего орудия идейной борьбы (27 августа 1919 года).
Под этим знаком движется и продолжает двигаться наше кино.
Под этим знаком оно растет и развивается.
Переход от социализма к коммунизму еще более необъятно расширяет круг тех боевых задач, которые стоят перед нашей кинематографией.
Но наше кино безбоязненно смотрит вперед.
Ему не приходится робеть перед этими новыми боевыми задачами.
Твердая опора мудрости партии ему обеспечена.
Гигантский коллективный опыт проделанной за эти годы работы в его распоряжении.
И общий путь его движения и развития — отражая исторический путь движения страны в целом — неуклонно шел в верном направлении.
Мы уже видим, что путь этот рисуется при всем стилистическом и жанровом многообразии единым коллективным путем, неуклонно шедшим к тому, что на сегодня всем духовным обликом устремлений нашей кинематографии сверкает с боевых наших знамен.
Какой же рисуется картина этого общего движения?
Каков же абрис принципиально достигнутого к тридцатой годовщине Октября?
Конечно, можно было бы пойти по линии простого перечисления кинофильмов, разгруппировав их по жанрам — историческому, историко-революционному, приключенческому, комедийному, детскому, документальному.
Или по тематике — колхозной, индустриальной, комсомольской.
Наконец, просто календарно — по датам выхода таких-то и таких-то фильмов.
И затопить эти страницы бесчисленным перечислением названий картин, имен их авторов, дат появления фильмов на экранах.
Даже такой перечень дал бы представление о том, как широко, полно и многообразно отображала тематика нашего кино то, чем жила наша страна в течение этих тридцати лет.
201 Мы попробуем сделать иное.
Попробуем набросать картину того, как принципы отдельных направлений, разработка отдельных жанров, взгляды отдельных творческих личностей в связи с развитием нашей страны при неустанном руководстве со стороны партии и правительства слагались в то общее целое советской кинематографии, с чем пришли мы к юбилейной октябрьской дате.
Я думаю, что основой достигнутого нашим кинематографом в тематическом и стилистическом, в идейном и художественном отношениях можно назвать глубокое ощущение всякого мгновения нашего повседневного активного бытия как факта величайшего исторического значения — становления коммунизма в нашей стране и коммунистического будущего освобожденного человечества, авангардом которого является Советский Союз.
В таком осознании всемирно-исторической миссии нашей страны — в русской культуре, идущей из самой глубины веков, и в значении Москвы, уже в XVI веке видевшей великую международную роль и задачу Российского государства, а сегодня гремящей перед всем миром в выступлениях Советской делегации с трибуны Организации Объединенных Наций, — как бы «снято» представление о том, что история есть что-то свершавшееся когда-то прежде, а сегодняшний день — это нечто лишь питающееся достигнутым в прошлом и в свою очередь становящееся своими достижениями питательной средой для некоего смутно рисующегося будущего.
Ощущение всемирно-исторического значения советской созидательной и творческой ежедневности и есть то основное и главное, что чувствуется с особой отчетливостью за жанровым и тематическим многообразием произведений, замышляемых, планируемых и осуществляемых в советском кинематографе.
История в наших кинофильмах никогда не была археологическим кладбищем, она кровными узами связана с сегодняшним днем.
Современность никогда не оказывалась нагромождением бытовых мелочей, но всегда была полна ощущением значительности социалистической действительности, из которой выхвачен камерой данный единичный факт бытия.
И если с этих позиций мы взглянем на путь, пройденный нашей кинематографией, то увидим в ней как бы три основных мощных потока, устремляющихся к слиянию в новаторских попытках последних достижений и в еще более смелых планах на будущее, которые рисуются творческому воображению из основ уже достигнутого.
Первый поток — это отображение современности.
На первых порах он реализуется в формах документально-хроникальных. В этом он следует прямым указаниям В. И. Ленина, 202 данным А. В. Луначарскому в 1922 году, о том, что «производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, отражающими советскую действительность, надо начинать с хроники» (сб. «Партия и кино», Госполитиздат, М., 1939).
Затем этот поток перерастает в кинематограф современной тематики. Появляются художественные фильмы, в которых в конкретно-бытовом плане действуют реальные наши люди, показанные за выполнением повседневного дела.
Второй поток — это поток историко-революционной темы, принесший нашей кинематографии на заре ее самостоятельного становления первые крупные достижения и первую славу. В дальнейшем он перерастает в тематику историко-партийную.
И наконец, третий поток — собственно исторических фильмов.
Каждый из этих потоков в известные моменты развития нашего кинематографа выносится на гребень общей волны, чтобы на новом этапе в перипетиях жанрового становления уступить ведущее место другому — вплоть до того момента, когда на наших глазах уже четко обрисовываются контуры их синтетического слияния в картинах нового типа, путь которым прокладывают «Клятва» М. Чиаурели, «Сталинградская битва» В. Петрова и «Молодая гвардия» С. Герасимова.
Здесь уже по самому типу и строю картин современность — одновременно история, история — современность, и то и другое — историко-революционная тема.
Примечательно, что эти высшие на сегодня устремления стилистического развития нашего кинематографа перекликаются с его первыми самостоятельными шагами. У колыбели его в числе первых достижений мы видим еще разобщенными предельно четкое отображение современности в хрониках «документалистов» и рядом историко-революционную тему — в общих ее аспектах: эпическо-массовом в «Броненосце “Потемкин”» и индивидуально-драматическом в «Матери» Горького — Зархи — Пудовкина.
Каждый из этих жанровых потоков современности, историко-революционной темы и исторического жанра в разные моменты идут равноправно рядом или сменяют друг друга в своем стилистически ведущем положении не в порядке «поисков разнообразия» или с целью сменить «приевшиеся» на экране ватник и полушубок гражданской войны на бархат и парчу исторического фильма, а латы и камзол исторического фильма — на штык, патронташ и партизанскую бороду военной картины.
Так поступают «голливуды», цель которых — выжать из раз понравившегося фильма все кассово возможное, а затем переброситься во что-то резко непохожее, способное создать новую моду, новую сенсацию.
Там, за океаном, ковбойская шляпа уступает место пудреным парикам, парики — римским тогам или завиткам ассирийских 203 бород, тоги — дрессированным львам; львы — сутанам лирически трактуемых католических патеров, а сутаны — фракам, снятым в манере выцветших дагерротипов — с единственной целью «разнообразить ассортимент».
Совсем иное у нас.
Приход исторической, например, темы в наше кино целиком вдохновлен великими принципами пересмотра отношения к нашему прошлому, к истории нашего народа, принципами, запечатленными в партийных решениях, касающихся отечественной истории.
Дух исторической конкретности, неотрывный от пафоса; живую правдивость воссозданных на экране образов деятелей прошлого взамен исторических схем и абстракций; пересмотр неверных концепций исторических эпох — вот что в ответ на эти указания несла наша кинематография.
Партия призывает ко все углубляющемуся познанию и изучению ленинизма. И советское кино принимает на себя грандиозную задачу экранного воплощения образа Ленина.
Глубоко вдохновляющий и поучительный показ на экране образа Ленина — в прекрасном исполнении Щукина и Штрауха в картинах Ромма и Юткевича — отмечает собой новый этап конкретизации и углубления темы партийности. Эта тема развивается в сторону экранного раскрытия исторической роли вождей партии на подступах к Октябрю, в Октябре, в ближайшие послеоктябрьские годы, в годы пятилеток, годы войны, годы послевоенного строительства.
Прямым продолжением этой тенденции являются картины на темы войны, где, наперекор прежним художественным традициям, — обобщенные образы «группы молодежи», гибнущей в борьбе против интервентов; «генералов», вообще решающих стратегические планы, или некоего города, обороняющегося от врагов, — становятся конкретным городом Сталинградом — и вместе с тем собирательным образом всех городов-героев; конкретной группой молодежи — краснодонцами, известными нам своими обликами, именами, фамилиями родителей и ставшими собирательным образом всей советской молодежи в борьбе с немецкой агрессией, а образы «типичных» генералов в «типичных боевых ситуациях» вырастают в новейшей киноэстетике в кинопортреты конкретных водителей наших победоносных армий в правдиво воссозданной боевой обстановке.
Путь, пройденный кинематографией, рисуется как путь освоения и осознания всех возможностей киноискусства, как путь выковывания опыта и тех выразительных средств, без полного владения которыми невозможно осуществление этих гигантских задач. Являя на каждом этапе своего становления образный ответ на жгучие запросы, волновавшие советского зрителя, наше кино одновременно готовило опыт и знания для решения этих задач 204 будущего, которые сейчас уже стали задачами сегодняшнего дня и блестяще разрешаются на наших глазах.
Вглядываясь в уже созданные киноэпопеи этого нового типа, вчитываясь в новые сценарии, всматриваясь в отдельные ходы осуществления их замысла — то пластически разрешающего съемки в «манере хроники» или сплетая игровые куски с хроникой, то врезая подлинный документ или вводя вымышленный персонаж, то останавливаясь на остроигровом эпизоде или на портретной зарисовке подлинного персонажа, то погружаясь в необъятную ширь эпического разворота, — везде прощупываешь корни стилистических и жанровых особенностей отдельных этапов, отдельных картин, отдельных манер на протяжении всех этих лет становления нашего кино.
Каждой частности, каждому приему, вплетающемуся в разрешение этих грандиозных задач, соответствует свой участок когда-то накапливавшегося опыта, когда-то ставившегося и разрешавшегося эксперимента.
Для разрешения подобной задачи требовался опыт умелого показа революционной борьбы — и часть картин, идя навстречу непосредственной потребности увидеть на экране революцию в действии, откладывала черты подобного умения подобного показа в общую сокровищницу кинокультуры.
Требовался опыт показа большевика в обстановке подполья, в гражданской войне, в колхозном строительстве, в борьбе за встречный план, в непримиримости борьбы против посягающих на единство партии — и на экране появляются образы «поколения победителей», Максим и Шахов, Фурманов в «Чапаеве» братьев Васильевых, герои — «Мы из Кронштадта» и герои «Встречного», начполитотдела из «Крестьян», незабываемый образ [созданный] Марецкой в «Члене правительства».
Нужно было решить проблему показа военного стратега в действии — и опыт истории развернул перед нами это умение у гениальных полководцев прошлого Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Петра I, Суворова, Кутузова.
Но в этих же фильмах выковывалось и вырабатывалось еще и важнейшее — осваивалось ощущение исторической значимости событий. Воспитывалось умение передавать дух времени, дух истории, ощущение исторической обобщенности. Нужно было научиться показывать массовое движение, массы в борьбе дореволюционной, массы в гражданской войне, массы в подъеме строительства, с тем чтобы приблизиться к умению показать героизм наших войск, спасающих мир от фашистской чумы, как дважды спасали Европу их предки от полчищ Батыя и Бонапарта.
И кино шаг за шагом отражает каждый возможный аспект деятельности масс по любому участку активности, творя для каждой 205 из них фильм и собирая опыт для обширного синтезирующего показа действия масс.
Масс неоднородных, масс многообразных, многонациональных, братски объединенных единым порывом, единой программой, единым коммунистическим будущим.
Не менее обострено внимание кинематографии и к биографии отдельной личности, не только типической, но и биографически конкретной. Так возникают фильмы о Горьком Донского, фильм о Тимирязеве в образе профессора Полежаева Зархи и Хейфица, «Чкалов» Калатозова.
Нужно было постигнуть тайну создания живых характеров на экране, с тем чтобы не человеческие схемы двигались по экрану современно-исторического фильма, — и на известном этапе наше кино глубоко внедряется в инсценировку классики, осваивая опыт того, как гиганты прошлого Горький и Островский, Толстой и Чехов создавали образ живого человека.
По экрану прошли из рук Петрова, Рошаля и Протазанова дорогие нам по литературе живые и родные образы «Грозы», «Петербургской ночи», «Бесприданницы».
Антифашистская тема запечатляется в «Болотных солдатах», «Профессоре Мамлоке», «Семье Оппенгейм», антифашистско-военная — в «Она защищает родину», «Секретаре райкома», «Зое».
Со скольких сторон, с каких только позиций не приближается экран к тому, чтобы научиться ухватить, запечатлевать и представлять в живых образах самое неуловимое — современность.
От решения проблемы «в лоб» средствами чистого документализма, к глубокому художественному раскрытию действительности в сугубо бытово разрешенных фильмах («Ухабы» А. Роома, «Летчики» и «Поднятая целина» Ю. Райзмана, «Учитель» С. Герасимова, «Во имя жизни» Хейфица и Зархи).
От попыток приблизить современность через музыкальную лирику и юмор (Г. Александров и вслед за ним И. Пырьев) вплоть до попыток применить к этому показу облагороженные формы приключенческо-сюжетного строя («Подвиг разведчика» Б. Барнета).
Рядом идет освоение современности методом лирического пафоса и строя подчас поэтически условного письма (А. Довженко).
И неустанно из года в год продолжается упорная работа по созданию собственного кинематографического языка, собственной кинематографической словесности и поэтики, по совершенствованию средств выразительности, но не под знаком «искусства для искусства» или «искусства как самоцели», а в интересах все более мощного идейного и эмоционального воздействия наших фильмов.
Кажется, что перед нами необъятная мощная лаборатория, где каждый старательно осваивает отведенный ему отдельный участок 206 общего стилистического развития кинематографа социалистического реализма.
Кажется, нет ни одного его оттенка, которому бы себя не посвятила та или иная творческая индивидуальность.
Кажется, что нет ни одного известного фильма, который не внес бы свою лепту в поистине необъятную сокровищницу этого коллективного опыта.
И поражаешься, как настойчиво, неуклонно и закономерно двигалась и движется наша кинематография в целом к величественному осознанию и претворению в живых образах действительности наших дней как величайших страниц истории человечества, к претворению в живых образах нашей современности, которая одновременно и история и преддверие к еще более великолепному историческому будущему.
Счастлива страна, для которой современность не есть мимолетный полустанок между прошлым, которое хочется забыть, и будущим, в которое боишься вглядеться, видя в нем лишь кризис, грядущий распад и бесперспективное тление.
Счастлив народ, который, гордясь своим великим прошлым, твердо знает пути своего будущего и потому дышит полной грудью сегодня, слыша в звуках собственных песен, как гремит, сливаясь и перекликаясь с голосами зарождающегося будущего, мощный хор победоносно пройденных веков.
Счастливо искусство, порожденное такой страной и таким народом.
Счастливо в сознании единства своего прошлого, настоящего и будущего.
Счастливо в активном служении ему и образном воплощении его.
Только этой стране, только этому народу и только тем народам и странам, которые идут с нами по нашему пути, — принадлежит Будущее Освобожденного Человечества.
207 ВСЕГДА ВПЕРЕД!
(Вместо
Послесловия)*
Я избегаю читать чужие письма.
Читать чужие письма считается предосудительным.
Так нас учили с малолетства.
Но есть чужие письма, которые я от времени до времени перелистываю, в которые я заглядываю, которыми зачитываюсь.
Письма художников.
Письма Серова, письма Ван-Гога, письма Микеланджело.
Особенно письма Микеланджело. В них расплавленная словесная масса так же судорожно и страстно извивается на пергаменте, как его монументальные «рабы», рвущиеся из недорассеченных каменных глыб, как его «грешники», низвергающиеся в ад, как непробужденные фигуры у подножия надгробных статуй Медичи, томимые тяжелыми сновидениями.
Тогда эти письма — стон.
Таким стоном кажутся жалобы, которыми полны страницы письма эпохи работы над потолком Сикстинской капеллы.
Месяцы неестественного согбенного положения. Запрокинутая в лопатки голова. Затекающие руки. Ноги, наливающиеся свинцом. Штукатурка сыплется в воспаленные раскрасневшиеся глаза.
Инструмент валится из рук. Кружится голова. И кажется, что ходуном ходят леса, прижимающие полет творческого воображения к неумолимой неподвижности поверхности свода.
Но вот проходят месяцы мучений.
Распадаются леса.
Разворачиваются затекшие члены.
Разгибается спина.
Гордо подымается голова.
208 Творец глядит вверх.
Творец глядит на свое творение.
И перед ним расступаются своды. Камень уступает место небу.
И кажется, что не случайно это небо, разверзшееся фресками Буонарроти, оживает циклом образов создания вселенной и рождения Адама.
В фресках этих как бы достигает своего завершения торжество мощи становления человеческого духа нового времени, над чем трудились лучшие из тех, кто трудился в эпоху Возрождения.
Как первозданный Адам, этот человек нового времени расправит свои плечи и пойдет через века к порогу нового Возрождения — к порогу нашего времени.
Кто из современников дерзнет поставить себя в один ряд с творцами-гигантами эпохи Ренессанса?
Где те творения живописи и скульптуры, которые могли бы стать с ними рядом? Где тот лес статуй, который, принадлежа к эпохе более передовой, мог бы затмить Давида или Коллеони?1 Где те фрески, которые заставят бледнеть «Тайную вечерю»? Где холсты, от которых померкнет «Сикстинская мадонна»?
Разве ослабел творческий дух народов? Разве ослабела созидательная воля человечества? Разве к закату, а не к небывалому прогрессу движется вселенная, одна шестая часть которой упразднила эксплуатацию человека человеком?
Конечно, нет!
Так в чем же дело?
И где искать те памятники человеческого творчества, которые говорили бы о нашей эпохе, как говорит Парфенон о расцвете Греции, готика о средних веках и титаны Ренессанса об эпохе Возрождения?
Свой лик наша эпоха сохранит через искусство, столь же далекое от фрески, как далек небоскреб от базилики; столь же далекое от витража, как «Летающая крепость» от самых дерзких замыслов Леонардо; столь же несравнимое с резцом Бенвенуто Челлини, как несоизмеримы яды Борджиа с разрушительной силой атомной бомбы или интуиция Брунеллески с точностью расчета по формулам Эйнштейна.
Эти творения по самой природе своей будут несоизмеримы с творениями прошлых эпох совершенно так же, как несоизмерима эпоха, сумевшая породить в XX веке страну социализма, чего не было дано ни одной из предыдущих эпох человеческой истории.
И по внутренним своим чертам это искусство будет несоизмеримо с искусством прошлого, ибо это будет не новая музыка, соперничающая с музыкой прежней, не живопись, старающаяся превзойти живопись предыдущую, не театр, опережающий театры прошлого, оставленные позади, не драма, не скульптура, не 209 пляс — побеждающие в соревновании пляс, скульптуру и драму отошедших эпох.
Но чудесная новая разновидность искусства, спаявшая в одно целое, в единый синтез и живопись с драмой, и музыку со скульптурой, и архитектуру с плясом, и пейзаж с человеком, и зримый образ с произносимым словом.
Осознание этого синтеза как никогда прежде не бывшего органического единства есть несомненно важнейшее из того, к чему пришла эстетика кинематографа за первые пятьдесят лет своей истории, ибо имя этому новому искусству — кино.
А родиться мысль о всеобъемлющем реальном синтезе как основе нового искусства могла лишь с того момента, как почти одновременно в руки этому новому искусству были даны свободы, равенства и братства в том их наивысшем понимании, которое несет учение победоносного социализма и та удивительная техника, которой располагает кино.
На заре культуры в ранних и примитивных формах подобный синтез знавали греки. И многие мечтатели звали к новому воплощению этого идеала в жизнь.
Так в разное время звучали призывы Дидро, Вагнера, Скрябина.
Времена были разные.
Но печать на этих временах была одинаковая.
Это были времена, еще не пробужденные трубным гласом о том, что прежде должна пасть эксплуатация одной части человечества другою; порабощение одной бесправной народности — другою, колонизирующей ее; угнетение одного народа другим, покоряющим его.
Это были времена, когда на земле еще не было многомиллионного участка, где это было не мечтой, а реальностью; не теорией, а практикой; не миражем, а действительностью.
Только осуществив реальность этого преодоления вековой несправедливости и незаконности, могла создаться предпосылка к новым эстетическим нормам и перспективам, достойным новой социальной и социалистической практики, уже ставшей достоянием человечества.
Недаром же с самых первых шагов существования этой замечательной страны именно из нее раздавались голоса ее вождей о том, что кино — важнейшее из искусств.
И недаром работающие в области этого важнейшего из искусств сразу восприняли его и как наиболее передовое, как искусство, наиболее достойное выразить эпоху победоносной социалистической революции, как наиболее совершенное, чтобы воплотить образ нового человека эпохи нового Возрождения.
Но подобно тому как пути и средства этого нового искусства ни с чем не сравнимы в прошлом, так и методы и методика внутри 210 его новы, необычайны, необыкновенны и отличны от того, что удалось раньше.
И здесь как бы возрождение того творческого коллективизма, который предшествовал индивидуализму титанов Ренессанса.
Но здесь это не продукт безыменного саморастворения, как это было среди сотен каменотесов и ваятелей соборов, чьи образы пленяют нас и по сегодня, но чьи имена канули в неизвестность.
Здесь это полноценное содружество резко и отчетливо выраженных талантов и индивидуальностей собственного строго очерченного почерка, лишь как бы случайно задерживающихся кто на творчестве тональном, кто на лицедейском, кто на фотографическом, костюмном, акустическом, фототехническом, лабораторном, режиссерском.
И фильмы, по духу своему — выразители миллионов (а если бы не так, то разве стали бы миллионы их смотреть?), в самом творчестве своем запечатлели этот же принцип коллективизма и сотрудничества, который должен стать таким же характерным признаком этого демократизма, каким был идеал «сильной личности» отошедших эпох, «железных канцлеров» отходящей эры учений о «расе господ».
И в этом коллективном творчестве уже не одинокий Микеланджело проводит месяцы распластанным на своих лесах.
Над фильмом трудятся — не менее! — десятки, сотни людей.
Этот — не разгибая спины над чертежами и расчетами. Тот — пылающим глазом выискивая нужный оттенок из спектра необъятных возможностей цветофильтров. Другой — слухом уходя в тончайший анализ наиболее выразительного звучания одновременно пробегающих звуковых дорожек. Третий — ища им эквивалента в пластической смене кадров.
И так все эти десять, двадцать, сорок, пятьдесят лет этой лихорадочной и безумной, бесконечно трудной и великолепно-радостной деятельности, которую мы именуем кинотворчеством.
Но вот на рубеже второго полустолетия давайте и мы коллективно, подобно Микеланджело, разогнем наши спины, оторвем глаза от лабораторных баков, от цветофильтров и мавиол, от прожекторов и павильонов, от текста ролей и партитур.
Поднимем эти глаза к достигнутым за полвека потолкам. Взглянем на своды над нами. И что же мы увидим?
Как там, на бессмертных фресках, рисовалась необъятность небесной дали, где так недавно еще были свод и камень, так и здесь перед нами бесконечно разверзающиеся горизонты новых перспектив и возможностей.
Как там пробуждался сквозь образ ветхого Адама новый Адам — человек Ренессанса, — так здесь, на путях к завершению своего первого столетия, перед нами встает еще не осознаваемый образ кинематографа новых возможностей.
211 Дух захватывает, когда, запрокинув голову, мы глядим в будущее вверх. Мы стоим как бы на острие полувековой пирамиды существования нашего искусства.
Громадны и многочисленны достижения ее.
Широка и объемиста база.
Взлетны ее крутые бока.
Гордо вонзается в небо ее острие.
Но, глянув наверх, кажется, что из этого острия, как из новой нулевой точки, встречно, во все четыре конца небосвода растет новый гигант, готовый своими гранями и ребрами полонить безгранично разбегающиеся вверх просторы воображения.
Так необъятен и нов облик надвигающегося на нас нового сознания и нового мира, отразить который призван надвигающийся на нас грядущий экран.
Разве еще экран?
Разве сам экран на наших глазах уже не растворяется в новейших достижениях стереокино, захватывая объемно-пространственным изображением уже не стенку зала, но всю внутренность и объем театрального помещения, которое он мчит в беспредельное пространство окружающего мира в чудесах техники телевидения?!
И разве не закономерен этот внутренний взрыв всей природы и сущности зрелищных представлений, порождаемый техникой именно в тот момент, когда от нее потребует нового новый строй эстетической потребности, порожденный из скрещиванья новых стадий социального развития с овладением новыми орудиями управления природой; орудиями, которые сулят такой же сдвиг в сознании сейчас, каким был сдвиг в сознании на заре культуры, когда человек создал первое орудие вообще.
Разве предтечей к этим новым формам сознания не пропылает по небосклону новый вид искусства, порожденный человечеством в процессе полонения природы этими новыми орудиями небывалой и непредвиденной мощи.
Разве удовлетворит новое человечество совокупность традиционных искусств?!
Разве глаз, посредством инфракрасных очков «ночного зрения» способный видеть в темноте;
разве рука, посредством радио способная руководить снарядами и самолетами в далеких сферах других небес;
разве мозг, посредством электронно-счетных машин способный в несколько секунд осуществлять расчеты, на которые прежде уходили месяцы труда, армии счетоводов;
разве сознание, которое в неустанной уже послевоенной борьбе все отчетливее выковывает конкретный образ подлинно демократического международного идеала;
212 разве наличие гигантской Страны Советов, навсегда уничтожившей порабощение человеком человека —
разве все это не потребует искусства совершенно новых и невиданных форм и измерений, далеко за пределами тех паллиативов, которыми на этом пути окажутся и традиционный театр, и традиционная скульптура, и традиционное кино?
Ширить сознание для восприятия этих новых задач. Оттачивать острие мысли для решения этих задач. Мобилизовать опыт пройденного в интересах наступающего.
Неустанно творить.
Безудержно искать.
Смело глядеть вперед в лицо новой эре искусств, которые мы способны лишь предугадывать.
Вот к чему хочется звать в эти дни, недели и послевоенные годы.
Трудиться, трудиться и трудиться
во имя этого великого искусства, порожденного величайшими идеями XX века — учением Ленина, — во имя этого искусства, в свою очередь порожденного для того, чтобы эти величайшие идеи ответно нести миллионам.
213 КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА
215 ДАЕШЬ КОМСОМОЛЬЦА В ДРИСТАЛОВКУ!*
Наш лозунг — в массы!
Ибо мы делаем для массы, а не через массу, не через карманы массы — для себя, для своего кармана!
Мы должны нырять в гущу массы, чтобы узнать, чего она хочет. Мы должны ее втягивать в самостоятельное творчество своей кинематографии.
В массы!
Сегодня это будет — Красный Балтфлот. Завтра — Коломенский завод. Кондострой. Шахты. Гусь-Хрустальный.
Это тоже — культурный поход.
Этим путем обогащается неоценимым богатством культура нашего кино. И мы мчим эту культуру снова в массы. Собранное в массах сырье готовым фабрикатом мчим обратно в массу новым культурным походом — сотнями экранов — во все уголки Союза.
Но этого мало. Принадлежность к советской кинопромышленности еще не исчерпывает общественных функций советских киноработников.
Киноэкспедиции центра должны стать культурной атакой [на] те «медвежьи углы, куда и вран кости не заносил» и куда пролезет разве только киноаппарат в поисках живого материала. Заглянет налоговый инспектор… иногда. Но… никогда культурник.
Вести культурную атаку по «Чухломе». А если нет возможности, то «натравливать», вернувшись с «мест»! Изобличать эти гадючьи гнезда тупой потенциальной контрреволюции! Злейшего вида врага культурной революции. И революции. И культуры!
216 Делаю почин: Пензенский округ, станция Пачелма, двадцать верст вправо.
От Пачелмы до Невежкина двадцать верст.
Посредине крест.
«Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас».
И ниже:
«Здесь убит бандитом гражданин села Вороны Н. П. Суздальцев, 12 мая 192…».
Тысяча девятьсот двадцать… неужели восьмого?? Нет! Краска облупилась — третьего!
Полегчало.
Однако спим. Третья ночь в Невежкине. Название от невежества. Кругом: Разворуй, Никольский Поим. Названия не двусмысленны. Названия — «буквальны».
Там разворовали… А тут поймали… Дристаловку. Должно быть, тоже…
А людей не так уж мало. Село Невежкино насчитывает двенадцать тысяч жителей. Десять верст в округе. При шести партийцах. Трех церквах. И ни одном комсомольце! Была одна — да в кандидаты вышла и в Поим уехала.
Город. Город как будто и не существует. Двадцать верст до железнодорожной станции Пачелмы, а за три недели ни одной газеты не дошло.
Мануфактурного кризиса нет. Не от избытка, а оттого, что домоткаными ходят.
Мужики город видали. Бабы — нет. Видали только те, которым от двадцати пяти до сорока лет. На войну к мужьям на побывку ездили. Немного повидали.
А остальные смеются: как так, лестница во «второй этаж» — разве поверх друг друга живут?
Не мудрено, что при нашем приезде поднялась паника. Аппарат спугнул? Зеркала? «Горожане»? Ничего подобного — перчатки! Обыкновенные кожаные, но под ними померещились бабам (даже писать неловко) — «крючья антихристовы»! И… ну бежать! Сняли перчатки — успокоились. Даже сниматься начали!
Вообще же для Невежкина город — это… водка.
Водка безраздельно хозяйничает в кооперативе и в трех его отделениях. Не кооператив, а прямо «казенка». Впрочем, разница есть. Если по левую сторону от входа «стройными рядами» по полкам стоят четверти, бутылки, косушки, то по правую… фильдеперсовые! Повыше колен! Телесного цвета! Цвета экрю!! Цвета виктория!! Девичьи грезы — чулки!!!
Целыми днями кружатся вокруг «кооперации». Как же! Помилуйте! — контрактация1: по восьми рублей на десятину выдали. Большое дело! И… к вечеру пропито дотла.
217 Впрочем, не все кампании проходят так популярно.
Еду с крестпомовцем Сидоркиным. В чем дело? А это во всех пунктах сходы назначены по займу индустриализации…
Контрактация прошла оживленнее.
Да разве одного крестпомовца на двенадцать тысяч хватит! Да еще на десяток пунктов на десять верст?!
Район не электрофицирован и не индустриализирован. Зато пензенская газета обозначает: сей район на девяносто процентов… сифилицирован. На 90 процентов. А каждая «улица» — все эти Лягушовки, Самодурихи, Покосы, — каждая свою «ластиху» имеет. За пару курьих яиц любого приобщит «к проценту»!
«Серые мы! В грязи завязли…». Скулят. Опять-таки выражение не «образное»: дворы действительно навозом завалены по горло.
«Когда же на поле повезете?» Злой смех… «Что ж, я унавожу, а через два года — передел. Так “ен” землю возьмет, а мне — шиш?» — всклокоченной бородой, с ненавистью, мотает на соседнюю хату.
Земельные переделы. Земли много (район многоземельный), а толку мало.
Семейные разделы ведутся со смаком, глотку перегрызть готовы, а пока… поперечной пилой избу поперек пилят — отец и сын! Хоть бы на венцы сруб разделили. Так нет! Из принципа! Пополам так пополам: каждое бревно надвое!
И стоит изба безбокая и открытым зевом таращится на полнавеса коровника. А удаляясь, скрипит телега о двух колесах (два оставлено!), уволакивая перепиленные бревна — погубленный лес.
А старик сидит: «срамно» глядеть — декорация не декорация, балаган и печкой наружу!
Невежкинцы… Разворуевцы… Поимовцы… Лягушовцы… Возьмите список населенных пунктов Союза и ведите список дальше и дальше. На десятки верст кругом Невежкина и на тысячи верст вокруг этого круга.
Зеленеют участки целины, а контрактационные денежки пропиты. И все же земля тужится, тужится и приносит, дает все, что может дать.
Так неужели же нельзя копнуть до глубины и эту черноту! Перевернуть эту темень!
Ни судами, ни взысканиями, ни законами, ни декретами тут «не взять».
Только здоровый, ярый, молодой актив сможет сдвинуть и перевернуть этот тысячепудовый пласт старого мира.
У нас этих ребят миллион. Миллион буквальный.
Много!
Но сделайте разверстку им по бесчисленным Невежкиным, Воронам, Дристаловкам!
218 И… На двенадцать тысяч жителей ни одного комсомольца!
Нельзя так!
Комплектуйте ряды комсомола.
Врезайтесь активом, буденновским рейдом в гущу деревни!
Так нельзя!
Вызываем от имени съемочной группы «Генеральной линии» московский актив комсомола:
даешь крепкую комсомольскую организацию в Поимский округ, Пензенской губернии!
Даешь комсомольца в Дрисиаловку!
219 ЗЕМЛЯ НАША ОБИЛЬНА… НО ПОРЯДКА В НЕЙ НЕТ*
Я этим имею в виду акраж44*, отведенный под Потылихой, никак не способный расцвести урожаем монтажа прокатно пригодного фильмика.
Традиция поиска варягов сохранилась в наших нравах.
Диогенами с фонариками ходим искать живого человека1. На этот раз руководителя.
Монахами руководят иеромонахи.
Инженерами — старший инженер.
Учеными — наиболее авторитетный научный работник.
И даже зубрами — самый лохматый, но непременно зубр, а не какаду.
Нами же — с точки зрения творческой квалификации — «невесть кто».
Милые люди. Хорошие хозяйственники.
Должно быть, блестящие администраторы.
Но дяди, говорящие на других языках.
Результативному столпотворению вавилонскому удивляться не приходится.
Как солдат, рассказывавший о Священном писании:
«Праведный Ной, праведный Ной! — гляди — языки перемешались».
Но кроме увековечения вавилонской башни еще и другой архитектурный памятник густо представительствует в нашем киногородке — авгиевы конюшни.
220 Засорение рядов творческих кадров неимоверно.
Кто поймет творческого работника, как не творческий же работник.
Кто изобличит творческого арапа, как не творческий же… арап, но в хорошем смысле.
Чьему авторитету внутри своей специальности подчинится творческий деятель, как не авторитету своего же собрата по ремеслу.
Только им же возможно обуздать и необоснованные экспериментальные поползновения, претензии и неизбежно вытекающие отсюда «вольности» у тех работников, которые имеют лишь основания честно дисциплинарно делать свое дело и хвататься за звезды уже в тот момент, когда их с неба приволокут на землю более прыткие и шустрые.
Среди фауны кинематографии есть ведь и такая пташка — «буревестник в стакане воды». Некоторую обузданность и здесь иметь не вредно.
С другой стороны, при срывах или неудачах часто не столько от безграмотности вообще, а от недостачи своей азбуки иных форм взамен уже отвергнутой азбуки общепринятой.
Одно из нежнейших автобиографических воспоминаний моих связано именно с таким случаем.
Это было накануне «Стачки».
Я — свежепришедший из театра — свежепровалил две первые сцены пробы.
Моя первая сцена была смонтирована как речь дикарей: одними существительными или глаголами неопределенного наклонения.
Человек сидеть, человек вставать, человек схватить чернильница.
Выражалось это в смене кадров, снятых совершенно независимо. Без каких-либо двигательных перемычек.
На узкобытовом материале обыденнейшей сцены допроса в охранке это было чистейшей дичью.
А сцена — провалом.
Но тогда уже я упорно знал, что в принципе я — прав. Но неправ я был в материале реализации принципа.
Я прилагал алгебру к кухонному счету, требующему только сложения и вычитания.
Я хотел найти приложение воздушного насоса и ниппеля к… смазному колесу.
Только лет через пять, после опыта двух последующих картин, эмбриональная заложенность этих приемов отчетливо формулировалась в положении о том, что сверх содержаний внутрикадровых последовательностей может возникать еще цепь содержаний, возникающих от столкновений кусков между собой, ведя как бы еще некий второй план более высоких идейных и эмоциональных 221 осмыслений. Об этом я писал в связи с японским кино в 1929 году2 и в период полного теоретического обмеления теоретического понимания нашего кино — потерял немалое количество тех, кто разделял и понимал эту точку зрения.
Итак, факт оставался фактом: как будущий поэт ли, который проваливается на уроке русского языка у классного наставника, или просто факт провала двух проб оставался налицо, — тем не менее картину я доставил и доснял.
И тут выясняется то трогательное, о чем я люблю вспоминать.
Оказывается, доставить и доснять мою первую работу мне дали только потому, что два человека дали за меня… персональное поручительство.
И больше того — подписку.
Подписанную подписку в том, что, несмотря на эти провалы, они полагают, что полная кинорежиссерская потенция на будущее во мне заложена и я картину сделать сумею.
Подписали два человека.
Оператор Эдуард Тиссэ и Борис Александрович Михин — директор3.
Безумству храбрых поем мы славу.
Директор.
Директор Михин творчески был старшим братом. Пусть разных взглядов, но одной породы. Разного оперения, но той же пернатости.
На такой шаг он мог пойти лишь потому, что он был прежде всего сам режиссер и сам работник прежде всего творческий. И не важно, что я некурящий, а он дымил гигантской трубой классической трубки.
В тот «одноклеточный» период нашего кино директор мог обнимать обе функции: будучи старым опытным режиссером, он был для тех времен и достаточным администратором.
С разрастанием «организма», с лихорадочным делением клеток, с разрастанием «одноклеточной» «житной» фабрики в «позвоночного мамонта» Потылихи (хотя спорно решать, кто из двух был более… хребетным?!) уже единому директору не удается быть одновременно творческим радетелем, родителем и руководителем и одновременно администратором, организатором и… массовиком-затейником по отношению к режиссерским стадам на ему подвластных тучных пастбищах Потылихи.
Творчески квалифицированного руководства просто не стало.
Там «реальные» вещи, подлежащие администрированию: поминутные простои, финансы, перепухшие штаты…
Творческая сторона как-нибудь сама уж прозябнет…
Управление на новых скрижалях кинематографии утратило эту часть своего функционирования, не учтя, что утечка, усушка 222 и утруска по этому участку творческого хозяйничания гораздо опаснее провалившихся крыш или разбежавшихся кроликов,
ибо отвечает провалившимися картинами и разбежавшимися аудиториями.
Я думаю, что с кино у нас положение на сей день такое, что чего ни попробуй — хуже не будет.
Хуже не бывает. И даже в пьяном кошмаре не придумаешь.
Почему бы поэтому не попробовать привлечения в руководство и творческих кадров?
Одни говорят: «Попробовала и… родила».
Конечно, роды могут оказаться и тут, как у царицы из «Царя Салтана»:
Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку…
А вдруг что-нибудь и получится.
Творческие работнички старого закала поподросли и, надо думать, в вопросах своего дела — творческого сектора — если не всегда головой, то нутром-то, уж конечно, кое-что соображают.
Надсмотрщики из среды самих арестантов строже надсмотрщиков профессионалов.
Доверие партии к специалисту огромное, несмотря на постоянные срывы его по киноучастку. В пределах этого доверия подобный опыт привлечения ведущих работников кино и в ряды киноруководства вполне уместен.
Хуже не будет. Хуже не бывает.
Причем привлечение это должно идти не по линии «поддержки через общественные организации».
Платоника РоссАРРКа в делах творчески организационных очевидна. АРРК свелась на некое подобие Лиги Наций. […]
Ее диапазон пока не превышает в лучшем случае филантропии «о[бщест]ва покровительства животным от жестокого обращения» или пресловутого парафраза: общества охраны материнства от младенчества…
Здесь должна идти речь о настоящем включении в директорат предприятия не гостя на кончике стула или консультанта, а полновесного базиса, усаженного в равноправное кресло, с мнением, одинаково решающим в сфере своих вопросов.
С соответствующим пайком «бюрократических» сопутствований: стол, оклад, м[ожет] б[ыть] даже № телефона и секретарша.
Конечно, место незавидное для творческого работника.
Но когда прорывается плотина и не хватает мешков с песком, чтобы заткнуть ее, кому-то приходится подставлять свои… спины.
Такой «заложник» в рядах правления должен быть в каждом производственном центре и кинотресте. Такой же должен быть и при центральном объединении.
223 И я глубоко убежден, что конференция подобных работников через какой-либо месяц после ознакомления может привести уже не к ситцево-розовым благопожеланиям, а к ряду мероприятий, которые они же будут (совместно с правлениями — по общим вопросам, а по своим секторам — самолично) проводить в жизнь.
Театры имеют ответственных руководителей из среды ведущих режиссеров. Почему не попробовать ту же меру в кино. Ввести по линии творческой «ответственных руководителей» из режиссерских кадров. Ответственных руководителей. Притом, в отличие от административных аппаратчиков, с упором на второе слово.
То есть не столько бегать, чтобы отвертываться от нападок и оправдываться от ответственности, сколько действительно оказывать товарищески творческое содействие руководством.
Я очень неизобретателен, когда дело касается организационных мероприятий, и очень подозрительно к себе настроен, когда мне в голову приходят оргпредприятия.
Но когда «идея бродит», а излагаемая идея бродит в равной мере в среде руководства, как и в среде управителей, я всегда рад вступиться за ее реализацию, полагая, что в таких случаях в ней есть некая объективная потребность и необходимость.
Это будет и шагом по ликвидации того положения разрыва между активным партруководством и творческими кадрами, одинаково стремящимися к ближайшему контакту, сотрудничеству и совместной работе, тоже остающимися не превосходящими пока рамок платоники.
224 О ФАШИЗМЕ, ГЕРМАНСКОМ КИНОИСКУССТВЕ И ПОДЛИННОЙ
ЖИЗНИ
Открытое
письмо германскому министру пропаганды доктору Геббельсу*
Her Doctor!
Вас вряд ли огорчает и, вероятно, мало удивит узнать, что я не состою подписчиком подведомственной вам германской прессы.
Обычно я ее и не читаю.
Поэтому вас может удивить, что я с легким запозданием, но тем не менее информирован о вашем очередном выступлении перед кинематографистами Берлина в опере Кролля 10 февраля.
На нем вы вторично почтили лестным упоминанием мой фильм «Броненосец “Потемкин”».
Мало того, вы снова, как год назад, изволили выставить его как образец того качества, по которому следует равнять национал-социалистические фильмы.
Вы поступаете очень мудро, посылая ваших кинематографистов учиться у ваших врагов.
Но вы при этом делаете одну маленькую «методологическую» ошибку.
Позвольте вам на нее указать.
И не пеняйте, если указание вам не придется по вкусу.
Не мы лезем вас учить — вы сами напрашиваетесь.
Людям свойственно ошибаться.
Глубоко ошибочны и ваши предположения, что будто бы от фашизма может уродиться великая немецкая кинематография.
Даже при самом благосклонном участии такого арийского святого духа, которым сейчас позируете вы.
«Доказательство пуддинга состоит в его поедании» — приводит в одном месте английскую поговорку Энгельс («The proof of the pudding is in the ceating»).
225 Прошло уже немало печального времени, а ваш хваленый национал-социализм не произвел в искусстве ничего хотя бы мало-мальски удобоваримого.
Поэтому вам, вероятно, предстоит еще немало выступать с речами вроде тех, что вы произносили уже дважды.
Занятие нудное и неблагодарное. Вдохновлять дохнущее в тисках фашизма германское киноискусство, когда-то знавшее немало достижений в прошлом.
Я глубоко убежден и твердо надеюсь, что германский пролетариат не замедлит помочь вам освободиться от этой изнурительной, а главное, совершенно бесплодной работы.
Но на случай, если бы вам все же пришлось еще раз говорить о кино, нельзя, чтобы допускались такие методологические ошибки человеком, занимающим такой высокий пост.
Вы прекрасно под гром аплодисментов начертали творческую программу для немецкой кинематографии:
«… Подлинная жизнь снова должна стать содержанием фильма45*.
Надо отважно и смело браться за подлинную жизнь, не пугаясь трудностей и неудач. Чем больше неудач, тем яростней надо снова браться за эти проблемы. Где бы мы были теперь, если бы при каждой неудаче теряли бы мужество. (Шумное одобрение.) Теперь, когда увеселительный хлам выкинут из общественной жизни, вам, творцы кинематографии, предстоит подойти к теме о бессмертном немецком народе и ею заняться. Заняться теми людьми, которых никто не знает лучше, чем мы… Каждый народ — это то, что из него делают. (Браво!) И что можно сделать из германского народа, мы достаточно показали. (Бурное одобрение.)
Публика не чужда искусству.
И я убежден, что если бы здесь в одном из наших кинодворцов мы дали бы фильм, который действительно охватил бы наше время и действительно стал бы национал-социалистическим “Броненосцем”, билеты в такой театр были бы распроданы дотла и надолго»46*. («Deutsche Allgemeine Zeitung», 11 Februar 1934, «Grosse Rede des Reichspropagandaministers for den Filmschaffenden»)47*.
Под «Броненосцем», я не сомневаюсь, вы имеете в виду, конечно, не одного «Потемкина», но всю победоносную линию нашей кинематографии последних лет.
226 В остальном же — совершенно блистательная программа.
Мы все знаем, что только подлинная жизнь, правда жизни и правдивое изображение жизни лежат и могут лежать в основе подлинного искусства.
И каким шедевром мог бы быть правдивый фильм о сегодняшней Германии!
Однако для реализации вашей блистательной программы вы нуждаетесь в одном добром совете.
Вам определенно нужен совет. Даже не один.
А много, много советов.
Скажем прямо —
целый советский строй!
Ибо в наши дни великое искусство, правдивое изображение жизни, правда жизни, да и сама жизнь возможны лишь в стране Советской — независимо от того, как она называлась раньше.
Но правда и национал-социализм несовместимы.
Кто за правду, тому не по пути с национал-социализмом.
Кто за правду, тот против вас!
Как вы смеете вообще говорить о жизни где бы то ни было, вы, несущие топором и пулеметом смерть и изгнание всему живому и лучшему, что есть в вашей стране?
Казня лучших сынов германского пролетариата и распыляя по поверхности земного шара тех, кем гордится подлинная германская наука и культура всего мира?
Как смеете вы звать вашу кинематографию к правдивому изображению жизни, не поручив ей первым долгом прокричать на весь мир о тысячах томящихся и замученных в подземных катакомбах ваших тюрем, в застенках ваших темниц?
Как у вас хватает наглости толковать о правде вообще после того вавилонского столпотворения, наглости и лжи, которые вы соорудили в Лейпциге?1 В тот момент, когда вы возводите новый эшафот лжи, предательства, готовя процесс против Тельмана?
Тоном доброго пастыря вы говорите далее в вашей речи:
«… Если только у меня будет уверенность, что за любым фильмом стоит честное художественное намерение, я всячески буду его защищать…» (там же).
Вы лжете, господин Геббельс.
Вы прекрасно знаете, что честным и художественным может быть только тот фильм, который до конца раскроет ад, в который вверг Германию национал-социализм.
Вы вряд ли стали бы поощрять такие фильмы!
Подлинным германским киноискусством может быть лишь то, которое будет призывать революционные массы на борьбу с вами.
На это действительно нужна смелость и отвага.
227 Ибо при всех сладких напевах ваших речей вы свое искусство и культуру держите в тех же железных кандалах, что и тысячи ваших узников в сотнях ваших концентрационных лагерей.
Да и не так возникают произведения искусства, как думаете вы.
Мы, например, знаем и кое-чем уже доказали, что произведение, заслуживающее этого названия, есть, было и будет таковым всегда лишь тогда, когда через художника выражается спружиненное, сформулированное, волевое устремление класса.
Подлинное произведение есть оформленное стремление класса закрепить свою борьбу, свои достижения, свой социальный облик в непреходящих образах искусства.
И тем выше произведение, чем полнее удается художнику понять, почувствовать и передать этот творческий порыв самих масс.
Не так вы смотрите на класс и массы.
По-вашему: «… Каждый народ — это то, что из него делают…» И находятся идиоты, которые в этом месте вам кричат «браво».
Потерпите немного. Пролетариат внесет свою поправку в вашу, с позволения сказать, концепцию, господин демиург божественной силы.
Тогда вы узнаете, кто подлинный субъект истории.
Вы узнаете тогда, кто кого делает и что тогда сделают с вами и… из вас.
Война, говорят, родит героев.
Горы, говорят, рожают мышей.
Но никакой Геббельс, претендующий родить новую Германию, как Афину, из своей головы, не способен родить «великой национал-социалистической кинематографии».
Сколько ни пыжьтесь — «национал-социалистического реализма» вам не создать.
В этом лживом ублюдке было бы столько же подлинной правды и реализма, сколько в национал-социализме… социализма.
И только подлинный социалистический строй Советского Союза способен родить грандиозное реалистическое искусство будущего и настоящего.
О нем вы можете только мечтать.
Даже гадать вам трудно. Ошибочно и не с того конца. Да и не по тем картам загадываете. Каким бы шулерством себе ни помогали.
Чертите прусскую лазурь своего лирического прожектерства. Но знайте, что только подлинный социализм и программа социалистического наступления обеспечивают творческой программой все виды искусства.
Радиограммы героев ледяного похода «Челюскина»2 приносят нам весть, что, скованные и затертые льдами, они черпают новый запас бодрости и прилив творческой энергии, вчитываясь в отчетный доклад XVII съезда о работе ЦК ВКП (б).
228 Скованные долгие месяцы вашими кандалами, ваши жертвы и наши дорогие герои Димитров, Танев и Попов были лишены всяческой связи с внешним миром. В какой-то счастливый миг на несколько дней была нарушена изоляция. К ним проникает газета. На ее страницах тот же отчетный доклад. Это мгновение, эти печатные полосы были искуплением за все месяцы страдания. Из уст самого Танева, через день после его возвращения, я услышал, чем они были для ваших узников. Они были приливом новой энергии и нового пафоса на беспощадную борьбу.
В этих полосах было все, что надо было за год назад и на многие годы вперед узнать «солдату революции» (выражение гражданина СССР — Димитрова).
В этих полосах есть все, на чем базировать творческую программу «солдату искусства революции» по всем видам идеологического оружия — литературы, искусства и кино — в его последних боях за бесклассовое общество.
Это лучший образец социалистического реализма в действии.
Это же лучший прообраз социалистического реализма на всех участках художественного творчества.
Это не пустой звон ваших выступлений.
Обещав свое высокое покровительство «честному художественному творчеству» фильма, вы милостиво добавляете:
«… Но я не требую, чтобы фильм начинался и оканчивался национал-социалистическим марш-парадом. Оставьте национал-социалистические марш-парады на нашу долю — мы это умеем делать лучше вас…» (там же).
Правильно сказано! Правильно!!
Ступайте к вашим барабанам, господин обер-барабанщик!
Не заливайтесь волшебной флейтой о национал-социалистическом реализме в кино.
Не подражайте вашему кумиру — Фридриху Второму — еще и флейтой.
Оставайтесь на более привычной вам «топорной» работе.
И не теряйте попусту время.
Не долго вам придется орудовать секирой палача.
Пользуйтесь!
Жгите книги.
Жгите рейхстаги.
Но не воображайте, что казенное искусство, вскормленное на всей этой мерзости, будет способно «глаголом жечь сердца людей».
229 «КРЕСТЬЯНЕ»*
Название картины не случайно совпадает с названием бессмертного произведения Бальзака1.
Что восхищало классиков марксизма в произведениях гениального романиста? Восхищало то, что по его романам лучше, чем по многим специальным социально-экономическим исследованиям, можно познать все социально-классовые противоречия Франции того периода, можно получить картину подъема и становления молодого буржуазного класса. Не ставя себе этой задачи, Бальзак сумел осуществить ее в своих произведениях.
Чем замечательны «Крестьяне» Эрмлера?2 Что будет пленять и будущие поколения в его произведении? Картина опять-таки не случайно начинается с барельефа и кончается барельефом. Она вся как гранитный монумент. Через сто лет после Бальзака она снова говорит о восходе молодого класса, опрокидывающего изжившую себя социальную систему. Но на этот раз — о молодом пролетарском классе, которому принадлежит будущее, который строит бесклассовое общество. И еще: на этот раз мастер ставил себе эту задачу сознательно. И эту задачу он разрешил.
Он разрешил ее потому, что сам он — плоть от плоти этого класса. Потому, что сам он — в авангарде этого класса. Потому, что сам он — член великой партии Ленина. Потому, что, не будь он на важнейшем участке важнейшего из искусств — кино, он был бы, может быть, тем же и таким же незабываемым начальником политотдела, как тот, образ которого он как автор и как режиссер совместно с прекрасным актером Н. Боголюбовым вывел на экране.
230 Благодаря этому он сумел дать не творческое перевоплощение, а воплощение: воплощение на экране великой мудрости, тактики и такта большевистской практики и методов. В этой картине, как ни в одной, показано на деле, как наша великая партия ведет трудящиеся массы к величайшему будущему, к счастью. Глядя на Мироныча этой незабываемой картины (начальника политотдела зовут Николаем Миронычем), видишь, что нет таких человеческих твердынь, которых не преодолел бы большевизм.
Много поразительного показано в картине. Такой галереи образов деревни, такого раскрытия образа классового врага еще не дал ни один фильм. Громадное мастерство ведения сюжета. Великое искусство тончайших психологических нюансов.
Но незабываемым останется этот фильм именно как первый показ большевистского метода в действии.
В этом — величайшая заслуга Эрмлера.
В этом — новая, великая победа орденоносной Ленинградской фабрики, открывающей шестнадцатый год истории нашей кинематографии таким замечательным фильмом.
231 [«СТЯЖАТЕЛИ»]*
А сегодня я увидел на экране наш смех. И второй раз внутри одной пятидневки не могу восторженно не откликнуться на очередное наше кинодостижение1.
Сегодня я видел комедию «Стяжатели» Медведкина2 и, как говорится, — не могу молчать.
Сегодня я видел, как смеется большевик.
Можно начинать свою комедию с заявления, что в ней не участвует Чаплин. И действительно, окажется, что Чаплин в ней не участвовал.
Но можно делать комедию, не задумываясь о Чарли, а окажется, что он в ней.
Не он. Не заимствование с него. Но Чаплин как показатель степени. Чаплин как специфика отношения. Чаплин как нечто глубоко специфичное.
Чаплин «в новом качестве».
Это я ощутил сегодня, глядя на «Стяжателей» Медведкина.
Эта картина еще не вышла. Еще не доделана. По инстанциям еще не прошла. Еще не апробирована. Еще не проверена на зрителе.
Легко хвалить «Чапаева» на гребне шквала энтузиазма, который вызывает этот замечательный фильм.
Труднее писать о том, что видел в маленьком темном просмотровом зале, сидя между нервничающим автором и двумя зашедшими друзьями.
И тем не менее должно уже говорить об этом фильме как о замечательном.
232 Об авторе его как интереснейшей индивидуальности.
И о жанре фильма как открывающем и закрепляющем совершенно оригинальное лицо и совершенно своеобразную концепцию нашего понимания кинокомедии.
Трудно не смеяться над Хмырем, стригущим колосья. Но это не только чудак. Это не идиот. Это «идиотизм деревенек ой жизни»48*, той и в тех формах, из которых мы вышли, к которой нет возврата. Той, которая звучит еще во сто раз идиотичнее, когда окружена эрой колхозов и комбайнов.
Трудно не смеяться над Чаплином.
Здесь я хочу выразить восторг тому, что так, в таком плане, в таком понимании оказываются разрешенными те замечательные вещи, что дал Медведкин.
Трюк Чаплина индивидуально — алогичен.
Трюк Медведкина социально — алогичен.
Чаплин всегда уходит. Чаплин всегда уходит вдаль. Вещь уводит Чаплина. Вещь безысходна. Одна нога — здесь. Одна нога — там. Единице — нет привода.
Привод — коллективу. И Хмырь начинает там, где кончает Чаплин. Он в стороне. Он одинок. Он вдали. И Хмыря приводит. Жена. Начполитотдел. Обстановка действия. И Чаплин, ставший Хмырем, — приходит из всех тех далей, куда Хмырь — Чаплин уходил в окончаниях всех своих картин.
И вот вам как. И вот вам снова противопоставление.
Хмырю дана винтовка. Хмырь сторожит колхозный амбар. Амбар на ножках. Рвань кулачная точит зубы на амбар. Кулак выпускает козла на огород Хмыря: Хмырь с пригорка кидает камни, чтобы отогнать козла. Интерес к своему добру занимает Хмыря больше, чем интерес [к общественному]. Он спиной к амбару. Под амбаром кулачье. Кулачье привстало. Амбар снялся со своих ног. И амбар стоит на кулачье, поповских, подкулачных ногах. Не стоит, а идет. Не идет, а бежит. Хмырь согнал козла — обернулся. Нет амбара на амбарных ножках. Бежит амбар кулацкими ногами по полю. Догоняет Хмырь амбар и так далее. В цепь новых перипетий.
Снявшийся с подножек домик в антологии мировых трюков — не такая новость. Лучшим «западным» был снова дом у Чаплина — в «Золотой горячке».
Домик, где зимует Чаплин с другим золотоискателем Гигантом, схвачен ураганом. В тот момент, когда галлюцинирующий друг видит Чаплина… цыпленком (так и сделано) и хочет Чаплина зарезать. Долгая игра на сквозняках, сталкивающих противников. Наконец метель схватила домик. Домик полетел. И повис на краю 233 обрыва. Переходы в домике его качают. Домик — палуба. Летит и качается и т. д.
И снова. Там смешно и здесь смешно. Там борьба и здесь борьба. Но там борьба друг с другом. Здесь — борьба в самом себе. И борьба вчерашнего стяжателя с сегодняшним хранителем собственности коллектива. Трюк простой у Чаплина. Глубоко вышедший из обстановки класса. Материализованной метафорой еще из Брейгеля3, что большие рыбы поедают маленьких. И трюк — ставший знаком выражения социалистического отношения к имуществу. Стяжательство взяло верх. Но это не конец. Его перекрывает новая сцена. Сцена в пару той, где человеколюбие шерифа пускает каторжника за границу.
Повышаясь в интенсивности, идет кулацкое злодейство. Уже не козел и амбар. А конюшни, куда кулак загоняет колхозных коней, чтобы поджечь и сжечь их. И изба Хмыря, подожженная кулаком, чтобы Хмырь ему не мешал жечь конюшню.
И тут — блистательная сцена: два пожарища и два огня. Своя собственная избенка Хмыря пылает. И занимается огонь у колхозных конюшен. Медведкин достигает замечательного: его Хмырь мечется от огня к огню — комически! И не знает, за что взяться.
Наконец бежит к колхозному добру — спасает из огня коней и прочее.
Но метание вправо — влево. Внутренний конфликт. Два огня: стяжательства и священности колхозного добра, разрешенные комически — исключительно блистательно. Вровень с этим я знаю только одну сцену: из [комедии] Фатти Арбекля4 (шла у нас в Москве). Фатти там герой. Он спасает героиню. Но злодеи справа и слева крадутся к лачуге, где привязана героиня. Фатти вышел в дверь. Глянул вправо — бандит. Глянул влево — бандит. Глянул в руки себе. А в руках — двустволка. Упер двустволку в колени. Развел дула в бока. Одно — вправо. Одно — влево. Нажал курок. Разом грохнули два выстрела. Один — вправо. Один — влево. Мертвыми упали оба злодея. Один — вправо. Один — влево.
Две блестящие сцены. Внешне схожи. Но по значимости и по существу пропасть осмысления отделяет обе сцены.
Над Фатти хохочешь. Бесспорно замечательно. Но над Медведкиным не только хохочешь. При первом смехе — неловко. При втором — замечательное ощущение подъема.
Это только элементы. Это только фрагменты. Это только иллюстрации из Медведкина на мою основную тезу.
На то, что сличение зрелых достижений мастерства двух классов дает конкретную пищу соотносительному сличению49*…
234 Мы имеем не только превосходную вещь.
Мы имеем замечательного мастера.
Мы имеем настоящую оригинальную зрелую индивидуальность.
Первое мы отметили — принципиальное.
Не пересадка трюка. Не присвоение. Не ограбление сундуков американского трюкачества.
Но настоящее освоение и переосмысление.
Решение важнейшего. Не трюк в себе. Не трюк ради трюка. А искание того, чему сей трюк может послужить знаком.
Какое идейное и идеологическое содержание в комической интерпретации выразится через данный традиционный с виду трюк?
Я немало поработал над этим. В моих творческих закромах не один номер, способный поспорить с Медведкиным.
Иногда глядишь безрадостный какой-либо фильм, и кошки здорово скребут на душе. Не зря ли я не довел своей комедийной работы до конца? Сегодня я спокоен и рад. Рад той радостью, которая тоже возможна лишь в стране, где стяжательство может служить лишь объектом смеха. [Рад] тому, что Медведкин разрешил проблему нашего юмора так же, как если бы картину снял и сделал бы я сам!
Как жалки утверждения, что развлекли etc.
В заключение же не могу не поделиться искренним восторгом об одной еще сцене. Щедринской в Медведкине.
Старорежимной.
Можете ли вы, бешено хлопавшие сцене психологической атаки, вообразить себе — комический аналог этой сцене?
Медведкин сделал это.
Хмырь махнул рукой на стяжательство.
Довольно. Не выходит стяжательство. Один с сошкой — семеро с ложкой. Сколько ни наживай. Все равно — все обдерут.
Хмырь решил помереть. Хмырь стругает доски. Хмырь сколачивает гроб.
Паника кругом. Кого же будут эксплуатировать? Кулак. Поп. Власти предержащие.
Прибегает поп. Устрашает Хмыря Писанием. Хмырь стругает, в гроб примеривается. Городовой орет на Хмыря. Хмырь гроб налаживает. Митрополит с попом бежит. Вид на горку. На деревню. Гусары скачут. Экипаж летит. Сенаторы, чиновники, полицмейстеры и становые. И гусары, гусары, гусары. Все летит — лишь бы мужику умереть не дать.
Хмырь жует свой последний хлеб и угрюмо в гроб глядит. И вот из-за холмика идут ряд за рядом. Черные с винтовками. Страшным строгим мерным шагом — царские войска. Все, чтобы Хмырю умереть не дать. Войско ближе. Черное, как «каппелевцы». Механизированное, как они. Дальше их. И блистательный гротеск: 235 войско в масках. Всё — на одно лицо. На ушастое, разинутое зевом ртов. С усиками петелькой. Этот синтетический образ старой армии подирает кожу морозом. Это самое замечательное место. Здесь Медведкин подымается на высоту настоящего гротеска. Здесь под дикостью и нелепостью картонной морды, десятком раз разбегающейся по войскам, видно страшное мертвящее лицо режима. Это — Щедрин.
Хмырю не дали помереть. Хмырю дали жить. Дали выполнить дело лишь наполовину. Засекли до полусмерти за попытку «самосильно» умереть. И кончая часть группами солдат в картонажных рожах, наяривающих гармошку, группами солдат в картонных рожах, волокущих бедного Хмыря на экзекуцию, Медведкин достигает по эффекту Гойи.
236 САМОЕ ВАЖНОЕ ИЗ ИСКУССТВ*
Кинематография совсем особое искусство. Не только по пресловутому признаку, что она и искусство и индустрия. Кинематограф — наиболее массовое и наиболее интернациональное из искусств.
Возможности воздействия на сердце и умы миллионов по диапазону не сравнимы ни с одной из смежных областей.
Покорение звука тонфильмом открыло возможности глубочайшего овладения тематикой и проблемами, тем, чем раньше владели лишь литература и театр.
Идеологией и философией их.
Таковы возможности любого кино.
Но таковы черты лишь одного кино — советского.
Только это кино, являясь выразителем единственной в своем роде страны, направлено к тому, чтобы показывать то, что другие кинематографии призваны скрывать, произносить там, где другие молчат, бороться и звать к действию и борьбе, в отличие от иных, призванных смазывать социальные противоречия и убаюкивать сентиментальной лживостью. Советское кино на особом положении. Ни одно искусство не несет такой большой ответственности. Ибо ни об одном искусстве не сказано так лаконично, так коротко, но и так определенно и категорически, как о советском кино.
И ни об одном искусстве не сказано такими словами. Слова Владимира Ильича о значении кино живы в сердце каждого, кто имеет счастье и честь работать в советской кинематографии.
237 Это слова величайшей оценки.
Эти слова — величайшее социалистическое обязательство для каждого вступившего, вступающего или думающего вступить в область этой работы.
«Из всех искусств…»1.
Эти слова стоят над кинематографией от самых первых ее сознательных начал.
По этим словам сегодня советская кинематография держит свой ответ:
была ли, оказалась ли она на высоте той оценки-обязательства, которую поставил перед ней великий вождь пролетариата?
Сегодня мы, кинематографисты, — все юбиляры. Все мы имеем свои вклады в ее историю. Все мы пишем сейчас обзоры и делимся воспоминаниями. Всем нам приходится писать и о своих вкладах в это дело. Всех нас охватывает авторское чувство неловкости, когда мы высказываемся о них. Но мы не стесняемся говорить. Пусть перед нами пройдут снова годы. Пусть они скажут за себя. Сегодняшний юбилей — по существу — три юбилея.
В нем сочетались три события. Юбилей пятнадцатилетия кинематографии. Пятнадцатилетие единственного в мире Института кинематографии, ставящего проблемы творчества и эстетики на марксистско-ленинскую базу. И десятилетие выхода первой картины, впервые получившей оценку первого пролетарского и первого большевистского фильма. Это была «Стачка», созданная совместными усилиями тогдашнего Госкино и Театра Пролеткульта. Трудно и неловко писать об этом, авторски участвовав в этой картине. И решаешься, быть может, на это только потому, что в стране социалистической собственности и отношение к собственному авторству иное: не чувствуешь собственнического авторства на то, что сделал сам. Не чувствуешь чужим и посторонним то, что сделал товарищ по работе. В этом одно из величайших достижений социалистической перестройки сознания творческих работников — пожалуй, самых редких собственников и индивидуалистов при всякой системе, кроме нашей.
Под этим лежит глубокое осознание того, что все мы, советские художники, не более как выразители тех творческих устремлений и творческих идеалов, которыми движимы миллионы строителей социалистической страны. Сознание этого для нас величайшая гордость. И это создает те особые коллективистские взаимоотношения, эти новые качества творческого взаимоповедения, которое опять-таки специфично для нашего кино в отличие от западной кинематографии. В те дни, когда кинематография чествовала своего «челюскинца», в зрительных образах донесшего эпопею всему миру, — нашего оператора Шафрана2, один из старейших кинематографистов выступил с замечательными словами. Не умея говорить, как многие из нашей среды, он, заканчивая выступление, 238 сказал только одно: «И вообще, если бы был там я, я бы сделал то же самое и так же хорошо». Вот это-то сознание рядового солдата, рядового бойца. Сознание того, что каждый создал или сделал не по личной сверхгениальности, а потому, что данный участок оказался именно перед ним. Не я бы сделал — сделал бы другой. Не попадись участок другому — сделал бы я. В этом уже есть доля нового, социалистического отношения к работам собственным, к работам товарища. В этом новые отношения. И это дает возможность свободно говорить о всем том, что все мы сообща за эти годы делали.
«Стачка» явилась поворотным пунктом в нашей кинематографии. Она резко противопоставила наши киноустремления тематике и эстетике буржуазного кино. Она вобрала в себя все тенденции к этому, годами бродившие протестом против импортных картин, против западного импорта внутри идеологии и формы многого, что производилось в то время еще и у нас.
«Стачка» пробила революционную брешь внутри нашего собственного осознавания своей кинематографии как бескомпромиссно революционной. Сейчас, с высоты последующих кинодостижений, кажется странным наличие такого момента. Но таковы были факты. И кинематография приходила к собственному осознанию путями борьбы.
«Стачка» вела генеральное наступление за наше лицо. Но фронт был не менее силен и принципиален и с флангов. В ногу. Рядом. Опережая или нагоняя. Шли: «Красные дьяволята», несшие первые семена романтики гражданской войны. «Киноправда» и «Киноглаз»3, несшие острое видение и всматривание в нашу действительность. Работы Кулешова, осваивавшие кинокультуру Запада. Все эти черты прокладывают пути к тому, чтобы наше кино встало крепко на ноги своего идеологического и неизбежно отсюда вытекающего формального своеобразия. Своеобразия своей новой творческой силы, способной противостать и противопоставиться буржуазной кинокультуре в целом.
Удар за ударом это делают «Потемкин», «Мать», «Октябрь», «Конец Санктпетербурга», «Арсенал». Проблема своеобразия художественной необычности в два счета перерастает свои эстетические рамки. Врезаясь в кинотеатры Европы и Америки своими достоинствами, эти фильмы действуют как разрывные пули. Они пробивают броню цензур, прокатных интриг, полицейского сопротивления. Их появление вызывает к жизни целые организации, целью которых является членство, дающее право видеть эти картины («Спартакюс» в Париже, сеть кинообществ в Англии и т. д.). Запреты вызывают бурю негодования и массовые кампании не только среди рабочих, но и среди лучших слоев передовой интеллигенции. Цензурное снятие с экрана «Потемкина» в Германии 239 вызывает целое движение и митинги протеста. Цензура вынуждена снять запрет.
Инциденты с «Матерью» в Великобритании вызывают запросы в парламенте. Волны ширятся. Валы поднимаются. Восстание в голландском флоте (на «Цевен провинсьен»)4 непосредственно вторит сценариям виденных революционных картин. Я выступал в Серенг-ла-руж (Бельгия)5 и видел, что такое в промышл[енном] районе наш фильм.
Если таково влияние в одну сторону. Если судьба наших фильмов за границей расслаивает интеллигенцию, мобилизует все культурно и революционно живое на борьбу со всем культурно мертвящим, то функция наших картин исторически еще и другая. Наши фильмы — это наши первые полпреды. Полпреды нашей советской культуры. Задолго до признаний де юре и де факто наша кинематография во многих странах успевает опрокинуть немало предрассудков о стране «разрушителей культуры». Через двери нашей культуры и художественное качество наши картины несли интерес, симпатию, любознательность к нашей стране во все уголки земного шара.
Достижения нашего кино подымались до того, что служили образцами для обновления культуры кино западного и американского, во много раз более опытных, чем наше молодое искусство. И это в тот период, когда мы технически были так слабо вооружены. Но в нашей кинематографии был дух непобедимой удали, была сила сознания, пафоса и высокой революционной идейности, которые вели наши непобедимые дивизии по фронтам интервенции. Блестяще закрепившись на первом туре, советская кинематография не сдает. Через «Путевку в жизнь», через «Турксиб», «Старое и новое», «Обломок империи», «Землю» сквозь первую брешь мощным потоком мчится новая проблематика, небывалые темы о формах небывалых человеческих взаимоотношений, о невиданных формах стройки и перестройки стран, социальных организмов, социальных сознаний.
Кинематография дает новый взлет. Лозунги партийности революционной теории и философии на кинофронте встают проблемой перехода от обобщающе революционной тематики пламенного пафоса прежних этапов к партийности тематики.
Из революционной массовости и массовой революционности тематики первых картин на гребень начинает выноситься проблема партии, проблема коммуниста, проблема большевика.
Подобно тому как метод коммунизма есть высшая форма научной классовой борьбы, так и проблема живого образа большевика выкристаллизовывается на общем гребне достаточно высоко вознесенной революционной тематики и традиции революционного кино. На экран вступает уже не просто масса, уже не просто революционер, уже не просто событие и цепь фактов, инициатором 240 которых является мудрость партии. На экране появляется конкретный большевик в конкретной обстановке, за конкретным делом.
Эта полоса совпадает с победой овладения техникой звукового кино. И слово и звук, вошедшие на экран к этому моменту, явились теми средствами, которых не хватало немому кинематографу, чтобы во всей полноте охватывать философски углубленную партийную тематику.
Первые шаги делают «Златые горы», «Встречный», «Дезертир». Через год блестяще вступают «Чапаев», «Юность Максима». «Крестьяне». Все картины про большевиков. Про становление большевика. Про борьбу его при царе. В гражданскую войну. В период стройки и в борьбе с вредителем на заводе. В период перестройки деревни и последних боев с классовым врагом — кулачеством.
Эти картины на смену громадным полотнам и образам революционных масс несут незабываемые образы коммунистов, вождей и тех лучших людей эпохи, которые группируются вокруг них в едином необъятном потоке.
Про «Чапаева» говорят, что картина как бы является развернутой сценой, где Чапаев учит, «где должен быть командир». Картина в целом есть как бы образ именно этого. Она показывает, где должен быть, где бывает и как действует наш герой командир при всех и всяческих условиях и обстановке.
Это определение хотелось бы развить на весь комплекс последних перечисленных картин. Совместно они как бы дают собирательный облик коммуниста, большевика, которого мы видим во всех разделах его мощной творчески созидательной социалистической деятельности. Юным Максимом он сидит в царских тюрьмах, Бабкиным он ликвидирует прорыв и вступает в ряды партии, замечательным Фурмановым он мудро проводит партийное дело с незабываемым Чапаевым, Николаем Миронычем — начполитотделом из «Крестьян» Эрмлера — он, не щадя жизни, борется за социалистическую деревню.
Картина ширится. Эта галерея образов обнимается с широтой эпоса массовых картин первого периода.
Кинематография в целом стала как бы великим образом великой нашей страны, единым комплексным образом закрепляя в веках то, как неразрывно едина и мощна спайка рабочих, колхозников, Красной Армии со своей партией, со своими руководителями. Это не удавалось с такой силой, с таким мировым размахом ни одному из режиссеров.
За этот коллективный образ, за этот творческий комплекс, отобразивший величайшее в нашей революции и победное шествие в социализм, — наша кинематография заслужила то, что было начертано Ильичем.
241 И ход ее тематики от революционности как таковой к революционности большевистской, партийной и коммунистической более, чем только образ нашей истории и нашей страны.
Этот ход — уже образ всемирного движения пролетариата. Кому мы обязаны таким громадным подъемом коллективного достижения, коллективного создания нашего кино?
Неутомимой энергии его руководства, невзирая на трудности, срывы, ошибки, неуклонно ведшего и ведущего сложный комплекс нашего искусства, индустрии и хозяйства по неуклонному большевистскому пути.
Но больше всего советское кино обязано этим тому, кто и самое дело нашего пролетариата неуклонно движет вперед к социалистическим победам — нашей Коммунистической партии, нашему большевистскому ЦК, постоянным вниманием и руководством воодушевляющему и ведущему наше кино, непосредственно руководящему делом киностроительства в нашей стране.
Советское кино стало важнейшим искусством, тем ответственнее и шире его задачи впереди, тем радостнее работать дальше над продолжением победного его пути.
242 МОЖЕМ!*
В кинематографии любят легенды. Так, легендарным считается «доброе старое время». Оно обычно обозначается словом «Житная», и под этим понимается время, когда еще не было переселения московской кинематографии на Потылиху. «Тогда» работали. «Тогда» можно было работать. И действительно, тогда работали. «Потемкин» был сделан (с монтажом) ровно в… три месяца. Это звучит легендой, но это факт.
Есть в кинематографии и другие легенды. На этот раз легенды — ложные. Например, легенда о том, что с переходом кинематографии на Потылиху стало невозможно работать.
И хотя сия легенда подтверждается многими и многими образцами и фактами, она все-таки ложь. И тем хуже для фактов. И еще хуже для тех, кто производит эти факты.
Из них не легендарен, увы, один лишь факт в этой ежечасно (увы!) «творимой легенде»: факт резкого снижения культуры труда по сравнению с тем временем, когда, как выражаются, «можно было работать». Работать можно также и сейчас. Сейчас можно работать лучше. И дело не в технике, а в людях. В культуре труда этих людей.
Что решает трудовой успех в первую очередь?
Это условие для революционной борьбы Ленин обозначил замечательным словом: одержимость. И в нашем деле одержимость решает все.
Ничто не преодолимо без нее. И все трудности преодолимы, если съемочный коллектив охвачен одержимостью темой сценария, самолюбием за качество будущей продукции, конкретными задачами ее воплощения.
243 У режиссера и оператора одержимость — это прежде всего твердое знание, чего они хотят.
Это не туманное «плавание» бесплодно ищущей тощей фантазии при свете «юпитеров» в те жесткие часы, когда должна вертеться ручка и все ателье должно быть охвачено единым дыханием авторско-режиссерского замысла.
Нет более яростного противника бюрократически бездушной системы «железного сценария»1, чем я.
Но нет и более жестокого врага «искательства» и ожиданий «творческого наития» под «шипение юпитеров» или в пылу жара солнечного дня.
Здесь каждая секунда дорога для реализации замысла, а не для становления его. Съемочные часы — это часы нахождений, а не часы исканий.
Это часы воплощения, нахождения наиболее полных форм претворения замысла в метры снятой пленки!
А как же с исканиями?
Исканиям отдано все время за пределами съемочных часов.
И только если исканиями и фильмом жить ежедневно, ежечасно и ежеминутно, только если быть насквозь пронизанным одержимостью своей работы, фильм будет идти неустанно, не снижая качества и возгоняя производственные темпы.
Как же это положение уживается с враждебностью к «железному сценарию»?
Противоречие — кажущееся. Ибо не номер и серию номеров следует видеть перед собой, идя в ателье, а отчетливый пластический и звучащий образ, который идешь реализовать на площадке ателье или на равнинах натуры.
И видение этого образа, знание его должно быть безошибочно. До конца отчетливо. Тогда без блужданий и «искательства» этот образ станет монолитной серией кадров на съемке — а в предвидении их количества — предвидением ритма.
Уважение к съемочному времени — одно из важнейших условий культуры съемочного труда и успеха.
Ни одной секунды потери в нем. Уплотненность до конца как в течение самих часов работы, так и в минутах начала.
Ручка должна завертеться в назначенный час. Один час задержки начала съемки — потеря не одного часа, а половины съемочного дня: дисциплинированнейший коллектив немедленно размагничивается, и развал съемочного дня идет по всем швам.
Есть еще одна легенда. Она примерно гласит, что «на съемку опоздать невозможно». Другими словами — когда не приди — все равно, всегда есть повод и основание еще не начать снимать.
Этому должен быть положен жесточайший предел Эти бредни надо искоренять со всей беспощадностью.
244 Час начала съемки, час начала условленной работы по подготовке съемки должен быть священным часом. В нем кроется гораздо больше, чем может показаться.
В нем залог и показатель дисциплинированности, в нем признак охваченности одержимостью своей работы.
И взамен позорного, освященного скверной традицией некультурного лозунга о том, что «на съемку невозможно опоздать», мы выдвигаем другой — «нет часа, который был бы слишком ранним для прихода на съемку», с тем чтобы всем от мала до велика быть вполне готовыми к значительному мгновению творческого слияния всех членов группы в тот замечательный момент, когда «завертится ручка».
Потылиха — это живые люди. И если эти люди будут знать, чего хотят, и хотеть знать, чего хотеть, — они сумеют осуществить, что знают и чего хотят.
Тогда нам всем будет ясно, что на Потылихе работать можно. А раз можно, стало быть, и должно.
Этого от нас ждет наша партия, наша страна, этого ждут все те, кому дорог высокий стандарт большевистской кинематографии.
Это в пятнадцатилетие кино мы обещали.
Это обещание мы должны сдержать. И это обещание сдержать мы можем.
245 РАЗУМНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ*
ГУКФ1 своевременно подняло вопрос о том, что звание и должность режиссера еще не являются гарантией того, что данный работник может успешно участвовать в создании советской кинематографии. Политическая ответственность и художественно-идеологическая требовательность в отношении кинопроизведения сейчас возросли настолько, что требования к режиссеру от года к году становятся все выше, все строже и все жестче.
Советский режиссер — это не звание, это не должность, это прежде всего ответственность. И высокая честь — нести эту ответственность перед многомиллионным зрителем.
Между тем режиссерская среда, слагавшаяся в порядке стихийного, не планомерного, а случайного роста и пополнения, густо заросла плевелами. Эта непрочищенность режиссерских кадров гибельно отражается на плановости и стройности работы предприятий, ведет к разрастанию претензий без основания со стороны тех, кто понапористей; тормозит производственную возможность тех, кому несвойствен «творческий метод» Остапа Бендера, наконец, засоряет личный состав и штаты фабрики, глуша возможность врастания молодых талантливых кадров во все более развивающуюся кинематографию.
Вопрос о «самоочищении» собственных кадров должен был быть давно поставлен самой же кинорежиссерской средой.
Теперь же, когда инициатива идет от руководства сверху, следует со всей горячностью взяться за дело.
Решительные практические меры в этом направлении со стороны руководства «Мосфильма» надо поддержать и сплоченно проводить в жизнь.
246 Соискание на право ставить картины должно быть проведено на большой принципиальной высоте.
Для растущих в стенах ВГИКа кадров уже введен по всей форме отчет оканчивающих институт перед Государственной квалификационной комиссией. В чем-то, схожем со смотром и проверкой, нуждаются и те, чьи творческие проявления могут вызвать сомнения и неуверенность как со стороны руководства, так и творческих работников, несущих как бы корпоративную ответственность за каждого своего сочлена.
Одновременно с этим должен быть обеспечен широкий доступ в кинематографию новым талантливым творческим силам.
Предлагаемое «Мосфильмом» мероприятие отвечает обеим задачам и имеет все данные для того, чтобы разрешить обе проблемы: пересмотр и переоценку качества наличного творческого фонда, с одной стороны, и создание условий для притока новых сил — с другой.
Последнее, конечно, не «за хвостик тетеньки державшись», а в порядке подлинного открытого соискательства и допущения к работе с санкцией руководства и достаточно авторитетной квалификационной комиссии.
Не планомерно, не нормализированно, не систематически этот порядок применялся и в прошлом.
Начиная стареть, я люблю прибегать к воспоминаниям молодости.
Ведь так, через своеобразный «экзамен», и я сам вступил на тернистый путь кино.
Уже имея «имя» по театральной работе, больше того, сделав спектакль, заслуживший в 1923 году репутацию «самого веселого» в сезоне2, при переходе на киноработу я был подвергнут соответствующему искусу.
Два первых эпизода (никогда не вошедших в «Стачку») служили двумя первыми съемочными пробами меня как претендующего на работу кинорежиссера.
Обе я вчистую… провалил.
Дали еще одну — последнюю, третью пробу. Это была сцена с бочками.
«Переэкзаменовку» я выдержал и был причислен к режиссерскому лику.
Через год только (а то и больше) я узнал секрет моего спасения.
Это была скромная бумажка, но большой ответственности бумага. Это была подписка тогдашнего директора фабрики и неизменного в дальнейшем друга, режиссера Б. А. Михина и небезызвестного оператора Эдуарда Тиссэ в том, что они, разглядев в моих провалах элементы возможного положительного будущего, берут на себя ответственность и ручаются за то, что картина у меня получится и что мне целесообразно работать в кино.
247 Показательно здесь то, что именно творческие работники, внимательно всматриваясь в достаточно еще нелепые первые шаги начинающего, сумели разглядеть, что наличие его может оказаться целесообразным в рядах кинематографистов.
Квалификационный аппарат, призываемый фабрикой на подобную же функцию, но уже в организованном порядке, включит в себя и руководящих работников фабрики и мастеров, перед которыми в равной мере станут увлекательные задачи поднятия высокого стандарта наличных кадров и вовлечения новых.
Нужно, чтобы данные предложения не залеживались в папках как благие намерения, а срочно были осуществлены практически.
Репутация и звание советского режиссера должны быть поставлены на такую высоту, какой от них требует величие нашей эпохи.
248 В ЭНТУЗИАЗМЕ — ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА*
Мы, художники, глядим на мир и видим его по-особенному. Контуры отдельных его стран на географических картах нам рисуются причудливыми профилями людей. Изгибы границ стран-агрессоров нам кажутся хищными щупальцами, протягивающимися к мирным соседям, чтобы когтями впиваться в их мирное существование. Трассы международных перелетов наших летчиков нам кажутся живыми нитями, живыми нервами, связывающими между собой миллионы обитателей земного шара на путях к всемирному братству народов.
Так устроены глаза художников, чтобы вычитывать в явлениях, формах и абрисах окружающего образы, в которых живут эти явления в наших чувствах и в нашем сознании.
Но не только в абрисах карт или трассах полетов нам рисуются живые лица, действия, динамические облики и образы народов и стран.
Ступая по суше, посещая города, которым на картах отведены лишь скромные точки, блуждая в горах, с птичьего полета кажущихся извивающимися сороконожками с бесчисленными лапками заштрихованных скатов и склонов, мы воспринимаем все видимое как некий целостный образ, насыщенный прежде всего какой-то единой определяющей его стихией. Подобный обобщенный облик или образ есть живое закрепление чувств и мыслей, возникающих при встрече и общении со странами, городами, людьми. Это они создают атмосферу, физиономию страны или города, всегда неповторимую. Дело в способности художника как-то сразу проникнуться главным и основным, чем, как ему кажется, дышит страна или город.
249 Но не для иллюстрации этой мысли пишу я, а сама эта мысль мне нужна для того, чтобы раскрыть то, что захватывает и волнует меня. Мне хочется в обращении к советской молодежи в двадцатую годовщину существования лучшей ее организации — Ленинского комсомола — вместе с ней ощутить то главное, жизненное и замечательное, чем прежде всего наполняются и мысли и чувства, когда говоришь: Советский Союз.
Нет ни одной другой страны в мире, где бы так остро было разлито ощущение творчества, творческой энергии, всесторонней созидательности. Творчество — это и есть самое важное в жизни и облике нашей замечательной родины. Творческий порыв, творческий труд, творчество — в миллионах многообразнейших проявлений.
В нашей стране понятие творчества давно взорвало рамки этого термина, прилагавшегося лишь к «изящным искусствам». Вольный труд, уничтожение различия между умственным и физическим трудом, обеспеченность труда Советской Конституцией давно уже слили понятие о труде с представлениями о творчестве. Каждый в стране творит. И творят все вместе, создавая величайшее, на что способно человечество, — социалистическое будущее для всех народов нашей планеты.
Безгранична область духовной культуры нашего народа. Это ярче всего проявляется в искусстве, взлелеянном гениальностью нашего народа, в нашем советском, социалистическом искусстве.
Наше искусство рождено народом, сумевшим слить в нем свое великое прошлое с еще более великим настоящим. Массовая любовь родит и питает его.
И искусство возвращает массам его любовь. Не только служит народу, но и старается до конца воплотить чувства и мысли народа. Но ответно оно вызывает к жизни и художественной деятельности те мощные пласты художественно одаренной молодежи, которыми так богат союз наших социалистических республик.
Талантливое произведение, рожденное художником, притягивает к себе всех тех, кто обладает подобной же одаренностью к этой специальной области творчества.
В заглавии мы сказали слово «энтузиазм». Мы могли бы лучше сказать ленинское слово «одержимость». Ибо в энтузиазме, в одержимости — все дело и залог творческого роста молодых мастеров искусства. Одержимость Стаханова1. Одержимость защитников наших границ. Одержимость наших летчиков. Одержимость Папанина и папанинцев2. Одержимость наших исследователей, ученых, поэтов, музыкантов, писателей.
Одержимость — залог творческого успеха, куда бы ни была направлена энергия творца. Наша молодежь это знает.
И творческой одержимости молодых артистов хочется рукоплескать в наши дни.
250 ОБРАЗ ГРОМАДНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ И РЕАЛИСТИЧНОСТИ*
Фильм прекрасен1. Я думаю, что не может быть и двух мнений в вопросах этой оценки. И как всякое подлинно прекрасное произведение, он не может не быть результатом коллективного сплетения творческих порывов всех тех, кто над ним работал. Мне хочется остановиться на трех удачах, касающихся этого замечательного произведения.
Первое — образ Ленина и замечательная работа Щукина. Я, к сожалению, из тех, кому не довелось видеть в жизни живого Ильича. Но мне пришлось немало самому поработать над вопросом облика и образа Ильича и в связи с этим изучить немалое количество материалов в том объеме, как они были разработаны и доступны десять лет назад. И на основании этого образ, созданный Щукиным, мне кажется образом громадной исторической правды и реалистической правдивости.
Замечательно, что в фильме «Ленин в Октябре» замечательный актер Щукин и вместе с ним и режиссер, сумевший в постановке раскрыть ситуации, и сценарист, сумевший для сценария отобрать соответствующие положения, сумели подслушать в массовом зрителе тот именно образ Ильича, который каждый из нас носит в своем сердце как результат восторга перед деяниями и творчеством этого великого человека. Не только правда того, каким был Ленин, но и высшая правда того, каким хочется нам, многомиллионным продолжателям его дела, видеть образ Ленина, стоящий перед нами в нашем представлении, достигнута в этом замечательном произведении. Поэтому в этом образе столько теплоты и столько близости к каждому зрителю.
251 Вторую удачу хочется отнести за счет сценариста, хотя и здесь он, конечно, неразрывен со всем коллективом.
Это необычайно удачный выбор коллизии, вокруг которой развернута тема Октября. Я бы сказал — основная драма внутри борьбы за победу Октябрьской революции. Гнусное предательство Каменева и Зиновьева, заслуженно казненных пролетарским правосудием, взятое за нерв драматургического построения, не только на двадцать лет назад, но и на многие годы вперед раскрывает в предельной остроте подлость и историческую обреченность всех тех, кто идет в последний и решительный бой не по линии Ленина. Но мало этого. Сюжетно и ситуационно эта наиболее правильно, глубоко и остро взятая историко-политическая тема опять-таки решена в наиболее эмоционально теплом и захватывающем разрезе. Тема эта могла облечься в любые ситуации, в любые сюжетные положения. И в выборе именно этих, а не иных ситуаций и положений снова сказалось умение коллектива [фильма] «Ленин в Октябре», на этот раз во главе с А. Каплером, так же чутко вслушаться в самое сокровенное тех эмоций, чем полон наш народ, наш массовый зритель.
Каким чувством, как никогда, охвачены мы сейчас? Какое слово чаще других не мелькает на страницах наших газет, а ежедневно, ежечасно врезается в наше сознание и в наши чувства? Чем полны речи наших лучших людей в дни выборов в Верховный Совет?
Это слова о бережности, о бережливости, о сохранении. Вслед за словами о достижениях мощно звучат слова о сохранении и бережной защите завоеванного и достигнутого. О защите достижений, записанных в Конституции, о защите страны и ее границ, о защите вождей, о защите чистоты учения Маркса — Ленина, о сохранении памяти великого Ленина.
И вот материалом воплощения темы картины «Ленин в Октябре» взяты замечательные ситуации бережливости к Ильичу, ограждения его, защиты его как самого драгоценного в предоктябрьские дни и октябрьские бои. И именно эти черты находят самый мощный, самый теплый отзыв в сердцах всех тех, кто стоит на страже достижений, великой памяти и продолжения дела Ленина. То, что ситуации сценария заставляют дрожать именно эти струны зрительских сердец, есть величайшее мастерство в построении фильма или, быть может, больше, чем мастерство, — полное слияние с многомиллионным коллективом нашего народа, ибо только в таком слиянии с ним возможно так выслушать самые глубокие и тонкие чувства, которыми живет многомиллионный коллектив. И здесь надо воздать полное восхищение и работе режиссера.
Я смотрел фильм несколько раз. И каждый раз меня пленял поразительный ритм, которым Ромм сумел охватить эти на первый взгляд столь простые сцены, в которых действует Ленин. Именно 252 не только содержание ситуации, именно не только игра Щукина, а какой-то совершенно особенно уловленный ритм, в котором режиссерски развернуты эти ситуации и режиссерски проведена эта игра. Два раза я подвергся этому действию. На третий раз я захотел разобраться, откуда взят, где подслушан и выслушан этот ритм ведения действия, совершенно безошибочно пленяющий всякого, кто находится перед экраном. И снова эта черта оказывается выслушанной в ритме биения зрительского сердца в тот момент, когда она сближается с образом Ильича, с памятью об Ильиче. Ромм сумел предвосхитить и предугадать то чувство, в котором зритель станет смотреть «Ленин в Октябре», то чувство, в котором будет происходить встреча зрителя с Ильичем на экране, и Ромм сумел ритм своих экранных разрешений сделать именно в том ключе, с которым абсолютно совпадает зрительская эмоция, которая будет следить, затаив дыхание, за делами и судьбой Ильича на экране. Я бы назвал это ритмом благоговения и той особой трепетной теплоты, какой-то чистой сыновней заботливости, которым проникнуто у всех нас то, что связано с великой памятью об Ильиче. Воплощает это чувство на экране Охлопков и ведет его с такой любовью и тактом, что каждый зритель видит в нем носителя самых дорогих своих личных чувств и бесконечно ему благодарен.
Что же сказать в заключение?
Я думаю, только одно. Исключительная удача фильма не только в коллективном содружестве всех членов творческого коллектива (обо всех них невозможно сказать в отдельности, и остается лишь всем им в целом — и сорежиссеру, и оператору, и звукооператору, и исполнителям — выразить восхищение и благодарность). Исключительная удача фильма в том, что налицо глубочайшее единство этого творческого коллектива с нашим народом. Эта органическая слиянность с народом, с его чувствами, со всеми оттенками его эмоций в отношении памяти, дел и продолжения дела Ильича единственно и сумела научить как сценариста, так и режиссера, главного исполнителя и весь коллектив тому основному и неповторимому, что пленяет в этом фильме.
Вот чему следует учиться на этом замечательном и знаменательном фильме.
253 ЛЕНИН В НАШИХ СЕРДЦАХ*
Картина доходит до сердца1, в ней схвачена самая сердцевина того, чем велик большевизм, — гуманность.
Величие проблемы гуманности и человечности революции — вот что покоряет в фильме «Ленин в 1918 году», вот что заставляет с какой-то особой теплотой всматриваться в него, вот что надолго остается в душе после просмотра.
В этом основная, главная и сквозная тема фильма. От первой сцены Василия с женой и куском хлеба, от первого диалога Ленина и Горького, через все ситуации фильма, через все оттенки характеров и поступков действующих лиц сквозит тема великой гуманности революции, великой гуманности тех, кто ее совершает. Она собирается и воплощается в центральном и всеобъемлющем образе Ленина.
Сквозь это царство благородства, прямоты и человеколюбия черными нитями вьется паутина человеконенавистничества тех, кому чужды, ненавистны, враждебны победоносные пути пролетариата.
Темные силы контрреволюции собираются в единый сгусток — в страшный облик Фанни Каплан. Ей вторит вся подлая орда врагов, от Бухарина до деревенского кулака, до явных и открыто действующих противников.
Выстрел Каплан в высшей точке напряжения сталкивает эти два мира.
Ленин несокрушим.
Рабочий, обманным образом завербованный на убийство, опускает руку, услышав простую и убедительную речь Ленина.
254 Изобличенный, извивается под его взглядом кулак.
И только пуля, отравленная вражеская пуля, способна, и то на время, скосить великого носителя идеалов гуманности, скосить его тело, но бессильна перед силой и мощью его духа и всех тех, кто с ним.
Уже с первой сцены фильма поставлен основной вопрос всего произведения — проблема революционной гуманности. Горький говорит об этом с Лениным. Это еще тот Горький, который в те годы видел революционную гуманность «вообще». Тот Горький, который, не пройдя всех лет становления революции в борьбе с врагами, не сказал еще своих великих слов об уничтожении врагов революции как об акте высшей гуманности. И в разговоре с рабочим Гусевым Ленин дает Горькому тонкий и замечательный урок о классовости идеи гуманности и о неразрывности гуманности с беспощадностью к тем, кто стоит поперек ее пути.
Весь ход картины раскрывает эту мысль. И ход этой мысли неразрывен со всем тем, что переживаем мы сейчас.
Прекрасна картина «Ленин в 1918 году» в полноте раскрытия этих великих мыслей, этих великих идеалов. Прекрасна эта картина и в полноте художественного их воплощения.
Велика заслуга режиссера Ромма, везде присутствующего, везде направляющего людей, их действия и их поступки и везде умеющего сделать это так, как будто сами события, чудесно восстановленные, как будто сами люди, чудесно воссозданные, так именно и поступали, так именно и поступать должны были.
И режиссер и те артисты, что перешагнули вместе с ним за пределы первой серии, окончательно сжились с событиями фильма, с образами его героев. От первой серии ко второй Щукин вырос неизмеримо.
Казалось, что первая серия «Ленин в Октябре» — потолок возможностей создания образа Ленина. Однако сейчас, сличая обе серии, видишь, как растет замечательный артист Щукин в исполнении этой необыкновенной и единственной роли.
В первой серии образ Ленина кое-где казался произносимым по складам, казался составленным из отдельных характерных интонаций, движений, жестов, поз. Во второй серии черты этой стадии в работе кое-где еще заметны на Черкасове, который только что вступает в полное овладение таким замечательным образом, как Горький. Щукин же уже полной грудью дышит Лениным. Его уже не связывают условность жеста или документальная предначертанность интонации. Он говорит беспрепятственно, он действует свободно, я каждое движение, каждая интонация сами выливаются в те формы, которые дают нам возможность ощутить живого Ильича.
Соратники Щукина по первой серии — Охлопков и Ванин и ролях Василия и Матвеева — тонким мастерством углубили 255 и расширили то, что ими найдено прежде. Скромные и почти незаметные по масштабам своей деятельности в первой серии, они вырастают здесь в крепкий оплот внутриобщественной борьбы, куда они вписывают героические страницы.
И вторая серия картины вносит в их ряды новые образы, прекрасно раскрытые авторами сценария и режиссером и великолепно разыгранные артистами.
На первом месте здесь, конечно, Феликс Дзержинский (артист В. Марков). Какой внутренней проникновенности нужно достичь, чтобы сыграть сцену с чекистом-провокатором Синцовым. Сколько внутренней веры, сколько внутреннего приобщения к чистоте и величию своего прообраза нужно иметь, чтобы провести сцену, где лжец и предатель не выдерживает взгляда того, кто первым держал в руках карающий меч революции.
Великолепно режиссерски разрешен и блестяще сыгран отталкивающий образ Фанни Каплан, мобилизующий всю ненависть к негодяям, посягающим на сердце революции — на Ленина.
В трех-четырех нечленораздельных репликах, в двух-трех полунеподвижных позах, в одном-двух ракурсах сказано все.
На мгновение оторвавшись от неотразимого впечатления, производимого игрой [Н.] Эфрон, попробуйте сформулировать, что «сообщает» вам картина о ней. Кто она. Откуда она. Ее жизнь. Ее характер. Ее программа. Мотивы. Ничего не высказано, а вместе с тем все сказано. Такова сила воплощенного ею образа, что вы можете прочесть все до мельчайших подробностей, чем живет и дышит этот страшный антипод побеждающей революции.
Эти два образа — блестящее достижение второй серии. Лаконично. Броско. Скупо. Предельно впечатляюще здесь даны люди, и в них раскрыты громадные обобщения.
Вровень с игрой Щукина, вровень с решением этих двух новых фигур стоит и режиссерское разрешение центральной сцены картины — сцены покушения.
Здесь средствами кинематографического письма достигнута почти телесная осязаемость этой кульминационной точки фильма.
Вот кадры выхода Ильича из заводского корпуса. Ильич около старомодного автомобиля. Каплан на фоне черного, как катафалк, кузова машины. Белый кружок окна на его фоне. Подымающийся револьвер.
Все так осязательно, все до такой степени ощутимо, что кажется, будто выхвачено из круговорота наших страстных и деятельных дней 1918 года.
Такова магия искусства. Искусства, которое жестоким медленным ритмом держит вас прикованным к последующей сцене, когда от отъехавшей машины среди толпы осталась пустая безмолвная дорога, и хочется кричать до тех пор, пока это безмолвие не взрывается 256 на самом экране гневом и ненавистью народа к подлой убийце.
Замечательно мастерство тех, кто в коллективном труде создал это произведение. Замечательна тема фильма. И замечательны те чувства, которые в нас будит этот прекрасный фильм.
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году». Это прежде всего — Ленин в наших сердцах.
Это Ленин такой, каким он живет в памяти и чувствах нашего многомиллионного народа. Тот Ленин, чье великое дело мы завершаем.
257 «СТРАНУ СОВЕТОВ» — СТРАНЕ СОВЕТОВ*
Кого не увлекает возможность увидеть на экране живого Ильича, выступающего на митингах, призывающего к защите молодой Советской страны от интервентов и белогвардейских банд?
Кого не захватит кадр пустынного пространства, по которому бегают несколько человек с землемерными инструментами, если в следующем кадре это пространство оказывается той самой землей, на которой выросла наша гордость — Магнитогорск?
* * *
Тупой, беспринципный, политически вредный поход бывшего руководства ГУКа против документального фильма1 выражался сначала в «теоретической» полемике против документального жанра вообще. Потом «теоретические» аргументы, недостаточно веские и убедительные, были заменены административной «дубинкой» и полным зажимом творческой работы на этом участке.
Режиссерам-документалистам ставились всевозможные неперелазные производственные и денежные рогатки, хотя в обоих этих отношениях трудно найти более непритязательный жанр!
Эта расправа с документальным жанром покажется еще более возмутительной, если мы подробнее вглядимся в то, что сделано из интереснейшего материала, разысканного и собранного Эсфирью Шуб.
«Страна Советов»2 — не простой «набор» фактов, хотя и в таком виде фильм сделал бы честь блестящим изыскательским способностям автора. «Страна Советов» — не только кинодокумент. Это настоящее, полноценное произведение большого социального звучания.
258 В начале статьи мы ограничились перечислением наиболее ярких кусков первой части фильма, части, посвященной историческому нашему прошлому.
Вторая часть фильма говорит о настоящем нашей страны. Уже в первой части своей работы остро видящий режиссер выступил не только как археолог, просмотревший около миллиона метров старой кинопленки, чтобы отобрать то, что способно взволновать и захватить нас.
В самом выборе материала, в наиболее идейно впечатляющем сопоставлении отобранного режиссер выступил как подлинный художник. Труд его ничем принципиально не отличается от труда живописца или музыканта, выбирающего из всего многообразия звуков или красок именно те, а не иные…
Особенно остро это качество работы чувствуется во второй половине фильма, где показаны наши дни.
При показе современного материала задача найти вообще перерастает в задачу найти наиболее характерное, найти в документальном материале именно те его метры, которые поднимаются до обобщения зафиксированного ими факта. И этот отбор должен быть произведен из тысяч метров материала, часто весьма случайно охваченного камерой кинорепортера.
Закрепить талантливыми документальными фильмами не только хронику событий наших дней, но и живые образы нашей действительности так, как это делает Э. Шуб, — огромная и почетная задача нашей кинематографии и ее долг перед будущими поколениями.
И тут огромное впечатление от картины Шуб перерастает в волнение за все это кинонаправление в целом и за громадный долг нашего поколения перед будущим вообще.
В том, что «Страна Советов» так остро заставляет нас думать и волноваться о выполнении этого долга, — громадная заслуга фильма.
259 О РОМАНЕ-ФИЛЬМЕ «МЫ, РУССКИЙ НАРОД»*
Зимой 1936 года я поздравлял Всеволода Вишневского. Накануне я видел фильм по его сценарию «Мы из Кронштадта» и от души благодарил его за это замечательное кинопроизведение. В этот момент мы чувствовали себя как бы представителями двух братских флотов. Мы чувствовали себя так, как будто нашими руками старший брат — потемкинское Черное море пятого года жало руку младшему Балтийскому морю гражданской войны.
Но в этом рукопожатии было заключено для нас больше. В наших картинах одни моряки продолжали революционное дело других. И совершенно так же одна флотская картина продолжала путь советской кинематографии, начатый другой. Как та, так и эта совершала свой мировой рейс, призывая к революции и борьбе. Так по линии политической. Так же и по линии художественной.
Фильм «Мы из Кронштадта» был новым достижением по линии того эпического стиля советской кинематографии, который был начат еще во времена немого кино «Броненосцем “Потемкин”».
Но «Мы из Кронштадта» нес уже в зародыше новые черты на магистрали того же пути. Если в «Потемкине» матросский коллектив выступает прежде всего как монолит, давая лишь коллективный облик без слагающих его отдельных лиц, то фильм «Мы из Кронштадта» сделал следующий шаг. Сохраняя ту же спаянность обобщенного «лица флота», он одновременно набрасывал уже ряд отдельных персонажей.
Буржуазное кино не знает ощущения коллективности, единства единицы со всеми. Характерная ситуация для него разлад индивидуальности с обществом. Противопоставление личности и 260 общества. Столкновение интересов общества с интересами личности. Поэтому буржуазная традиция фильма о личности нам органически чужда; в ней нет того, что наиболее ценно нам, нам, неразрывно спаянным интересами класса прежде всего и выше всего.
В буржуазном обществе немыслимы слова Чкалова, наших героев летчиков, наших конструкторов и строителей о том, что любое наше достижение «строит вся страна». У нас же каждое достижение всей страны есть подлинный труд и победа каждого из нас.
Рабочий класс построен на органическом единстве интересов всех, которые неразрывно являются интересами каждого, и на интересах каждого, которые являются в то же время интересами всех. Понятно поэтому наше отрицательное отношение к пересадке в советскую кинематографию героев по «образу и подобию» героев буржуазных фильмов. Такая «пересадка» никак не могла найти энтузиастов среди тех, кому до конца дороги чистота и принципиальность наших советских бескомпромиссных путей развития советской кинематографии.
Под этим знаменем мы немало дрались бок о бок с Всеволодом Вишневским, давая резкий полемический отпор линии наименьшего сопротивления, линии заимствования и стилистического подражания образцам той кинематографии, которой наше еще немое кино первого периода своего расцвета — решительно наступило на горло не только идейно, но и художественно, заняв первое место на земном шаре.
Петр I, по крайней мере в словах Пушкина, после Полтавской битвы подымал заздравный кубок за побитых им своих учителей военного искусства — шведов.
Мы отдаем должное лучшим достижениям и прогрессивным проявлениям творческой мысли остальных 5/6 земного шара совершенно так же, как нет ни одного прогрессивного проявления в истории мировой культуры, которого мы не удостоили бы звания предка — нас, благодарных наследников мировой культуры!
Но прежде всего мы гордимся теми мировыми достижениями культуры, которые рождены умами советских людей, созданы руками наших блестящих ученых, гордимся конструкторами и пилотами, чьи победы вызвали единый взрыв восторга всех стран и приковали к стальным крыльям наших самолетов восхищение всех умов земного шара.
Естественно, что и в достижениях художественных, в образах величайшего из искусств, мы не идем на поводу у соседей, а ищем и находим свои необычайные, несоизмеримые пути. Как несоизмеримы мощь и благородство пролетарского государства с хищническим владычеством буржуазного и фашистского.
Второй крупный сценарий Всеволода Вишневского — роман-фильм «Мы, русский народ» — на новом этапе продолжает путь 261 нашей подлинно русской советской социалистической кинематографии.
Что пленяет в этом произведении? Здесь цельность и монолитность коллектива, плотного как единый организм, неразрывны с галереей монументальных, эпических образов и фигур. Они корнями уходят в коллектив и растут из него разветвлением, раскрывая чувства и мысли людей. Они эпичны, монументальны. Но совершенно так же как они сумели сохранить единое кровообращение с массами, они умеют сохранить свою бытовую и живую реальность, нигде не влезая на ходули и на котурны, нигде не застывая монументами, статуями командоров там, где место живым, полнокровным командирам.
«Мы, русский народ» не только радость мощного произведения — это еще победа принципа теоретической мысли, рождение самостоятельного, оригинального, классово-национального стиля и своего метода в ответ на определенный тематический запрос эпохи и класса. Облик вещи целиком растет из неповторимых предпосылок к своему народному и массовому кино, которое рождено Октябрем и за которое мы дрались, деремся и будем драться с наших экранов.
Подобно ему пока не построено ни одно произведение. Мне оно кажется растущим концентрическими кругами. Внутри один, два, три, четыре образа такой полноты очерченности и рельефности, неожиданности поворотов и всестороннего освещения, каких не знало до сих пор наше сценарное искусство, — это герои «первого ряда».
На шаг от них второй ряд. Столь же характерные, живые люди. Но скупее черты. Меньше нагрузка деталей и красок.
Третий круг. Рисунок еще более облегчен.
Дальше больше. И вот уже люди, данные двумя штрихами. Вот одним. И вы не заметили, как от протагонистов перешли в гущу тех, которые слагают единый массив целого, того целого, к которому в равной степени принадлежат все эти герои. Так выпукла, решающа и та одна-единственная черта, которая выхватывает из однотонности общего плана тот персонаж или другой, тот или иной профиль.
Краткость статьи позволяет остановиться лишь на одной какой-нибудь черте. Я выбрал — метод и постарался связать его с прошлым советского кино, с теми общими идеями, которые определяли и его прошлое и настоящее. Я останавливаюсь на этом, не выходя за пределы общего суждения о методе.
Но нельзя не остановиться на поразительном раскрытии отличия социалистического народного патриотизма от «патриотизма» самодержавного: он дан в образе врага — полковника. Патриотизм его в своей последовательности доходит до предательства родной земли.
262 Образы людей, ситуаций, событий не могут не врезаться в сердце зрителя своим трагизмом. Не могут не пленить его чувств и эмоций красотой своего подвига. Не могут не покорить читателя дыханием истинного социалистического патриотизма страны, которая является родиной всех трудящихся мира. Страны, за которую готовы драться и умирать как за свою родину все трудящиеся — от залитых кровью полей Испании до равнин Китая.
В декабре 1914 года Ленин писал: «Интерес (не по-холопски понятой) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев» [В. И. Ленин, Соч., изд. 4, т. 21, стр. 87].
Вдохновенные страницы сценария Вишневского напоены словами Ильича. Как никогда, они выражают совпадение социалистических интересов всех пролетариев мира, сплоченных и сплачивающихся на «последний решительный бой» с мировым фашизмом.
263 НАМ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ*
Листая страницу за страницей этот альбом1, вспоминаешь страницу за страницей эти двадцать лет, в которых и сам участвуешь пятнадцатью годами.
Вот все мы здесь — почти что сверстники, почти однолетки, если не считать нескольких из нас, начавших свою кинобиографию до революции, и нескольких молодых, лишь за последние годы примкнувших к кинотворчеству.
Мы представлены здесь фотографиями, подобранными умелыми руками, фотографиями, в которых запечатлено коллективное лицо родного нашего искусства. Лица наших актеров, кадры наших операторов, замыслы наших сценаристов, мастерство наших режиссеров, искусство наших осветителей, выдумка наших художников.
Одна семья, разноречивая, разностильная, своеобразная и многоголосая и вместе с тем объединенная в одном основном чувстве — в любви к своей стране, в преданности делу революции, делу построения бесклассового общества.
Каждый из нас по-своему, своими путями шел и пришел в кинематограф.
Вот химик Пудовкин; вот учитель Довженко; вот я, инженер; вот Дзиган, которого я еще помню актером студии Рахмановой2; вот Козинцев, Юткевич и Кулешов, пришедшие от живописи; Александров — киномеханик, театральный реквизитор и электротехник; чекист Эрмлер, поэт Шенгелая…
И если бы не революция, кто знает, собрал ли бы нас 1940 год между крышками одного и того же альбома как тех, на чью долю 264 выпали счастье и честь строить первые двадцать лет социалистической кинематографии.
Мощный ураган Октября вырвал нас из самых разнообразных деятельностей и профессий, увлек нас своим могучим потоком и, слив воедино все то, что мы несли из разных областей деятельности и знания, заставил нас работать над великим коллективным созданием — нашей кинематографией.
Я привел лишь несколько штрихов режиссерских биографий, но если припомнить их все, если выписать все те пути и перепутья, улицы и переулки человеческой деятельности, откуда пришли в нашу семью полки операторов и художников, композиторов и актеров, лаборантов и монтажеров, то вряд ли останется закоулок человеческой жизни, который не отдал своего представителя в многолюдную и многонациональную армию нашей кинематографии.
И универсальность областей, из которых сошлись все эти люди на единое общее дело, — великое достоинство: это оно помогает ответно отобразить многообразие жизни, приславшей нас в это наиболее гибкое, живое и жизнеотражающее искусство социалистической страны и коммунистической эпохи.
Это же многообразие и богатство жизни, из которой мы пришли, наложило и свой особый, острый индивидуальный отпечаток стиля и манеры на произведения наших мастеров. Неповторимость почерка большинства из них почти столь же характерна, как и многообразие подхода к замыслам и осуществлению их.
Когда-то, в разгар увлечений двадцатых годов, Маяковский предлагал печатать стихи без подписей, считая их всеобщим народным достоянием. Маленькие поэтики тогдашних литературных кафе ехидно тявкали по этому поводу: «Ему хорошо, его и так всякий узнает!» Из наших фильмов можно спокойно вырезать вводные титры и безошибочно, по стилю и манере, отгадать своеобразие Чиаурели или Довженко, почерк Козинцева и Трауберга или подход к явлениям Барнета.
И уже хотя бы из этого соображения приходится делать выводы о необычайной живучести членов нашего коллектива кинематографистов, столь резко очерченных теми творческими путями, которыми они идут, методами, которые они несут, физиономией, которую показывают.
Но конечная цель у всех едина — социалистический реализм. Стиль их, метод, манера письма — не более как разные виды оружия, которыми устремляется к конечной цели единая армия.
Сравнение с армией здесь вовсе не случайно. Ибо именно в ней, в нашей Красной Армии, также становятся бок о бок люди из разных концов нашей страны, люди когда-то разных профессий, но люди, которые плечом к плечу идут в бой за те же идеи, за те же идеалы, за те же конечные цели.
265 Нигде среди искусства не развито так сильно это чувство плеча и соседа, как в кинематографии.
Ибо кино — наиболее коллективное из искусств не только внутри каждой отдельной съемочной группы, где успех может строиться лишь на абсолютном творческом контакте всех членов группы, но и во всей кинематографии в целом.
Ибо нигде среди искусств не чувствуешь так остро, что каждое продвижение вперед идет за счет учета всего того, что делается в целом, и нигде нет такой безотложной заботы о том, чтобы вечно двигаться вперед, как именно во всех областях киномастерства.
Это постоянное рвение вперед, это неустанное искание нового кладет на наше кино отпечаток вечной юности и необычайно полнокровной молодости.
Иногда мы ошибаемся, иногда расшибаем себе лбы, нередко спотыкаемся, но это не от дряхлости или бессилия, а от неугомонного биения ищущей мысли, от желания все шире и шире раздвинуть рамки нашего искусства, от мечты сделать его еще более всеобъемлющим, еще более широким по своим возможностям.
И когда в дни двадцатилетия встречаемся мы — москвичи, тбилисцы, ленинградцы, киевляне, ереванцы, ташкентцы и бакинцы, — мы все чувствуем нашу творческую близость и творческую молодость.
266 «ДИКТАТОР»
Фильм Чарли Чаплина*
1. ЧЕРНАЯ БАБОЧКА
Ирония судьбы захотела того, чтобы черная бабочка одинакового формата усов опустилась на верхнюю губу двух совершенно различных людей. Один из них — придуманный, маска. Второй — реальный, во плоти и крови.
Первый из них — один из самых популярных людей на земном шаре.
Второй — несомненно наиболее ненавистный.
«Он украл мои усы! — весело кричал Чаплин на страницах газет, обвиняя Гитлера в плагиате. — Я первый их выдумал!»
Гитлер казался не более чем комедиантом, не более чем паяцем — реплика Чаплина об украденном гриме изобличала его клоуном.
Но шли годы, и оказалось, что Гитлер — не просто паяц, клоун, комедиант, но кровавый маньяк.
И Чаплин создал «Великого диктатора»1.
2. О ЧЕМ ФИЛЬМ?
Фашистский диктатор и Маленький Брадобрей из еврейского местечка оказываются двойниками. Обоих их играет Чаплин.
… Знак Двойного Креста2 — над порабощенной Таманией. Днем и ночью стук тяжелых сапог раздается на ее улицах. И в темноте ночи из-за каждого угла глядят озверелые лица одетых в военную форму штурмовиков.
В воздухе слова: «штурмовые отряды», «концентрационные лагеря», «диктатор».
267 Вдалеке, во дворце на высокой горе, сидит наиболее ненавистный человечеству человек Хинкель, диктатор Тамании. Безумное существо, считающее себя призванным покорить весь мир, оставить в нем одних только арийцев, а самому стать верховным вождем вселенной.
И только Маленький Брадобрей не замечает тех изменений, что произошли в мире, ибо он многие годы отсутствовал из гетто. Немало лет прошло с того дня, когда он был контужен в первой мировой войне. Годы эти он провел в далеком госпитале. Но в один прекрасный день ему наскучил госпиталь, он выскользнул из него и пробрался к себе домой.
Он весело принялся за приведение в порядок своего маленького брадобрейного хозяйства: вычистил паутину в углах, очистил от пыли гроссбух и стал аккуратно счищать полосы белой краски, которыми кто-то измазал его «предприятие».
Он не заметил при этом, что полосы эти составляли слово и что слово это было: еврей.
Необдуманное действие Маленького Брадобрея не ускользает от сторожевых псов Двойного Креста: налет штурмовиков, разгром и погром проносятся в ответ на этот поступок через многострадальное гетто. От погрома страдает и милый старик мистер Джекель. И жена его. И маленькая трогательная прачка Ханна (Полетт Годдар), стирающая белье для всей округи…
… Гетто оправилось от удара. И наконец у Маленького Брадобрея хватило мужества пригласить маленькую прачку на воскресную прогулку. Все гетто высыпало поглядеть на то, с каким гордым и независимым видом, размахивая тросточкой, он вывел ее на улицу. Но не успели они отойти двух шагов, как их пригвоздил к месту исступленный рев диктатора, несшийся из громкоговорителя. Он вещал о смерти и гибели. И новый налет штурмовиков. Ищут Маленького Брадобрея, посмевшего противиться диктатору.
Маленькая Ханна прячет его на крыше. Но его находят и там. Короткая погоня… Концентрационный лагерь…
Брадобрею удается бежать. С ним приятель — Шульц, когда-то принадлежавший к штабу диктатора, но посмевший ему высказать правду в лицо и за это попавший в один лагерь с Брадобреем.
Шульц первый замечает удивительное сходство между Маленьким Брадобреем и диктатором.
Рост, фигура, лицо — вплоть до черной бабочки усов — все у них одинаково. Но даже Шульц не ожидал того, что случилось с ними, когда, спасаясь от преследования, они достигли Остерлиха (Австрия). Они не знали, что Остерлих ожидал въезда диктатора, только что присоединившего эту страну к своим владениям.
Маленького Брадобрея принимают за диктатора. Его тащат к лесу микрофонов, заставляют говорить.
268 3. ДВЕ РЕЧИ
И вот с экрана несется вторая речь, столь знаменательная для этого знаменательного фильма. Первую речь произносил Чаплин в начале фильма в образе Хинкеля. Это была одна из тех знаменитых чаплиновских речей, первые эскизы которых мы слышали на открытии памятника в «Огнях большого города» или в куплетах «Новых времен»3.
Без слов, без смысла, напором нечленораздельных воплей, выкриков и звуков неподражаемо передана бессмысленность, демагогия, истерия речей мирового демагога и преступника, чье имя останется нарицательным для обозначения кровожадности, жестокости, изуверства и насилия.
И вот в ответ на эту речь Хинкеля с экрана несется речь Маленького Брадобрея, принятого по недоразумению за Хинкеля, ставшего на его место.
Перед лесом микрофонов, перед толпами людей произносит свою речь Маленький Брадобрей. Пропала его застенчивость.
Преодолены испуг и нерешительность: и сквозь микрофон уже несется не его голос. В это мгновение его голосом говорят все притесненные народы, где бы они ни страдали под бесчеловечным игом фашизма.
Где-то далеко скрываются Ханна и люди его местечка, потерянные во мраке и ужасе ожидающей их участи. И слова Маленького Брадобрея, направленные к ней, звучат ободрением и призывом не только к ней, но и ко всем тем, кто во имя человечества поднимается на борьбу с фашизмом.
«… Смелее, Ханна! Смелее, ибо надежда не умерла… Где-то снова взойдет солнце и для тебя, и для нас, и для всех страдающих на этой земле… Человечество не будет побито!»
4. САМОЕ ГЛАВНОЕ
Характерно: именно так, в такой тональности пишут об этом фильме газеты и журналы Америки.
Именно об этом говорят отзывы и описания.
Где-то на втором плане восторги перед сатирической обрисовкой Хинкеля с Двойным Крестом и Наполини с игральными костями на черной шапочке с кисточкой. Где-то на третьем месте описание комедийных трюков — «гэгов».
Вскользь отмечают, что военные эпизоды кажутся вырезанными из старого «Чаплина на фронте», смеются над сценой двух диктаторов на парикмахерских креслах, мимоходом задерживаются на технике головокружительного падения Чаплина сквозь стеклянную крышу и ряд этажей.
269 Но, повторяю, на сей раз не эти детали увлекают тех, кто пишет о картине.
Ненависть к фашистским насильникам — вот что увлекает тех, кто видит фильм. Эпизод стертой надписи как бы стирает частный характер событий в еврейском местечке и ставит на его место судьбу целых малых стран и целых наций, которые изнывают от фашизма, независимо от того, именуется ли эта страна Бельгией, Норвегией, Грецией, Голландией, Югославией, Францией или Чехией.
5. ВО ВЕСЬ ГОЛОС
И последний «трюк» в этой картине — Чаплин впервые заговорил своим собственным голосом: обличительную речь он говорит своими словами, от себя.
Формалисты и эстеты его в этом даже упрекают: ткань произведения им дороже живого человеческого призыва!
Но не таков Чаплин. Из картины в картину он набирал в легкие воздух социального протеста.
В коротких фильмах и в «Киде»4 это был протест против деления человечества на «добрых» и «злых». Понадобился кровавый кошмар фашизма, чтобы наконец во весь голос прозвучал протест Чаплина против этого отвратительного порождения капиталистической реакции, против фашизма. И в этот момент с немого и музыкального чаплиновского экрана звучит его человеческое и человечное слово.
И справедливо расценивает звучность этого голоса американский журнал «Фрайдей»:
«Адольф Гитлер имеет миллионы врагов, но один из самых страшных противников фюрера — маленький человечек, родившийся в том же самом году, что и вожак фашизма, — Чарли Чаплин».
6. «… ГДЕ-ТО СНОВА ВЗОЙДЕТ СОЛНЦЕ»
Эти слова надежды Маленького Брадобрея осуществлены. Маленький Брадобрей может быть спокоен.
Фашизм будет уничтожен!
270 МОЛОДЫЕ ЛЮДИ АМЕРИКИ!*
Обычно мы, советские кинорежиссеры, обращаемся к вам своими произведениями и говорим с вами нашими кинофильмами.
Сегодня я обращаюсь к вам живым словом.
Ряд лет тому назад я посетил вашу страну1. Я вынес много теплых воспоминаний из моей поездки в САСШ. Но одним из самых приятных были встречи с американской молодежью.
Мне пришлось неоднократно выступать перед студенчеством Америки в ряде университетов. Университеты (the varseties) Колумбийский, Чикагский, Бэнер Скул Иельского университета гостеприимно приглашали меня рассказать о советском киноискусстве.
Домик вашего великого поэта Лонгфелло в Бостоне приютил меня на ночлег, когда я выступал у вас в Гарвардском университете.
Это были беседы не только об искусстве, но и вообще о нашей стране, о тех великих культурных задачах, которые она себе ставит, и о великой борьбе за дело цивилизации, которую она ведет.
Я помню тот громадный интерес, с которым американская молодежь забрасывала меня вопросами, интересуясь всем прогрессивным и прекрасным, с чем связана моя страна.
Теперь мои тогдашние слушатели вышли из молодежного возраста. Сейчас они уже полновозрастные граждане своей великой страны. Но в их сердцах несомненно осталась та же любовь ко всему живому, человечному и прекрасному. Ради этих же идеалов предшествующие им поколения студентов гибли героической смертью на полях Франции, сражаясь против первого наступления германского варварства в первой мировой войне. Их имена свято хранят родные их университеты.
271 Год от года на смену прежним поколениям приходят новые потоки молодежи, вступающей в университеты, и тот же великолепный свободолюбивый и патриотический дух традиций Вашингтона и Линкольна движет и их юношеским энтузиазмом. Этот дух свободы и независимости зовет их, зовет вас сейчас к новым великим делам.
Сейчас, когда кровожадное чудовище фашизма гитлеровской Германии посмело растоптать в Европе все ценности человеческого духа, я недаром вспоминаю о вас, студенческая молодежь Америки. Ибо ваши университеты — очаги цивилизации и культуры, ибо вы — носители света и культуры.
И я чувствую здесь, отделенный от вас океанами, как растет в вас чувство гнева и ненависти к фашистскому варварству. Дайте волю этому чувству!
И в деле сближения двух великих народов голос американской молодежи должен звучать особенно бодро, особенно боево, особенно громко. Участие в этом деле должно быть особенно активно, ибо дело идет о счастье вашего личного будущего, о счастье всей молодежи всего мира.
И это счастье возможно лишь тогда, если навсегда будет уничтожено фашистское варварство.
Преодолевая гигантские трудности, СССР и Англия победоносно ведут эту героическую борьбу.
И я верю, что близок час, когда энтузиазм американской молодежи сольется в едином энтузиазме с молодежью советской и английской.
Во имя культуры и цивилизации фашизм должен быть уничтожен!
Во имя светлого будущего всей молодежи мира — фашистское варварство должно быть раздавлено!
Царство света уничтожит царство крови и тьмы!
Фашизм будет уничтожен!
272 МИСТЕР ЛИНКОЛЬН МИСТЕРА ФОРДА*
Если бы ко мне зашла праздношатающаяся фея и сказала бы: «Сергей Михайлович, мне сейчас нечего делать. Хотите, я для вас проделаю маленькое волшебство?
Хотите, по мановению моей палочки, стать автором любой из когда-либо сделанных американских картин?»
Я не только согласился бы, но тут же безоговорочно назвал бы картину, автором которой я был бы счастлив быть. Это был бы [фильм] «Юный мистер Линкольн», сделанный Джоном Фордом.
Есть картины более эффектные и более богатые.
Есть картины более занимательные и более увлекательные.
Есть более сногсшибательные.
Даже у самого Форда.
Любители кино проголосовали бы, вероятно, за «Осведомителя».
Широкая публика за «Дилижанс».
Социологи — за «Гроздья гнева»1.
«Мистер Линкольн» даже не отмечен бронзовой фигурой — «Оскаром», премией, которую ежегодно выдает Голливудская академия за лучшие фильмы.
И все же из всех сделанных доселе картин я больше всех хотел бы, чтобы именно этот фильм был бы сделан мною.
Мы все, работающие в кино, так привыкли любить только самих себя, что для нас просто праздник, когда есть возможность объясниться в любви какому-нибудь другому фильму, сделанному кем-то другим. От души это делаю здесь!
273 Но… За что же я так люблю этот фильм?
Прежде всего за то, что он обладает самым чудесным качеством, каким может обладать произведение искусства, — за поразительную гармоничность всех слагающих его частей.
За удивительную гармонию целого.
Я думаю, что наша эпоха особенно остро тоскует именно по гармонии. Мы с завистью глядим в прошлое — любуемся солнечной гармонией греков.
Эта тоска, конечно, не бесплодна.
Именно наша страна уже четверть века борется за то, чтобы в гармонии благоденствовало наше государство.
Наш век вряд ли будет назван вслед за Бальзаком веком потерянных иллюзий: наш век, хотя бы для одной шестой части мира, — век положительных идеалов; мало того — век реализации этих идеалов.
Но, взятый в целом, земной шар несомненно переживает век потерянной гармонии.
И неслыханная мировая война, растоптавшая наши сады и памятники культуры, наиболее вопиющее и вместе с тем закономерное увенчание этой эпохи.
И именно поэтому гармоничные произведения столь редки в нашу эпоху, именно в нашу эпоху так особенно привлекательны. Ибо они через свой образный строй выражают ту ответную, активную противоборствующую тенденцию внутри нашего дисгармоничного времени, которая заставляет народы лихорадочно искать умиротворения, съезжаться в лице своих представителей на конференции, вступать в национальные объединения и включаться в объединения наций.
В ряде немногочисленных произведений нашей эпохи, обладающих почти классической гармонией, «Мистер Линкольн» мистера Форда занимает одно из самых почетных мест.
Однако в картине этой вовсе не только удивительное мастерство, с которым ритм монтажа отвечает тембру фотографии; звучание губной свиристелки идеально вторит медленному бегу мутных вод и хлопотливо семенящей походке маленького мула, на котором долговязый Эб едет мимо реки Потомак2.
Не только удивительное умение, которое заставляет стилизованную под дагерротип съемку звучать в унисон морализующему характеру сентенциозных речей Линкольна, или эксцентрическую манеру поведения Генри Фонда3 оберегать подлинно трогательную ситуацию от налета сентиментальности, а драматическую — подыматься до пафоса, как в потрясающем уходе Линкольна в пейзаж в самом финале фильма.
274 Дело здесь гораздо глубже: [оно] в тех основах и предпосылках, из которых растет само это мастерство, сама эта гармония.
Источником их служат недра народного и национального духа, из которых единственно и могут возникать подлинно прекрасные творения.
Исторический Линкольн сам вырос из гущи своего народа, вобрав в себя его наиболее типические и обаятельные черты.
Так же и сам фильм кажется выросшим целиком из обаяния образа этого человека, как бы собравшего в себе лучшие из лучших прогрессивных традиций Америки.
И гармоничность произведения искусства есть как бы образное отображение этих великих общечеловеческих принципов на одном из самых прекрасных участков творческой деятельности человека.
Так сквозь образ своего исторического героя Джон Форд соприкасается не только в сентенциях, но и в самом строе своего произведения с теми принципами, носителем которых был исторический Линкольн, так глубоко выражавший эти тенденции лучшей части своего народа.
Перед нами чудо оживших дагерротипов.
Те же «несказанно» клетчатые платья — узкие в талии и необъятные ниже, такие же локоны, выбивающиеся из-под таких же чепцов, такие же серьги, соревнующиеся с локонами изыском формы; такие же сюртуки и цилиндры, трости и жилеты; те же самые бороды, коки, клоки волос, нелепые военные формы и воротники; ожившие, словно боги древности вдохнули дыхание жизни не в глиняные фигурки, а в эти картинки, но все в подлинном движении — не только живом, но бешеном, в бешеном движении веселья провинциальной ярмарки.
Это они, ожив, тянут с двух концов за канат, протянутый над старательно замешанной лужей грязи, куда старается втянуть другую каждая из двух групп веселящихся людей, отчаянно тянущая свой конец веревки.
В последнее мгновение к группе почти проигравших подходит помочь еще одна фигура — длинная, нескладная из галереи таких же дагерротипных американских портретов провинциальных юношей прошлого.
Он чуть-чуть передергивает: у него очень длинные руки, и он пользует их длинноту — в критический момент хватается за колесо стоящей рядом повозки.
Находчивость в критический момент решает все, — кажется, говорит его абсолютно невинный взгляд.
И гроздья противников с другого конца каната с размаху летят в топкую грязь гигантской лужи под восторженные крики болельщиков и зрителей.
А оживший дагерротипный высокий забияка уже объедается домашними пирогами, напеченными старательными домохозяйками 275 городка для состязаний в том, кто больше сумеет съесть в столь характерном для Америки соревновании.
Так образ за образом эпохи дагерротипа как по волшебству оживают в реальности их праправнука — экрана.
Ибо это уже живые экранные образы первых частей фильма об Аврааме Линкольне, с бесконечным чувством эпохи, атмосферы и национального характера брошенные на полотно экрана уверенной рукой Джона Форда.
И среди них ходит этот кажущийся гигантским ребенком — переростком юный Линкольн. Здесь он ввязывается в борьбу групп, дерущихся за первенство по канату.
Тут «переедает» состязающихся в поглощении ватрушек. А там обгоняет всех в искусстве колуном обработать срубленное дерево.
С виду нескладный и даже ленивый — везде именно он оказывается в нужный момент наиболее находчивым. Везде у него самая практическая сноровка в трудовом процессе, везде у него — наибольшая выдержка; везде наибольшая подготовленность к борьбе.
Идеальным бойцом он предстает перед нами с самого начала картины.
Неповоротливый, как в молодости Илья Муромец, с нарочито протяжным говором, медлительностью жеста — и все это лишь для того, чтобы успеть пытливым взглядом высмотреть пробел в обороне противника, неосторожное движение у конкурента, слабое место у того, кто с ним состязается.
Как в анекдоте о торгаше-заике, для которого заикание было временем самого деловитого обдумывания тактического хода в убеждении собеседника, нового довода в споре, нового изгиба тактики в поединке остроумия.
События сюжета картины не доводятся до всенациональной борьбы Линкольна за единое государство. Они не доходят даже до ожесточенной предвыборной кампании Линкольна под лозунгом свободы против лозунгов реакции и выборов его президентом.
Но с первых же шагов полушутливого показа молодого Эба в окружении ярмарочных состязаний вы чувствуете в нем борца, человека неутолимой воли и активности и вместе с тем удивительно простого и простецкого парня из народа, как бы воплощающего такие человечные и человечески чудные слова любимой поговорки Карла Маркса о себе: «Ничто человеческое мне не чуждо», ибо действительно, только тому, кому все человеческое не чуждо, может до конца быть близким все то, что касается судеб человеческих.
Однако если Форд применил эту прелюдию не для будущих картин политической борьбы Линкольна на путях к президентству и не для гигантских полотен борьбы президента Линкольна за идеалы демократии в пределах Америке доступных горизонтов XIX века, то хитрый мастер своего дела Форд не зря набросал 276 перед нами все эти сцены и детали как необходимую прелюдию к самому фильму о Линкольне.
Ибо частный сюжетный, почти анекдотический, почти бульварно-детективный эпизод из биографии великого человека будущего с громадной силой уже вобрал не в шутку, а всерьез в один кулак синтетического образа все те качества великого человека, которыми так блистал в своей дальнейшей историко-политической роли сей американский гигант.
* * *
Однако что я, собственно говоря, знаю о мистере Линкольне историческом?
Вероятно, не более того, что знает о нем каждый более или менее образованный человек.
Все мы знаем несколько коварных интриганов зарубежной истории — Екатерину Медичи, Мазарини, Фуше…
Несколько лукавых дипломатов — Талейрана, Меттерниха…
Несколько явно выраженных злодеев — кардинала де Рэтца, Цезаря Борджиа, маркиза де Сада…
Несколько крупных завоевателей — Аттилу, Цезаря, Наполеона.
И гораздо меньшее число великих гуманистов.
Но среди них на одном из первых мест, конечно, — великий по своей скромности адвокат из Иллинойса, в дальнейшем первый президент Соединенных Штатов Америки — Авраам Линкольн.
Мы все знаем, что именно с его именем связано освобождение негров от рабства и благополучное завершение братоубийственной войны Севера и Юга.
Вчитываясь в историю подробнее, мы узнаем, что Линкольн в этом деле поступал несколько менее решительно и смело, чем бы нам хотелось, и значительно медленнее и осмотрительнее, чем это, пожалуй, было необходимо.
С другой стороны, мы знаем, что роль руководимого им Севера в этом деле была не до конца бескорыстна.
И знаем также, что многие из этих освободителей взяли свой послевоенный реванш закабалением и эксплуатацией не только черных, но и белых рабов.
Но вместе со всем этим нам также хорошо известно и то, что не только носителем, но и живым воплощением положительных идеалов свободы и справедливости для грядущих поколений Америки остался и остается великий образ именно этого неутомимого борца, увенчавшего свой победный путь во имя свободы, справедливости, единства и демократии и павшего от руки убийцы в ложе «Форд-театра» в Вашингтоне 14 апреля 1865 года.
277 Есть почти безошибочный критерий отношения народов к своим правителям и вождям. Это прозвища и клички, с которыми общественные деятели уходят в историю.
В конце X века кончается династия Каролингов на характерной фигуре Людовика Пятого… «Бездельника».
Иной кличкой — Карлом «Смелым» входит в историю последний герцог Бургундский (XV век)
В зловещих отсветах жестокости сохранила народная память образ дочери Генриха VIII — Марии «Кровавой».
Но, пожалуй, самое мудрое народное прозвище — это то, которым народ окрестил московского царя Ивана Васильевича IV.
Разгромленные им феодалы вопили о кровожадности, жестокости, беспощадности. Народ же назвал его «Грозным».
Вот пятнадцать американских прозвищ Линкольна, дошедших до нас.
В них ухвачен образ Линкольна от внешности до глубины его исторической роли.
Таким он рисовался современникам:
«Великий Освободитель», «Президент-Освободитель», «Президент-Мученик», «Мудрец из Спрингфилда», «Человек своего народа», «Великое сердце», «Честный Эб», «Старик», «Отче Авраам», «Старый Эб», «Дядя Эб», «Адвокат-остряк», враждебное (идущее с Юга) «Диктатор», ироничное «Долговязый», недружелюбное «Ворона».
Последние два касаются внешности.
Какова же была эта внешность?
Американские режиссеры удивительно умеют выбирать людей, которым они поручают воплощать образы литературы или собственной фантазии.
Как великолепны и каждый раз неожиданно разнообразны аспекты, которыми заставляет жить тот же Джон Форд актера в роли пассажира в белой шляпе («Дилижанс»), в роли проповедника О’Кейси («Гроздья гнева») или начальника тюрьмы («Остров акул»)4.
Как на месте Виктор Маклаглен в «Осведомителе» или Томас Митчелл — пьяница доктор в том же «Дилижансе» и пьяница же доктор в «Урагане»5.
Но кажется, что все они — и сам Форд в первую очередь — только ученики истории самой Америки, которая для воплощения своего идеала с таким поразительным, я бы сказал, художественным чутьем избрала именно образ и фигуру Линкольна!
Когда-то мировая печать писала о Папанине, что невозможно придумать образ человека, более подходящего к тому, чтобы ступить хозяйской ногой на Северный полюс.
278 Но поручите любому мастеру «очеловечивания» исторических монументов придумать подходящую, лишенную ложного пафоса фигуру носителя идеалов американской демократии, и он никогда не догадался бы создать подобную экстравагантную фигуру, своей внешностью одновременно напоминающую допотопный семафорный телеграф, ветряную мельницу и огородное чучело, даже облаченное в обязательный для таких случаев длиннополый сюртук, увенчанный мохнатым цилиндром типа печной трубы.
Но, вероятно, именно через эти внешние черты облика так патетична и полна пафоса эта историческая фигура, свободная не только от всякой позы, но даже простейшей заботы о себе. Все дело его жизни уходило на самое бескорыстное служение интересам своего народа.
Вне фильма образ Линкольна я знаю по сотне фотографий, которые в один альбом собрала заботливая рука эмигранта из занятой Гитлером Венгрии, гостеприимно принятого Америкой.
Стефан Лоран составил его в ответ на вопрос своего десятилетнего сынишки: «Кто такой Линкольн?»
С каждой страницы альбома глядит на нас с годами меняющийся и сутулящийся облик этого фанатика.
Если бы понятия свободы и демократии по образцу китайской письменности выражались иероглифами, то иероглифом этим стал бы эксцентрически изломанный силуэт этого высокого и сутулого человека в сюртуке и цилиндре, с громадными руками и изломанными движениями.
Поражаешься, с какой внутренней интуицией и с каким мастерством перевоплощается миловидный молодой человек Генри Фонда в это подобие Дон-Кихота, чьи доспехи — американская конституция, чей шлем — традиционный цилиндр адвоката из маленького местечка, чья Россинанта — семенящий маленький мул, с которого он длиннейшими ногами достигает земли, той самой земли, объединению которой он отдал силы, пафос и жизнь.
Именно таким он воссоздан в картине и живым проходит перед нами по экрану.
Правдивость образа и облика в картине можно было бы проверить миллионами страниц, написанных в Америке о Линкольне (одних пьес о нем написано несколько тысяч!).
Но достаточно трех штрихов, сохранившихся о нем, например, в моей памяти, чтобы убедиться в том, что перед нами чудо воплощения образа прошлого в живом кинообразе современности.
Первое — клок первого впечатления о первом приезде в Нью-Йорк нового президента, избранного провинциальным большинством вопреки антипатии к нему со стороны уже тогда достаточно могучего штата.
Второе — анекдот, относящийся ко времени, когда этот человек уже железной рукой держал бразды власти.
279 И третий — где-то прочитанный беглый набросок воспоминаний, закрепивший интимные страницы быта обитателя Белого дома в самые критические моменты совершения национальных, государственных и народных судеб Америки, в разгар гражданской войны Севера и Юга.
«… Я с трудом забуду тот случай, когда впервые я увидал Авраама Линкольна. Это было, по-видимому, 18 или 19 февраля 1861 года. Был довольно приятный день в Нью-Йорке, когда он прибыл с Запада, с тем чтобы пробыть здесь несколько часов и затем проследовать дальше в Вашингтон, где готовилась церемония присяги. Я видел его на Бродвее вблизи от того места, где сейчас расположен почтамт. По-моему, он прибыл со стороны Кэнэл-стрит и остановился в Астор Хаузе. Площади, тротуары, все окрестные улицы были заполнены густой массой народа — многими тысячами людей. Омнибусы и другие средства передвижения сюда не допускались, и это создавало непривычную тишину в этой деловитой части города. Но вот появились две или три обшарпанных кареты и, с трудом проложив себе путь сквозь толпу, остановились у входа в Астор Хауз. Из одной из этих карет, не торопясь, вышел высокий человек, остановился на тротуаре, глянул вверх на гранитные стены и пышные очертания старого отеля, — затем, потянувшись и расправив члены, повернулся и в течение доброй минуты стал медленно и добродушно разглядывать облик необъятных и молчаливых толп. Не было ни речей, ни приветствий, не было сказано ни единого слова. Но тишина эта таила в себе тревогу. Осторожные люди опасались какого-либо выпада или оскорбительной выходки в отношении вновь избранного президента, ибо он не располагал никакой личной популярностью в Нью-Йорк Сити и очень малой политической. Но, видимо, установилось некоторое молчаливое соглашение о том, что если малочисленные сторонники м-ра Линкольна, присутствующие на встрече, целиком воздержатся от какой-либо демонстрации своих чувств, то и громадное большинство тех, кого можно было бы назвать чем угодно, кроме симпатизирующих ему, со своей стороны поступят так же, — результатом явилась угрюмая, ничем не прерываемая тишина, которая, вероятно, никогда до этого случая не характеризовала такую громадную нью-йоркскую толпу.
Почти на этом же месте мне довелось видеть Лафайета, посетившего Америку в 1825 году. В течение последующих лет мне приходилось неоднократно видеть и слышать, как приветствовали Эндрю Джексона, Клэя, Уэбстера, венгерца Кошута, флибустьера Уолкера, принца Уэльского во время его посещения и других знаменитостей, своих и зарубежных, — весь тот неописуемый рев массового гипноза, несравнимого ни с единым иным звуком во вселенной, — 280 эти восторженные взрывы громовых выкриков из бесчисленных распоясавшихся человеческих глоток. Но по данному поводу ни одного голоса — ни одного звука. С крыши омнибуса (отведенного в сторону и зажатого между тумбами и толпами), как уже сказано, я прекрасно видел все, и прежде всего мистера Линкольна, его вид и походку, — его абсолютное спокойствие и хладнокровие, — необычайную и нескладную высоту его фигуры, совершенно черный костюм, печную трубу цилиндра, сдвинутого на затылок; темный загар его кожи; обветренное и морщинистое — с острым взглядом — лицо; черные всклокоченные волосы; непропорционально длинную шею; и его руки, заложенные за спину, в то время как он стоял, разглядывая народ. Он с любопытством глядел на безбрежный океан лиц, и океан лиц возвращал ему этот взгляд с не меньшим любопытством. В обоих была такая же искра юмора, почти фарса, какие Шекспир вплетает в самые мрачные свои трагедии.
Окружившая его толпа состояла, я полагаю, из тридцати-сорока тысяч человек, не включая ни единого личного его друга, — и в то же время я уверен (ибо до такой степени взвинчено было брожение в эти времена) — нож или пистолет не одного убийцы ютились в боковом или заднем кармане, готовые вступить в дело при малейшем нарушении порядка.
Но никакого нарушения порядка не произошло: долговязая фигура еще раз потянулась, расправила члены; затем медленным шагом, в сопровождении нескольких, по виду незнакомых людей поднялась по ступенькам портика Астор Хауза, исчезла в широких его входных дверях, — на чем и закончилась эта немая сцена.
Я часто видел Авраама Линкольна в течение последующих четырех лет. Он сильно и быстро менялся на протяжении своего президентства, — но эта сцена и он в ней неизгладимо врезались в мою память.
И во мне, сидевшем на верхушке омнибуса и отчетливо видевшем его перед собой, уже тогда закралась мысль, еще не ясная и не отчетливая и лишь впоследствии прояснившаяся, что понадобится четыре вида гениев, четыре мощные первоклассные руки, чтобы в совершенстве вылепить будущий портрет этого человека — зрение, ум и уверенность пальцев Плутарха, Эсхила и Микеланджело, которым помогал бы Рабле…»
Это колоритное описание принадлежит человеку, которого мы знаем и любим больше всего по его невероятным поэмам, по его необыкновенной поэзии.
А приведенный отрывок взят из его лекции о человеке, которого любил он сам и которому поклонялся.
Сам — энтузиаст грядущего века демократии, он не мог не преклоняться, не мог не любить Линкольна.
281 Автор отрывка — Уолт Уитмен.
А сам отрывок взят из его лекции, прочитанной в четырнадцатую годовщину смерти президента — 14 апреля 1879 года в Нью-Йорке и позже повторенной в Филадельфии и Бостоне.
Моя первая встреча с образом Линкольна была, конечно, не личной, а книжной.
Это, по-моему, произошло очень давно на страницах старого сборника анекдотов из эпохи гражданской войны в Америке.
Президент был более чем прост и скромен в своем личном обиходе.
Он даже сам чистил себе ботинки.
Кто-то иронически сказал ему:
«Истинные джентльмены никогда сами не чистят себе ботинок!»
«Кому же истинные джентльмены их чистят?» — спросил Линкольн.
И видишь спокойный немигающий мудрый глаз, поднятый при этих словах на собеседника.
И представляешь себе этого собеседника заерзавшим, замельтешившимся, стушевавшимся, исчезнувшим.
И вот в картине чудесным образом ухвачен именно этот взгляд, взгляд какой-то космической укоризны бытовой суете, взгляд, для которого не пропадает никакая мелочь, и вместе с тем взгляд, перед которым никакая из этих случайных мелочей не способна заслонить великого значения того, что стоит за всеми мелочами жизни, быта, ошибок, промахов, коварства, грехов, злодеяний и человеческой мелочности — зло жизненных условий, зло жизненного уклада, зло порядка вещей, который должен быть изменен ради человека.
* * *
Мы в жизни не встречали Линкольна.
Но мы знаем у себя такого же рыцаря гуманизма.
Такую же слегка угловатую и не менее сутулую фигуру.
Глаза такие же безгранично человечные.
Иногда ироничные, иногда веселые, иногда лукавые, но неизменно обращенные сквозь пелену случайностей к активному созерцанию самой сущности зла, которое надо искоренить во имя добрых порядков, которые должны сменить это зло во имя интересов и блага человечества.
Такова фигура, повадка и глаза Максима Горького, на склоне лет бывшего среди нас, представителей более молодого поколения.
В своем безоговорочном служении идеалу человечества Линкольн и Горький перекликаются.
Другая эпоха, другая страница истории, другой этап социального развития — и Горький, конечно, идет дальше Линкольна по 282 линии приближения к социальному идеалу, по линии осуществления этого социального идеала, ставшего практическим осуществлением социализма.
И вместе с тем сколько общего!
И длинный путь безграмотного юноши к книге и знанию.
И связь с народом, из недр которого они выходили, — эти два высоких человека с глазами, в которых отпечатались бесконечные пути и перепутья по родным землям и как бы суммированная скорбь миллионов людей, томящихся в рабстве и жаждущих свободы и освобождения.
Чудодейственным образом этот скорбный взгляд, согбенность этой спины, детскую простоту, мудрость и детское лукавство воплощает удивительный актер Генри Фонда.
Но тем же взглядом смотрел на воссоздаваемые видения эпохи и создатель фильма Джон Форд, прежде чем реализовать их на экране.
Кажется, что ответ Линкольна о ботинках и джентльменах в равной степени послужил обоим прообразом той лукавой мудрости, простодушия и взгляда до дна, которые несет по фильму актер; камертоном для той бесподобной интонации, в которой ведет свой сказ режиссер.
Сюжет фильма ограничен молодостью Линкольна.
Но фоном для страниц этой юности Генри Фонда умеет пронести гораздо большее: везде и всюду за внешними фактами этого, казалось бы, частного эпизода из ранней юридической практики Линкольна-адвоката стоит уже образ того всеобъемлющего пафоса, которым горел Линкольн — глава и вождь американского народа, избранный президентом в самый критический момент истории Соединенных Штатов.
Образ того пафоса, который сохранила память в виде где-то прочитанного описания пластического облика шестнадцатого президента Соединенных Штатов в те самые страшные ночные часы, когда решалась судьба его страны.
В грустных глазах скромного адвоката из Иллинойса, вставшего на защиту двух невинно осужденных мальчиков, которых его длинные костистые руки выхватывают из цепких лап линчевиков, в этих грустных глазах, которыми смотрит на толпу фанатиков Генри Фонда, есть что-то от этого всеобъемлющего мудрого ока, которое много лет спустя в Белом доме будет так же, не мигая и в упор, глядеть в лицо фанатизма и безумия, которое потребовало всех ужасов братоубийственной войны Севера и Юга.
И здесь за образом Линкольна, созданным объединенным мастерством Генри Фонда и Джона Форда, встает еще один облик 283 гуманиста и демократа, который в такие же ночные часы, в такие же бессонные ночи, в том же Белом доме принимал такие же решения на борьбу со мраком уже в масштабе всего земного шара:
Франклин Делано Рузвельт.
Светлый рыцарь демократии в твердом пожатии руки нашей страны, совместно со свободолюбивыми нациями, помог довести великую войну до порога победы.
И может быть, тут еще один секрет того, почему я так люблю эту картину.
Она привлекла меня еще до войны — я увидел ее впервые почти в канун разгара мировой войны.
Она сразу же пленила меня совершенством общей гармонии и редким мастерством по всем разделам выразительных средств.
И прежде всего самим разрешением образа Линкольна.
Но любовь моя к этому фильму не остывала и не забывалась.
Она, наоборот, росла и крепла, а сам фильм чем-то становился все дороже и дороже.
И в обстановке разрастающейся войны в центральный образ этого фильма вплетались живые впечатления от двух других великих гуманистов современности6, из которых один умер, не дожив до начала решительной схватки с силами мрака, а другой — на пороге победоносного завершения этой борьбы.
И тут сама гармоничность фильма начинала казаться символической; в гармонии самого фильма, казалось, воплотился идеал человеческой гармонии человеческих взаимоотношений в сотрудничестве и совместной борьбе, ради которых жертвами легли миллионы лучших сынов человечества.
284 СВЕРШИЛОСЬ!*
В миллионах огней сегодня ликует мир:
Свершилось!
Враг раздавлен!
Объединенные нации победили!
Но в этот день всемирного ликования меня одолевают три печали.
Первая о том, что я сейчас не там, среди тех, кто в делах беспримерного героизма сокрушил своими руками фашистского зверя.
Что я не могу реально сжать в своих объятиях наших чудо-богатырей.
Вторая печаль моя о тех, кто не дожил до сверкания сегодня!
О тех, кто не увидел этого лучезарного дня победы, купленного ценой их жертвенного подвига.
Их миллионы — наших близких и братьев, чья кровь вспоила невиданные всходы небывалых побед.
Мы, живые, — вечные должники перед ними — павшими.
Поклянемся же над их священным прахом:
— быть сынами тем матерям, чьи сыны погибли в бою,
— быть братьями тем сестрам, кто потерял братьев своих в битвах,
— быть отцами тем сиротам, чьи отцы умерли смертью храбрых на полях славы.
Чем сумеем мы оплатить неоплатный долг перед павшими? Только в борьбе за прекращение войны навсегда. Только в беспощадной расправе с теми, кто посмеет этому противиться.
285 Только в неумолимой последовательности проведения в жизнь того, что запечатлели лучшие умы человечества на скрижалях конференции в Крыму.
Но третья, главная печаль моя в том, что у меня не тысяча глоток и не многомиллионное горло, чтобы прокричать по всему миру славу тем, кто освободил человечество от войны.
Ибо снова в вековечной борьбе человека и зверя победил человек.
Снова повергнут зверь.
Зверь фашизма.
И мы хотим верить, что на этот раз навсегда.
Навеки.
286 «ОСВОБОЖДЕННАЯ ФРАНЦИЯ»*
Передо мной лежит старый американский еженедельник.
Он раскрыт на страницах, посвященных Тегеранской конференции1.
Фотоаппарат американского репортера запечатлел исторический момент вручения английского меча для передачи героическому Сталинграду.
Рядом у меня на столе лежит вырезка из газеты «Правда». Заметка ТАСС из Лондона от 19 октября 1944 года: «Корреспондент агентства Рейтер сообщает из Парижа, что великолепный замок с парком около Клермон-Феррана, принадлежавший Пьеру Лавалю, конфискован и поступил в продажу с аукциона. В замке Лаваля полицией были обнаружены тысячи бутылок отборного вина, золотой кинжал, подаренный Лавалю бывшим немецким послом в Виши Отто Абецом, а также много орденов и разных подарков от гитлеровских людоедов».
Кинжал и меч! Подлость удара из-за угла — и благородство героического подвига!
Я люблю факты, детали, предметы, которые несут образное осмысление явлений.
Я люблю сопоставление таких деталей, предметов, фактов, которые поднимаются почти до обобщенного символа событий.
Вот почему я люблю документальный фильм и хронику, дающую в этом направлении такой простор.
Удар меча Красной Армии под Сталинградом спас сердце Франции.
Победа под Сталинградом явилась поворотным моментом истории второй мировой войны.
287 Советский народ, приняв на себя удар варварских полчищ агрессии, спас цивилизацию Европы.
На необъятных равнинах русской земли в великой победе Красной Армии под Сталинградом решались судьбы мира всего мира.
Эта основная мысль, основная концепция пронизывает каждый кадр, каждую деталь, каждый монтажный стык нового волнующего фильма «Освобожденная Франция», смонтированного Сергеем Юткевичем из несметного количества беспристрастного документального материала.
Именно мысль, а не прием; именно скорбь и гнев, а не формальные искания автора магически перевоплощают эти кадры фактов в захватывающую поэму борьбы за освобождение всем нам близкой и любимой Франции.
Именно эти чувства диктуют прекрасно смонтированные страницы трагической судьбы покоряемой, порабощенной и вновь освобожденной Франции, проходящие перед нами по экрану.
Именно эти чувства порождают великолепные эпизоды фильма.
Так родилась, например, своеобразная сюита молчания порабощенной Франции в момент вступления немцев в Париж, еще не способный противостоять интервентам.
От пустынных улиц, в мертвом молчании следящих за вступающими в Париж немецкими войсками, — к наглухо закрытым ставням, к свинцовому молчанию оцепеневших домов и селений, дорог и полей…
Медленно и неподвижно проходят перед вами застывшие кадры.
И вы обязательно чувствуете с экрана эту тишину скорби, порождающей бурю, — эту предгрозовую тишину, готовую взорваться огнем борьбы.
Ходы режиссерского замысла изысканны и многообразны. И если эта часть фильма напоминает симфонию, то несколькими частями дальше фильм так же уверенно поднимается до высот захватывающей народной драмы.
Радостный, праздничный Париж встречает своих освободителей. Среди ликующих масс народа по улицам Парижа идут представители объединенных сил союзников. Мелькают памятники национальной гордости Франции.
Триумфальная арка. Площадь Согласия…
Молчавшие при немцах пригороды и улицы вновь жужжат многотысячными толпами, сбросившими ненавистное иго.
Но не дремлет «пятая колонна». В разгар радости и ликования внезапно раздается выстрел. И вы видите, как из слуховых окон старинных высоких крыш, обрамляющих площадь, внезапно вырываются огни выстрелов.
Сухой треск. Бегущие толпы народа. Женщины и дети, падающие около парапетов, у подножия фонарей.
288 Разорваны привычные ассоциации парижских мансард, непременно с поэтами, — с мансард грохочут пулеметы, пулеметы в руках предателей Франции, оставленных в тылу, с тем чтобы убивать ее лучших сынов…
Мы видим отравленный кинжал мерзавца Отто Абеца в действии.
Но что может сделать кучка мерзавцев против освобожденных французов, вновь гордо поднявших головы?
Облава на предателей!
И вот уже подстрелен один из бандитов — он пытался перебежать площадь, его подбила пуля, и гад подыхает на мостовой.
И вот перед нами проводят снятых с крыш негодяев, стрелявших в народ.
И жалеешь, что перед тобой только тени на экране и нельзя на них реально излить море негодования, которое клокочет в груди.
Прекрасно задуман и выполнен автором фильма эпизод «Довольно паясничать!»
Вспоминаешь плакаты первых дней войны.
Вспоминаешь «Окна РОСТА» и «Окна ТАСС».
Взят один из самых подлых аспектов Гитлера — Гитлер, упивающийся победой над Францией, Гитлер в Компьенском лесу после подписания капитуляции правительством Виши.
Он самодовольно ерничает, хлопает себя по брюху, издевается над побежденными, нагло выбрасывая ножку.
Он хочет это сделать второй раз, но властно врывается гневное «Довольно паясничать!»
Поднятая нога кровавого клоуна застывает в воздухе.
И в фильме это — отсвет того, как мощь Красной Армии властным окриком «Довольно!» остановила гитлеровские полчища под Сталинградом, похоронив миф о их непобедимости на просторах оскверненной ими земли.
Я бегло вспоминаю лишь часть эпизодов; лишь часть композиционных разрешений, которыми захватывает зрителя этот фильм наравне с первоклассным интересом самого материала.
Но эпизодов и приемов много. Они богаты и разнообразны. Они волнуют, ибо они пропитаны живой эмоцией и живой мыслью борьбы.
* * *
Перед нами проходит не только история мировой войны.
Перед нами проходит и новый любопытный этап истории советского кино.
Когда-то, в двадцатых годах, хроника и документальный фильм вели наше киноискусство.
На многих фильмах зарождавшейся тогда советской художественной кинематографии лежал несомненный отпечаток того, что создавала тогдашняя документальная кинематография.
289 Острота восприятия материала и факта; острота зрения и остроумие в сочетании увиденного; внедрение в действительность и в жизнь; и еще многое, многое внес документальный фильм в стиль советской кинематографии.
В дальнейшем хроника сама утратила многие из этих черт.
Волнующий документальный фильм подчас стал заменяться простым дневником происшествий. Терялось сознание того, что мало склеить куски событий между собой и что, если это сопоставление не будет согрето чувством и озарено мыслью, то ни в мыслях, ни в чувствах зрителя оно не сумеет вызвать ответный живой отклик.
И вот мы видим — двадцать лет спустя — любопытный обратный процесс.
Долг платежом красен!
Режиссеры художественного фильма идут работать в хронику2 (которая, надо сказать, и сама воспитала за это время множество первоклассных мастеров).
Герасимов, Довженко и Райзман уже вышли с картинами.
Готовятся Пырьев и Барнет.
Сейчас с картиной выходит Сергей Юткевич.
Они приходят в хронику, с тем чтобы плечом к плечу в едином общем усилии с лучшими мастерами документального фильма двигать к новым высотам эту прекрасную и благородную область киноискусства.
Обогащение снова будет обоюдным, ибо приобщение к действительности и к документу, приобщение к героической подлинности этих великих дней вдохнет еще большую пламенность и страстность в произведения художественной кинематографии.
Долг платежом красен!
И сейчас, когда карающий меч занесен над головами виновников войны; сейчас, когда меч освобождения в руках Объединенных Наций, сверкая, рассекает оковы народов, порабощенных фашизмом, документальный фильм Сергея Юткевича «Освобожденная Франция» смотрится с особым энтузиазмом и теплотой, ибо зритель находит в нем совершенно реальные очертания другого близкого события, чье имя будет освобожденная Европа — освобожденный мир, вырастающий на дымящихся развалинах фашистских концлагерей и застенков.
Это живое обобщение, которое выносишь с просмотра фильма, — еще одно большое его достоинство, ибо подобные обобщения доступны только подлинным произведениям искусства.
Побольше таких фильмов, как «Освобожденная Франция», чтобы неустанно напоминать, что в час расплаты враг наш — фашизм — не будет достоин ни тени снисхождения, ни грана жалости.
В этом также — великая боевая актуальность нового фильма.
290 КРУПНЫМ ПЛАНОМ*
Всякому хорошо известно, — хотя и многими основательно позабыто, — что в кинематографе бывают съемки разными планами, так называемыми:
общими, средними и крупными.
Так же точно известно, что эти размеры планов выражают собой разную характеристику взгляда на явления.
Общий план дает ощущение общего охвата явления.
Средний — ставит зрителя в интимно-человеческое отношение с героями экрана; он как бы в одной комнате с ними, на одном диване, рядом, вокруг одного и того же чайного стола.
И наконец, с помощью крупного плана (крупной детали) зритель внедряется в самое сокровенное, происходящее на экране: вздрогнувшая ресница, задрожавшая рука, концы пальцев, втянутые в кружево манжеты… Все они в нужный момент изобличают человека в тех подробностях, в которых он до конца раскрывает или разоблачает себя сам.
Если так, по-разному, трояко, смотришь на явления внутри фильма, то совершенно так же — трояко — можно глядеть и на фильмы в целом. Больше того, так и глядят.
«Общим планом» здесь может служить взгляд на фильм в целом: на тематическую нужность его, на современность, на соответствие требованиям дня, на идеологически правильную постановку затронутых в нем вопросов, на массовую доступность его, на полезность, на боевое его значение, на заслуженность нести высокое наименование советского кинопроизведения.
Такова широкообщественная оценка наших кинопроизведений. Таково в основном и отражение этого взгляда в центральных органах нашей печати.
291 «Средним планом» в первую очередь смотрит на картину зритель, как некий средний типовой представитель тех, кем жива наша страна: комсомолец такой-то, швея, генерал, ученик Суворовского училища, метростроевка, академик, кассирша, электротехник, водолаз, химик, штурман, наборщик, пастух.
Этого зрителя прежде всего волнует живая игра страстей: человеческая близость с образами экранного человека, — когда этого человека обуревают понятные и близкие ему чувства, перипетии судьбы такого человека в окружении событий, в фазах борьбы, в радостях удач и в печали невзгод. Человек, снятый средним планом, как бы символизирует собой это содружество и близость зрителя с экранным образом.
Общие очертания темы входят в сознание зрителя попутно. Обобщенный смысл событий укладывается сам собой в его чувства.
Сливаясь с экранным героем через живую игру его переживаний, само собой откладывается в представлениях зрителя то важное и необходимое общее, о чем говорит картина. Такой зритель прежде всего во власти сюжета, событий, перипетий.
Ему вовсе не важно, кто написал сценарий.
Он видит закат солнца, а не мастерство оператора.
Он плачет вместе с героиней фильма, а не с актрисой, удачно или неудачно исполняющей роль.
Он погружен в настроение музыки, часто даже не отдавая себе отчета в том, что в данный момент слушает музыку, идущую «фоном» во время захватившего его диалога.
С точки зрения зрителя не может быть более высокой оценки, чем эта.
В полной мере это случается только с фильмами совершенной правдивости и художественной убедительности.
Этой точке зрения соответствует в печати рецензия-очерк.
Это тот тип пересказа-очерка, в котором об экранных образах говорится не как об актерах в таких-то ролях, но разбираются поступки и судьбы созданных ими экранных образов как действия живых людей, живущих полноценной реальной жизнью, лишь как бы случайно оказавшейся брошенной на экран, вместо того чтобы протекать где-то в окрестностях самого кинотеатра.
В этом типе обзора-очерка нас волнует правильность или неправильность поступка действующего лица, здесь вы принимаете сторону одного героя против другого, здесь вы ищете раскрытия внутренних побуждающих стимулов, здесь вы хотите читать о действующих лицах экрана как о людях, действующих в реальной действительности.
Этот тип рецензии, если только он не скатывается к простому пересказу, есть прежде всего как бы взволнованное раздумье зрителя под живым впечатлением произведения.
292 И есть третий тип рассмотрения фильма.
Вернее, не столько есть, сколько должен быть.
Это рассмотрение самого фильма крупным планом: через призму пристального анализа, «разобранным по статьям», по колесикам, разложенным на элементы и изученным так, как изучают новую модель конструкции инженеры и специалисты по своим областям техники.
Этот взгляд должен быть взглядом на фильм со стороны профессионального журнала.
Здесь должна быть оценка фильма с позиций «общего» и «среднего» плана, но в первую очередь он должен быть рассмотрен «крупным планом» — одинаково крупным планом по всем слагающим его звеньям.
Если во взгляде «общим планом» суждения нашей общественности безошибочно точны, подчас беспощадны, но всегда верны, если в области взволнованного и заинтересованного разбора событий и образов фильма нам часто удается подняться выше простого, безучастного пересказа-отписки, то в области пристального профессионального, «сверлящего» взгляда внутрь достоинств и недостатков того, что сделано, — с точки зрения высоких требований, которые мы вправе и обязаны ставить перед нашими произведениями, — мы далеко не блещем совершенством.
Без этой «третьей критики» невозможны ни рост, ни развитие, ни неуклонный подъем общего уровня того, что мы делаем.
Высокая общественная оценка не может служить щитом, за которым безнаказанно могут укрываться плохой монтаж и невысокое качество произнесения актерами тех бесконечно нужных нам слов, которые в конечном счете и определяли собой одобрение фильму.
Интерес зрителя к сюжету не может служить амнистией для плохой фотографии, а рекордный кассовый сбор картины, захватившей зрителя волнующей темой, не снимает с нас ответственности за плохо скомпонованную к фильму музыку, плохо записанный звук или (столь частую!) скверную работу лаборатории и массовой печати.
Я помню давно минувшие дни просмотров раннего АРРКа, когда с дрожью и трепетом выносил режиссер свое творение на просмотр профессиональной общественности. Дрожал он не оттого, что после просмотра его «обложит» тот или иной коллега.
Дрожал он оттого, что чувствовал себя как певец перед аудиторией певцов, как боксер среди профессионалов-боксеров, как матадор перед любителями боя быков — «аффисионадос», зная, что неверно взятая нота, ошибочная модуляция голоса или неправильно нанесенный удар и неверно рассчитанное время будут замечены всеми.
293 Малейшая ошибка против внутренней правды, малейшая описка в монтажном стыке, малейший дефект экспозиции, малейший сбой ритма — все мгновенно вызывало острую реакцию неодобрения аудитории.
Это было потому, что, отдавая дань должного картине в целом, соучаствуя в ее событиях мыслями и чувствами, зритель-профессионал не забывал того, что он не только зритель, но и… профессионал.
Он знал, что удача фильма в целом очень часто никак не означает совершенства всех слагающих его частей: захватывает тема или увлекает игра, покоряет пластическое совершенство произведения. Ему не мешало, восторгаясь воистину достойным, быть суровым и требовательным к тому, что не достигало такого же совершенства в остальных областях.
Потом наступило странное время.
Признание фильма в целом стало считаться одновременно индульгенцией в отношении всех его частных грехов и неполадок.
Я помню другой период дискуссий — упадочный период АРРКа, когда нельзя было выступить по поводу хорошо прошедшей по экранам картины и сказать, что она, например, фотографически бледна и изобразительно мало изобретательна.
На вас обрушивались обвинения в дискредитации ведущей продукции советского киноискусства.
И жупелом перед вами замахивалось грозное и вовсе здесь неуместное обвинение в том, что вы отрицаете «единство формы и содержания»!
Сейчас это звучит почти анекдотом, но анекдотом это было скверным. Это притупило остроту требовательности к качеству фильма.
Оно остудило страстность к требовательности в искусстве.
Оно отшибло чувство ответственности у самих киноработников.
Оно во многом воспитало безразличие к достоинствам отдельных компонентов.
Сверкающая ясность и совершенство кинематографического письма стали меркнуть и тускнеть.
Но сейчас — мирное время.
Совершенство профессионального качества того, что мы призваны делать, без скидок на время, место и условия — наш священный долг. И борьба за условия, в которых может родиться желанное качество, — не меньший наш долг.
Неукоснительная требовательность к оснащению и совершенству производственных условий нашего труда, способных обеспечить нужное качество нашей продукции, такая же наша боевая задача, как и беззаветное служение идее, борьба за художественные формы и качество наших произведений. К этому мы зовем сейчас всех с порога мирного времени.
294 Так, «крупным планом» брать то, что мы призваны делать, осознавать, критиковать и двигать вперед должно стать боевой линией вновь возрождающегося журнала «Искусство кино».
Преклоняясь (где это надо) перед отдельными фильмами в «общем плане», увлекаясь ими, как рядовые зрители (где это возможно) — «в среднем», мы «крупным планом» будем профессионально беспощадны в своих требованиях ко всем компонентам фильма.
Поступая так, мы не будем бояться окриков подслеповатых начетчиков, пугающих нас призраком «разрыва единства формы и содержания», когда мы будем отмечать качественное расхождение между темой и зрелищным ее воплощением.
Это прежде всего потому, что подлинное единство формы и содержания требует и единства качественного совершенства обоих.
Только совершенное искусство достойно сверкать с экранов победоносного нашего времени великой поры послевоенного созидательного творчества.
295 ЕДИНСТВЕННАЯ*
Октябрьское тридцатилетие — праздник, равный по значению для всех.
Но радость по поводу праздника будет для разных людей — различной.
Я вижу три основных разновидности октябрьской юбилейной радости. В соответствии с тем, чем по-разному для них был сам Октябрь и три первых десятилетия Октябрьской эпохи. Нет, не эпохи. Я назвал бы ее — эрой.
Октябрь и десятилетия Октябрьской эры любят по-разному. Одни любят ее как дело рук своих, другие в сознании, что они созданы ею.
Одни положили жизнь за то, чтобы водворить ее в жизнь.
Другие, ровесники Октября, родились в год реализации жизненной мечты старшего поколения и продолжают появляться на свет в благотворных лучах этой эры.
Одни радуются ей, видя в ней реализацию и дальнейший рост той мечты, за которую боролись.
Другие, может быть, даже недостаточно осознают, от чего оградило их жизнь и молодость наличие Октября — реальность общества, освобожденного от эксплуатации.
Но есть еще третья разновидность людей. Со своей третьей разновидностью работы. Вероятно, эта группа стоит между первыми Двумя.
По деятельности тоже.
Это не те, кто создавал Октябрь.
Это и не те, кто возникал в Октябрьскую эру.
296 Это те, кто встретился с Октябрем и, встретившись, — с ним слился.
Это те, кто по возрасту или условиям биографии не был в рядах бойцов за Октябрь.
Но одновременно же и те, в жизнь которых вошел Октябрь в тот решающий момент, когда в человеке начинают раскрываться вопросы социального мироустроения, когда возникает этап «проклятых вопросов» действительности, когда впервые перед человеком обрисовывается альтернатива и необходимость выбрать путь.
Или, закрыв глаза на вопиющую картину действительности буржуазного общества, искать себе в нем теплого местечка и уголка.
Или, уже никогда не закрывая глаза, двигаться на беспощадную борьбу с этой действительностью.
Мое поколение обязано Октябрю тем, что перед ним в решающий переломный момент — стоял не вопрос, а ответ.
Не образ справедливости и истинного пути, на который — либо становиться боево, жертвенно и смело, или от которого — зажмурясь, бежать.
В девятнадцать лет перед нами сиял не идеал и мечта.
Перед нами — стояла реальность со словами идеала, записанными тезисами программы конкретного действия над развалинами опрокинутого мира, сопротивлявшегося этим идеалам.
Не менее гигантский труд по реализации их в действие впереди.
Не меньшая возможность не примыкать к этой программе: не обязательно побегом на Дон, тихой сапой саботажа в противодействии, но и в формах вполне безопасного обывательского «неприятия», в формах самого «лояльного» обслуживания «нового строя» как бы всякого иного. Выбор — «с нами или против нас» (Советской власти) — был также решителен для тех, кто встречал ее.
Но, вероятно, главное, что в этом новом строе увидело наше поколение, было то, что оно в этом «новом» сознательно принимаемом «строе» разглядело основное его качественное отличие. Оно прочло в нем, что это строй — именно не «как всякий иной».
А именно — единственный.
Не очередная смена обыкновенной монархии монархией несколько конституционной, не конституционной монархии — обыкновенной буржуазной республикой, а этой республики — либо более радикальной республиканской формой, либо более продажной, либо более правого оттенка, либо более левого.
Но все во всем и всегда внутри незыблемости принципов классового устоя общества.
Здесь же перед нами был впервые строй, который смел основное и сквозное для всех тех разновидностей систем, предшествовавших ему.
297 Здесь был строй, перевернувший все вековые представления и установления.
Небывалый. Единственный.
Несоизмеримый.
С кажущейся социальной невероятностью в виде конечной цели, с твердым материальным первым шагом к ней и с отчетливой научной программой приближения к этим небесам — не лестницей в недостижимую небесную даль. Это небо конкретное, снятое с своего господствующего положения и положенное служить человеку не в загробной вечности, но во времени и пространстве на твердой земле, на водах, омывающих ее, и во всех слоях атмосферы, стратосферы, батисферы и т. д. и т. д., бережно окутывающих земной наш шар.
Когда думаешь об атомной энергии, не думаешь о ней категориями животной тяги, замещенной паровой, паровой, замещенной электрической. Как о немного более совершенной.
Но думаешь о ней как о полном перевороте и техники и научного представления о физической стороне природы.
Откуда неисчерпаемые выводы прогресса.
(При условии изъятия этой энергии из рук поджигателей войны и обращения ее в сторону созидательную, а не разрушительную.)
Когда думаешь о «суперсонной» авиации, авиации, превосходящей скоростью полета скорость звука и имеющей вероятной целью стать «суперлюсной» — превосходящей скорость света, — думаешь о ней не только как о более быстром способе перемещения.
Автомобиль был быстрее почтовой кареты, а самолет (обыкновенный) быстрее автомобиля, но замена одного другим сравнительно очень мало дала по линии сдвига в представлении о времени и пространстве, хотя, конечно, представления о времени и о пространстве и различны у человека, по степи привыкшего ездить на волах, или у человека, на самолете пересекающего океаны.
Перспективы новой авиации не только разбивают пределы реально мыслимых скоростей, они на пороге к тому, чтобы опрокинуть всю систему выработавшегося представления о времени и пространстве как таковых.
От эры времени, не способного к освоению внепространственного образа, мы, вероятно, переходим в эру представления о пространстве, которое уже исходно будет читаться как функция временного порядка.
Так или иначе, в перспективе переворот представлений полный, если даже абриса этого переворота мы еще и не можем не только прочесть, но даже предугадать или нафантазировать.
Такой же переворот на высших ступенях социального представления и отражающего его строя мыслительных концепций — 298 взрывом, мгновенностью, катаклизмом — внесло историческое событие Октября тридцать лет тому назад в предощущение его в наших чувствах на путях к тому, чтобы внедриться в наше сознание.
Уничтожение классовой эксплуатации.
Бесклассовое общество.
Коммунизм.
Вот то ослепительное, что внес в реальность становления Октябрь.
Вот то, что предпосылкой к умозаключениям и концепциям для пересмотра и переосмысления сущности всех явлений действительности светочем в руки дал нам Октябрь.
299 ЗРИТЕЛЬ-ТВОРЕЦ*
«Зритель хочет», «зритель просит», «зритель требует». По всему земному шару, во всех кинотеатрах, во всех кинофирмах, во всех киностудиях неизменно слышатся эти фразы.
Ими оправдывается любая макулатура, которая выбрасывается на кинорынки капиталистических стран. Может показаться, что кинематограф буржуазных стран действительно пристально следит за духовными запросами зрительских масс и старательно стремится навстречу этим запросам.
На деле, конечно, совершенно не так. «Служение зрителю» в этих странах настолько же мало отвечает действительности, как и вся шумиха с вопросом свободы печати, слова и мысли.
Под «служением зрителю» буржуазные кинематографисты понимают беззастенчивое потворствование самым грубым и примитивным инстинктам и мещанским вкусам. Потворствуя этому, буржуазные кинематографисты одновременно стараются привить зрительскому сознанию те реакционные идеи, которые через сотни фильмов проповедуют хозяева буржуазных стран1 и работающие на них киноконцерны.
И только в нашей стране положение совсем иное.
Это потому, что и духовным и материальным хозяином советской кинематографии является сам зритель, — и не как человек, который у кассы покупает билет, но как народ, который вдохновляет это искусство и руками советских кинодеятелей сам творит то искусство кинематографии, которого он требует и которого он хочет.
А просить ему и не нужно. Не просить он должен, а сам может спрашивать. Спрашивать с тех, кто призван творчески воплощать его мысли, чувства, чаяния и идеалы.
300 И спрос нашего зрителя суровый и требовательный.
Кто наиболее строгий критик? Всегда тот, кто знает предметы изображения в искусстве. От боксера в зрительном зале не ускользнет малейшая техническая ошибка боксера на экране, от наездника — ошибка в посадке экранного наездника, от литейщика — неточность в воссоздании производственного процесса, от работника райкома — неправильность в обхождении с людьми.
И сила советского человека в том и состоит, что он знает — знает все то, что в нем воспитывала могучая партия большевиков, все то, к чему приобщило великое учение Ленина.
И этот человек, придя в качестве зрителя в кинотеатр, может спрашивать и знает, что спрашивать. Ибо в том, что перед ним проходит по экрану, — он первый и главный специалист и знаток.
Наш экран независимо от сюжетов, жанров, фабул и стилей имеет одну основную тему: отражение великого процесса роста и развития нашей страны в движении своем к коммунизму, и экран должен всячески этому способствовать.
И кому же, как не нашему народу, на этот раз уже не зрителю, а под руководством партии большевиков созидателю великого исторического дела, — лучше, чем кому бы то ни было, разбираться в подлинности и правдивости отражения этой темы на экране. Ибо в экранном творении он судит о собственном своем творчестве, а само экранное творчество является одним из наиболее прекрасных воплощений творческой вдохновенности нашего великого народа.
Наш кинозритель — это зритель-творец, вместе с кинематографистами разделяющий авторство в создании плеяды тех славных кинопроизведений, которые внесли на экран великие первые тридцать лет Советской власти на Руси.
301 СТАТЬИ О ТЕАТРЕ
303 НЕЖДАННЫЙ СТЫК*
|
Знаменитому комику Малого театра Живокини пришлось однажды, почти экспромтом, заменить в опере «Влюбленная баядерка» популярного московского баса Лаврова. Но… голоса у Живокини никакого не было. — Как же вы петь-то будете, Василий Игнатьевич? — сокрушенно покачивали головой сочувствовавшие. Но сам Живокини не унывал. — А какой ноты голосом не возьму, так я рукой покажу, — весело отвечал он. (Из рассказов о Живокини) |
Доить козла?.. Сельскохозяйственная практика подобной операции не знает. С него, как говорится, ни шерсти, ни молока. У него есть другая прочно сложившаяся репутация и другие почетные функции.
Но увы… не так смотрит на дело наш критический авангард.
Приезжает к нам театр Кабуки — замечательнейшее явление театральной культуры.
Все рассыпаются в восхвалении его, действительно, великолепного мастерства. Но… абсолютно не разбираются, в чем его замечательность. Музейные элементы ведь если и необходимы, то далеко еще не достаточны для оценки явления как замечательного. Замечательно лишь то, что работает на культурный прогресс, что питает и стимулирует головные проблемы дня. А Кабуки подметывают в виде достоинств: «как музыкально!», «какая игра с вещами!», «какая пластика!» — три «общих места», давно набивших оскомину. И делают вывод, что учиться нечему, что (как съехидничал один старейший рецензент) это все — не так уже ново: Мейерхольд давно уже «обобрал» японцев!
Но мало того. Отписываясь общими фразами о плюсах Кабуки, наши «маститые» обижены в своих лучших чувствах. Помилуйте! С Кабуки — «ни шерсти, ни молока». Кабуки условен! Кабуки нас, европейцев, не волнует! Его мастерство — холодное совершенство формы! Наконец… они играют феодальные пьесы!.. Какой кошмар!?
Но требовать от японцев «Любовь Яровую» так же наивно, как нам гастролировать с «Жизнью за царя»1 … Да к тому же и наш революционный театр «догадался» до «Разлома» и «Бронепоезда»2 304 на десятый год революции. Я полагаю, что в отношении Кабуки можно поглядеть и «поверх репертуара» и требовать с них не больше, чем с… Большого театра. Ведь, учась на опыте Запада, Осоавиахим не смущается тем, что противогазы — «порождение» империализма! Заимствование в интересах рабочего класса технических элементов чужого и даже чуждого нам опыта имеет такое же оправдание в вопросах культуры, как и в практике обороны страны.
Доскональному использованию всего того, что можно заимствовать у Кабуки, мешает прежде всего его условность.
Но условность, которую мы знаем «по книжкам», на деле оказывается условностью очень любопытной относительности. Условность Кабуки — меньше всего стилизационная и преднамеренная манерность, какой, например, была «условщина» нашего театра, искусственно пересаженная вне технических необходимых предпосылок. У Кабуки эта условность глубоко логична. Это, пожалуй, относится ко всякому восточному театру. Возьмем, например, театр китайский.
Среди персонажей китайского театра фигурирует… «дух устрицы»! Но взгляните на исполнителя этой роли, лицо которого раскрашено вправо и влево от носа обнимающими друг друга кругами со сбитыми центрами, так что все окружности соприкасаются около носа, графически воспроизводя половинки устричной раковины, — и вам покажется это уже вполне «оправданным»! Это условно не более и не менее, чем генеральские погоны. Узкоутилитарное происхождение погона, некогда защищавшего от удара мечом по плечу, с момента снабжения его иерархическими звездочками уже ничем принципиально не отлично от начертания голубой лягушки на лбу актера, «работающего» ее «дух»!
Другая разновидность условностей — уже чисто бытовая. В первой картине «47 самураев» Сйоцйо играет замужнюю женщину3 и выходит безбровым и с зачерненными зубами… Условность не большая, чем у еврейской женщины, повязывающей голову так, чтобы уши оставались наружу, или у девушки, вступающей в комсомол и принимающей красный платок как некую «форму».
В отличие от европейской «практики», где замужество является «гарантией» от неприятностей свободной любви, в Японии вышедшая замуж женщина «за минованием надобности» убивала свою привлекательность! Она брила брови, чернила и даже выбивала себе зубы!..50*
Но перейдем к самому главному. Перейдем к условности, объясняющейся специфическим мировосприятием японца. К особенности, 305 отчетливо проступающей при непосредственном восприятии спектакля; к особенности, которую нам не донесло ни одно описание.
И здесь-то — нежданный стык Кабуки с теми крайними исканиями в театре, где театр уже перестал быть театром и оказался кинематографом. И к тому же кинематографом на последней ступени его развития — звучащим кино51*.
Самое резкое, что отличает Кабуки от наших театров, это — если позволительно так выразиться — монизм ансамбля.
Мы знаем эмоциональный ансамбль МХАТ — ансамбль единого коллективного переживания; ансамблевый «параллелизм» в опере (оркестр, хор, солист); добавление к этому параллелизму в виде «играющих декораций» дал театр, обозначавшийся скверным словом «синтетический»; сейчас же справляет свой «реванш» стародавний «животный» ансамбль, когда из разных углов сцены бытово «гудят», имитируя кусочек бытового «соприсутствия» людей.
Японцы нам показали иной крайне любопытный вид ансамбля — монистический ансамбль. Звук, движение, пространство, голос у японцев не аккомпанируют (и даже не параллелизируют) друг другу, а трактуются как равнозначащие элементы.
Первая ассоциация, которая возникает при восприятии Кабуки, — это футбол, наиболее коллективистический, ансамблевый спорт. Голос, колотушка, мимическое движение, крики чтеца, складывающаяся декорация кажутся бесчисленными беками, хавбеками, голкиперами, форвардами, перебрасывающими друг другу драматургический мяч и забивающими гол ошарашенному зрителю.
В Кабуки невозможно говорить об «аккомпанементах». Совершенно так же, как нельзя сказать, что при ходьбе или беге правая нога «аккомпанирует» левой, а им обеим — грудобрюшная преграда!
Здесь имеет место единое монистическое ощущение театрального «раздражителя». Японец рассматривает каждый театральный элемент не как несоизмеримую единицу разных категорий воздействия (на разные органы чувств), а как единую единицу театра.
«Говорок Остужева не более цвета трико примадонны; удар в литавры столько же, сколько и монолог Ромео; сверчок на печи не менее залпа под местами для зрителей».
Так писали мы в 1923 году в июньском номере «Лефа», ставя знак равенства между элементами разных категорий, когда теоретически устанавливали основную единицу театра, которую мы назвали «аттракционом».
306 Японец в своей, конечно, неосознанной практике обращается с театром на все сто проц[ентов] именно так, как мы имели тогда в виду. Адресуясь к органам чувств, он строит свой расчет на конечную сумму раздражений головного мозга, не считаясь с тем, по которому из путей оно [раздражение] идет52*.
Вместо аккомпанирования Кабуки сверкает обнажением приема переключения. Переключение основного воздействующего намерения с одного материала на другой, с одной категории «раздражителей» на другую.
Глядя на Кабуки, невольно вспоминаешь роман одного американского писателя, где человеку переключили слуховой и зрительный нервы так, что он световые колебания воспринимал звуками, а дрожание воздуха — красками: то есть стал слышать свет и видеть звуки. То же и в Кабуки! Мы действительно «слышим движение» и «видим звук».
Вот пример.
Юраносуке покидает осажденный замок. И идет из глубины сцены к переднему краю. Внезапно задник с воротами в натуральную величину (крупным планом) складывается. Виден второй задник. На нем маленькие ворота (общим планом). Это значит, что он отошел еще дальше. Юраносуке продолжает свой путь. Задник затягивается буро-зелено-черным занавесом, то есть замок скрылся из глаз Юраносуке. Еще шаги. Юраносуке выходит на «цветочную дорогу». Новое удаление подчеркивает… «самисэн»53*, то есть звук!!!
Первое удаление — шаги, то есть пространственное удаление актера.
Второе удаление — плоская живопись: смена задника.
Третье удаление — интеллектуально обусловленный знак: «колдоговор» с занавесом, «стирающим» видимость.
Четвертое удаление — звук!
* * *
Был такой период, когда выставляли голубую с крапинками дощечку и говорили, что это зрительное отображение слова «Маруся», а оранжевое с зелеными крестиками — «Катерина», а розовое с лиловыми змейками — «Соня». Это чудачество, это искание эквивалента — блестяще реализовано театром Кабуки.
Вот пример на чисто кинематографическом приеме из последнего отрывка «Цюсингуры».
307 После коротенького боя «на несколько метров» дается «перебивка» — пустая сцена, пейзаж. Потом опять дерутся. Точно так же как мы врезаем в картину кусок пейзажа для создания в сцене настроения, здесь врезан пустой ночной снежный пейзаж (пустая сцена).
Но вот через несколько метров двое из «47 верных» замечают хижину, куда скрылся злодей (зритель это знает). Как и в кино, в такой заостренный драматический момент необходимо какое-нибудь торможение.
В «Потемкине», когда уже готовы дать команду «пли!» по закрытым брезентом матросам, идут метровые куски «равнодушных» частей броненосца: нос, жерла орудий, спасательный круг и т. д. Действие тормозится, напряжение «завинчивается».
Момент обнаружения будки надо акцентировать. И если работать первоклассно, то акцентировать тем же ритмическим материалом, то есть опять-таки ночью, пустотой, снежным пейзажем…
Но на сцене — люди! А японцы работают первоклассно! И… торжествующе вступает флейта! И вы видите те же снежные поляны, ту же «звучащую» пустоту и ночь, которую «слыхали» немного перед тем, когда смотрели на пустую сцену…
Иногда же (и тогда кажется, что нервы лопнут от напряжения) японцы удваивают свои эффекты. Владея совершенным эквивалентом зрительного и звукового образа, они вдруг дают оба, взводя «в квадрат» и так блестяще рассчитанный удар кия по мозговым полушариям зрителя. Я не знаю, как иначе назвать невиданное сочетание движения руки Ицикава Энсио, перерезающего горло в сцене харакири, с рыдающим звуком за сценой, графически совпадающим с движением ножа.
Вот где: «Какой ноты голосом не возьму, так я рукой покажу!» А здесь и голосом взято и рукой показано!.. И мы стоим в оцепенении перед таким совершенством… монтажа.
* * *
Мы все знаем три лукавых вопроса: как идет винтовая лестница? что называется «компактно»? что такое «морская зыбь»? Интеллектуально проанализированных ответов на это нет. То есть Бодуэн де Куртенэ5, может быть, и знает, но мы отвечаем жестом. Сложное понятие «компактно» мы выражаем сжиманием кулака и т. д.
И лучше всего, что подобным объяснением вполне удовлетворяются. Мы тоже — слегка Кабуки!!!.. Но недостаточно!
В «Заявке»54* о звуковом кино мы писали о контрапунктическом 308 методе сочетания зрительного и звукового образа. Для овладения этим методом надо выработать в себе новое ощущение: умение приводить к «единому знаменателю» зрительные и звуковые восприятия.
А этим-то Кабуки владеет в совершенстве. Этим-то должны овладеть и мы, переходящие очередной Рубикон: театр — кино, кино — звучащее кино! Этому-то нужному для нас новому ощущению мы должны учиться у японцев. И если живопись — в неоплатном долгу перед японцами за импрессионизм, современная левая скульптура — дитя негритянской пластики, то звучащее кино не меньшим будет обязано тем же японцам!
И не только японскому театру, ибо изложенные черты, на мой взгляд, глубоко пронизывают все мировосприятие японца. По крайней мере в тех неполных фрагментах японской культуры, которые были мне доступны.
Примеры идентификации восприятия натуралистической трехмерности и плоскостной живописи мы видим в том же Кабуки. Пусть это «наносное»! Но все же надо, чтобы «котелок варил» совсем по-особенному, чтобы по разложенному на ряд вертикальных линий водопаду пустить «плыть» «против течения» металлическую змеящуюся рыбу-дракона, привязав ее на ниточке. Или, раздвигая стенку строго кубического «дома Долины вееров», раскрывать подвешенный задник с резко сбегающейся в центр «перспективой» галерей. Ни такой кубатурности декоративных хором, ни такого примитива писаной перспективы наша декорация не знает. Ни тем более подобной одновременности. И так, кажется, во всем.
Костюм. В «Танце Змеи» Одато Горо выходит обвязанный канатом, что опять-таки выражается через переключение нарисованного на халате плоскостного каната в трехмерный пояс-канат.
Письменность. Японец владеет неисчислимым, кажется, количеством иероглифов. Иероглифы составляются из условных начертаний предметов, слагающих выраженные в них понятия, то есть картину понятия. Образ понятия. Наряду с этим существует ряд европеизированных азбук: Ката-хана, Хирагана и др. А пишет японец всеми азбуками сразу! Ничтоже сумняшеся монтируя картинки иероглифа с буквами нескольких несовпадающих азбук.
Поэзия. Японская «танка» — почти непереводимый род лирической эпиграммы со строгим размером: пять, семь, пять слогов в первой строфе (ками-но-ку) и семь, семь слогов во второй (шимо-но-ку). Самая, должно быть, необычная по форме и содержанию поэзия. Когда она начертана — не знаешь, что это: орнамент или надпись?! Каллиграфичность начертания ценится не ниже поэтического ее достоинства.
309 А содержание?.. Недаром Юлиус Курт пишет о японской лирике: «Японские стихи скорее надо видеть (то есть зрительно себе представлять. — С. 3.), чем слышать» («Japanische Lyrik», S. IV).
ПРИБЛИЖЕНИЕ ЗИМЫ
Кинут на восток
Мост полета сорок
Чрез неба поток…
Инеем оторочены,
Будут нуднее ночи55*.
Вытянувшиеся в полете сороки кажутся Якамоси (умер в 785 году!) мостом, перекинутым в эфире.
ДИКИЙ ГУСЬ
Дикий сизый гусь! Дикий сизый гусь!
Свистя в сини, ты сродни
Домам в сени ив.
При полете гуся перья его растопыриваются и кажутся деревьями, обсаженными вокруг дома.
ВОРОН В ВЕСЕННЕМ ТУМАНЕ
Вóрона стан стал
Наполовину укрыт
В кимоно тумана,
Будто в путах пояса
Шелковая певунья.
Анонимный автор (1800) хочет этим выразить, что в утреннем тумане ворон виден так же не целиком, как вытканные на кушаках слишком крупные изображения птиц, видимые не целиком, когда пояс повязан.
Строгая оковка количеством слогов, каллиграфическая прелесть в начертании и сравнения, поражающие своей невероятностью и вместе с тем чудесной близостью (ворон, наполовину скрытый в тумане, и тканая птица, наполовину скрытая складками пояса), свидетельствуют о любопытнейшей «слиянности» образов, апеллирующих к самым разнообразным чувствам. Этот своеобразный архаический «пантеизм» основой несомненно имеет недифференцированность восприятий — известное отсутствие ощущения «перспективы». Да иначе и быть не может. История Японии слишком богата историческим опытом, и груз феодализма, изживаемый политически, еще проходит красной нитью через культурные традиции Японии. Та дифференциация, которая происходит в обществе при его переходе к капитализму и влечет за собой как 310 следствие хозяйственной дифференциации дифференцированное восприятие мира, — еще не выявилась во многих областях культурной жизни Японии. И японец продолжает мыслить «феодально», то есть недифференцированно.
То же, что мы встречаем в детском творчестве. То же самое испытывают исцеленные слепцы, когда мир как далеких, так и близких предметов кажется им не пространственным, а обступающим их вплотную.
* * *
Кроме Кабуки японцы показали нам еще и фильм «Каракули-мусмэ». Но здесь недифференцированность, приводящая к таким блестящим неожиданностям в Кабуки, проступает отрицательно.
«Каракули-мусмэ» — мелодраматический фарс. Начинаясь в манере Монти Бенкса7, кончается невероятно грустно, а в промежутках преступно расползается по обоим жанрам.
Попытка увязки обоих этих элементов — вообще задача труднейшая.
Такой мастер, как Чаплин, непревзойденный в этой манере в «Киде», в «Золотой горячке» уже не сумел «сбалансировать» эти элементы. Материал «скользит» из плана в план. В «Каракули-мусмэ» же полная «смятка»…
* * *
И вот, как всегда, отклик, стык находят только полярные крайности. Архаика недифференцированности ощущения «раздражителей» Кабуки — с одной стороны, и крайняя точка развития монтажной мысли — с другой.
Монтажной мысли — верха дифференцированно ощущенного и разложенного «органического» мира и затем сведенного заново в математически безошибочно действующее орудие — машину.
Вспоминаются слова Клейста8, столь близкие к театру Кабуки, рожденному «от марионетки»:
«Совершенство актера — либо в том теле, которое совершенно не осознано, либо в том, которое осознано предельно, то есть в марионетке или в “полубоге”».
Крайности сходятся…
* * *
И незачем хныкать о бездушности Кабуки или — еще хуже — находить в работе Садандзи «подтверждение теории Станиславского»! Или искать «еще не украденного» Мейерхольдом!
Вообще — с козла молока!
Кабуки единственно лишь справляет празднично свой стык со звучащим фильмом!
311 ЧАРОДЕЮ ГРУШЕВОГО САДА56**
Чем начать статью о великом артисте, чья популярность так велика, что изображения его — фигурки и фотографии — даже далеко за пределами Китая вы непременно можете найти в любом уголке, где бьется китайское сердце, вспоминающее о родине? В интеллигентской китайской семье в Сан-Франциско и в маленькой пестрой лавочке Чайна-Сити Нью-Йорка. В фешенебельном китайском ресторане в Берлине и в таверне «Золотого фазана» в далеком Итцамале на полуострове Юкатан, омываемом голубыми водами Мексиканского залива. Везде и всюду знают Мэй Лань-фана. Везде и всюду любовно хранят его изображения и портреты. Везде и всюду вы можете найти запечатленными те незабываемые статуарные позы, которыми, согласно китайской театральной традиции, Мэй Лань-фан завершает эпизоды своих замечательных сценических танцев-драм.
Но не только среди своих сородичей он пользуется необычайной популярностью и любовью. Его искусство так велико, что захватывает людей совсем иных стран, культур и традиций.
О Мэй Лань-фане впервые я услышал восторженнейшие отзывы от Чарли Чаплина, вводившего меня своими рассказами в замечательное мастерство китайского артиста.
И начать говорить о китайском театре в связи с приездом того, кто вознес его до самых высоких ступеней совершенства, хотелось бы, вспомнив одну из тех изящных малодостоверных легенд 312 о происхождении китайского театра, которыми изобилуют рассказы о колыбельных днях театрального искусства любого народа.
Это легенда об осаде города П’инг-Ч’енга в 205 году до нашей эры. С ней связывают одну из легенд о происхождении марионеток.
В этом городе укрылись императорские войска. Их осадили хунские войска, чей главнокомандующий Мао Тун окружил город с трех сторон, возложив командование остальными войсками на жену свою Йн Ши. Осажденный город уже начал терпеть голод, нужду и всяческие лишения. Но генералу Чен Пингу, защищавшему город, путем хитрости удалось спасти его от осады.
Узнав, что Йн Ши, жена Мао Туна, крайне ревнива, он приказал изготовить из дерева большое количество женских фигур, чрезвычайно похожих на живых женщин. Эти фигуры он разместил по той части стены, которая была обращена в сторону войск, состоявших под командованием воинственной и ревнивой дамы. Приведенные в действие путем хитроумного механизма, эти фигуры передвигались и танцевали, поражая зрителей грациозностью жеста. Увидев их издали, Йн Ши приняла их за живых женщин, и притом женщин самого соблазнительного свойства. Зная увлекающуюся натуру своего супруга, она, естественно, забеспокоилась, что после взятия города он немедленно заинтересуется этими опасными соперницами. Это нанесло бы удар тому влиянию, которое Йн Ши имела на мужа, а потому она немедленно увела свои войска от стен города. Так было разорвано кольцо осаждающих, и осажденный город был спасен.
Такова легенда, сложившаяся вокруг события, успех которого историки объясняют, конечно, не этой хитростью, а блестящей стратегией генерала Чен Пинга, спасшего город для молодой, только что вступавшей во власть династии Хан.
Это одна из легенд о происхождении марионетки. Той марионетки, которую в дальнейшем [на сцене] заменил живой человек. Но китайский актер надолго еще сохранил характерную кличку «живой куклы».
Эту легенду особенно хочется вспомнить в преддверии к тому зрелищу, которое везет нам Мэй Лань-фан. К тому мастерству, которое связано с древнейшими и лучшими традициями великого китайского театрального искусства, в свою очередь неразрывного с культурой марионетки и ее своеобразного танца.
Танец этот и до сих пор сохраняет свой отпечаток на своеобразии китайского сценического движения.
Уместно напомнить об этой легенде еще и потому, что в ней выступает один из тех образов, которые вошли в галерею необычных для нас характеров, представляемых Мэй Лань-фаном.
Это женщина-полководец, женщина-воин. Наравне с непревзойденным мастерством в исполнении лирических женских образов 313 Мэй Лань-фан не менее совершенно представляет этот тип воинственной девушки. Такова, например, пьеса «Му-Лань в армии», где он, играя заглавную роль, изображает воинственные приключения девушки, переодевшейся воином, чтобы заместить на войне своего престарелого отца.
Описания и статьи о китайском театре обычно строятся по принципу перечисления тех «странностей», которые поражают поверхностного и малоподготовленного путешественника, привыкшего к рутине западноевропейской сцены. При этом странности эти ему обычно кажутся никак не связанными с тем, что представляет из себя западноевропейский театр и искусства вообще.
Взаимное обогащение нашего советского театра и театра китайского достаточно хорошо известно.
Больше того: связь с восточным театром на целом блестящем этапе истории прошлого нашего театра. Но не это мне бы здесь хотелось лишний раз напомнить. И не приводить еще и еще раз описания и ключ ко всем тем прекрасным неожиданностям, которые готовит китайский театр непосвященному зрителю. Интереснее заняться не простым перечислением условностей китайской сцены. Интересно пойти дальше туристских изумлений перед явлениями, ни объяснения которым не ищут, ни в смысл которых не вникают, а, ставя над ними знак «экзотизма», запоминают их лишь с целью удивлять тех, кто, не видавши этих зрелищ, с завистью слушает вернувшихся путешественников.
Поразительная система и техника китайского театра заслуживают большего, чем каталог «странностей» и условностей. Она заслуживает того, чтобы вдуматься в тот строй мышления, который воплощается в формах, казалось бы, столь отдаленных, но чем-то в глубине своей близких нам и если не всегда понимаемых, то тем не менее глубоко сопереживаемых.
Иначе — откуда бы та притягательная сила творчества, которая сделала [Мэй Лань-фана] известным далеко за пределами национальных границ.
Стоит глубже вникнуть в смысл его искусства, и странности станут естественными, а условное — глубоко обусловленным.
Скольких иностранцев поражала, например, профильная посадка зрителей в театрах, лицом к длинным столам, перпендикулярно идущим от края сцены. А между тем это более чем естественно для той старинной традиции, согласно которой ухо, а не глаз, должно быть обращено к сцене. В старинный театр ходили не столько смотреть драму, сколько ее слушать. Ведь подобную театральную традицию пережили и мы в Московском Малом театре. И старики еще помнят об Островском, который никогда не смотрел своих пьес из зрительного зала, но всегда слушал их из-за кулис, по речевому совершенству произносимых текстов судил о достоинствах исполнения.
314 По этому поводу, может быть, именно здесь наиболее уместно вспомнить об одной из больших заслуг Мэй Лань-фана перед культурой китайского театра.
Спектакль китайского театра в самые древние периоды его истории был синтетичен: танец был неразрывен с пением. Затем произошло разделение. Вокальное начало, в ущерб пластическому, закрепляется на севере. Культура зрительной стороны спектакля пышно расцветает на юге. Язык сохранил это в терминах: северянин говорит, что идет «слушать» драму, южанин ходит «смотреть» драму.
На долю Мэй Лань-фана выпала задача синтеза. Тем самым Мэй Лань-фан восстанавливает древнейшую традицию.
Изучая старое сценическое мастерство, этот великий артист — не менее великий эрудит и знаток своей национальной культуры — возвращает мастерство актера снова к былой синтетичности. Он воскрешает зрелищность спектакля и сложное изысканное сочетание движения с музыкой и роскошью древних сценических облачений.
Но Мэй Лань-фан не просто реставратор. Он умеет, воссоздавая совершенные формы старой традиции, сочетать их с обновленном содержанием. Он старается расширять тематику. Причем расширять ее в сторону вопросов социальных. В ряду сотен пьес, которые играет Мэй Лань-фан, встречаются сюжеты, касающиеся тяжелого социального положения женщины, эксплуатации бедняков и т. п. Некоторые из них касаются борьбы против отсталости и религиозных суеверий. Эти драмы, исполненные в старинном условном стиле, но рисующие современные по тематике проблемы, приобретают особую остроту и прелесть.
Тема женщины проходит в его пьесах в самых различных разрезах.
Владение разными видами женского амплуа опять-таки является особенностью мастерства нашего артиста. Обычно существует узкая специализация и ограниченность рамками отдельных амплуа. Мэй Лань-фан же в совершенстве владеет целым рядом их.
Мало того, к традиционной трактовке каждого амплуа он сумел в полном и строгом соответствии со стилем их внести целый ряд изысканных усовершенствований. И он в равной мере превосходно представляет разные типы в соответствии с основными подразделениями женских амплуа.
Вообще же традиция знает шесть основных женских сценических типов:
1. «Ченг Тан» — это тип доброй матроны, верной жены, добродетельной дочери.
2. «Хуа Тан» — обычно более молодая женщина, демимонденка, иногда служанка. Вообще говоря, если Ченг Тан являет собой образ положительный и добродетельный с доминирующей лирикой 315 и меланхолией в пении, то Хуа Тан является девушкой поведения сомнительного. В ее роли центр тяжести в бойкости и подвижности сценической игры.
3. «Куэи Мен Тан» — незамужняя девушка. Тип грациозный, элегантный и добродетельный.
4. «Ву Тан» — в отличие от нее, это тип героический и воинственный: девушка — воин и полководец.
5. «Тцаи Тан» — тип женщины жестокой; интриганка, служанка, склонная к предательству. Обладая красотой сценического облика, этот тип является отрицательным в своих поступках.
6. «Лао Тан» — тип престарелой женщины. Часто матери. Играется с большой мягкостью. Наиболее реалистичный из всех образов.
Во всех этих названиях женских амплуа встречается иероглиф-понятие «Тан» (Ченг Тан, Хуа Тан и др.).
В обычном переводе это означает «исполнитель женской роли» или «представляющий женщину». Однако такое обозначение никак не покрывает целиком вложенное в него понятие. Сам Мэй Лань-фан особенно подчеркивает, что это обозначение имеет совершенно специальный смысл, целиком исключающий представление о натуралистическом воспроизведении образов женщин. Оно в первую очередь обозначает чрезвычайно условное построение, ставящее себе целью прежде всего создать определенный эстетически абстрагированный образ, по возможности удаленный от всего случайного и личного.
Зритель поддается обаянию как бы идеализированных и обобщенных черт женского образа. Натуралистическое изображение или воспроизведение обычных бытовых женских фигур в цели актера не входит. Здесь мы сталкиваемся с первой принципиальной особенностью всего того, что представлено и изображено на китайской сцене.
Реалистический в своем особом смысле, способный затрагивать не только всем знакомые эпизоды истории или легенды, но и проблемы социально-бытовые, китайский театр по форме своей от самых тонких элементов трактовки характеров и образов до последней сценической детали в равной мере условен.
Действительно, возьмем из любого описания театрального представления перечень условных его элементов, и мы увидим, что на каждом из них лежит тот же отпечаток своеобразного понимания, который нами отмечен в подходе к изображению женских ролей. Каждая ситуация, каждый предмет неизменно абстрагирован по своей природе и часто символичен; чистый реализм из представления удален, и реалистическая обстановка со сцены изгнана.
Укажем несколько примеров из традиционных атрибутов.
«Ма пьен» — хлыст. Актер, имеющий в руках хлыст, предполагается едущим верхом. Посадка на коня и слезание изображаются установленными условными движениями.
316 «Ч’е ч’и» — повозка. Изображается с помощью двух флажков с нарисованными колесами. Двое слуг держат флажки по бокам. Едущий движется или стоит между ними.
«Линг чиен» — стрела вестника. Когда в былое время военачальник отправлял вестника, он давал ему при этом стрелу как подтверждение подлинности известия и как указание на то, что приказ должен быть выполнен с быстротой стрелы.
Отсюда изображение соответствующей ситуации на сцене также стало сопровождаться передачей стрелы.
Те же черты присутствуют и в сценическом поведении. Так, если актеру надо изобразить проход через дверь, он ограничивается тем, что подымает ногу, как бы переступая порог. Если надо еще дать понять, что дверь при этом раскрывается, то он обеими руками разводит в стороны несуществующие створки. Закрывая их, он руки сводит вместе. Эти условные движения одинаковы для всех случаев обращения с дверьми. Для входа или выхода. Для наружных дверей, дверей, соединяющих комнаты, дверей в сад и т. д.
Реалистическое изображение сна считалось неэстетичным. Если приходится изображать сон, то исполнителю достаточно легко прислониться к столу. Изображения боев, сражений характеризуются следующей основной чертой: искусство поединка на сцене состоит прежде всего в том, чтобы никак не прикасаться к противнику. Таким образом, сражение состоит из бешено сменяющихся строго синхронизованных ритмических движений, дающих условное представление о поединке.
Иногда абстрагируется даже представление о реальном темпе: одна из поразительнейших сцен поединка в «Радужном перевале» идет как бы снятой в кино при помощи цейтлупы. Весь бой идет на замедленном во много раз движении. Эффект этого поразителен. Тем более что психологически он вторит совершенно правильно тому раздумью, в которое впадает вероломная Синь Тун-фан во время поединка со своим противником, убийцей ее мужа, пленяющаяся его красотой и влюбляющаяся в него. (Любопытный перепев тех же мотивов, которые встречаются в истории Жанны д’Арк!)
Наконец, в старой драме никогда не изображалось принятие пищи. Блюдо риса или обед заменялись… напевом или несколькими тонами флейты, означающими, что действующее лицо приняло пищу.
Таковы примеры, характеризующие некоторую символическую закрепленность за определенными предметами определенных значений. Интереснее случаи, где значение лабильно. Где один и тот же предмет в зависимости от разного с ним обращения может иметь сколько угодно разных значений. Таковы, например, стол, стул и метелка из конского волоса. О них так и говорится. Стол, 317 или «чо-тцу», пожалуй, более, чем какой-либо иной предмет, может изображать самые различные вещи. То это чайная. То — обеденный стол. То — судебное помещение. То — алтарь.
Вместе с тем если надо изобразить восхождение на гору или перелезание через стену, то для этой цели также используется стол. Столу придаются всевозможные положения: его переворачивают, ставят набок и т. д. Так же манипулируют со стулом «и-тцу». Когда стул положен набок (тао-и) — это означает, что человек сидит на скале, на земле или в неудобном положении. Если женщина поднимается на гору — она становится на стул. Несколько стульев, составленных вместе, означают кровать.
Еще обширнее функции «инг-чен» — метелки из конского волоса. С одной стороны, она является атрибутом полубожественного порядка. Ее пристало иметь лишь богам, полубогам, буддийским монахам, таоистским жрецам, небесным существам и духам разных разрядов. С другой стороны, она же может в руках служанки служить в качестве предмета домашнего обихода для сметания пыли и т. д. Вообще же говоря, метелка крайне распространена на китайской сцене и может представлять собой любое количество и качество предметов.
В менее категорической форме подобное определение «текучести» сценических обозначений дается и для других сценических атрибутов и действий. Эта черта лабильности значений, пожалуй, еще поразительнее, чем сам метод условности сценических атрибутов. И примечательнее всего, что эта черта вовсе не является чертой театральной специфики. Смысл ее коренится гораздо глубже. Она свойственна самым глубинам китайского мышления и строю общих представлений. Особенности сценического построения являются лишь как бы частным случаем их воплощения в специальной области.
Не следует ни в коей мере думать, что, давая обозначение «китайское мышление», мы в какой-либо мере имеем в виду строй мышления, определяемый национальными или расовыми предпосылками! Пользуя подобное обозначение, мы указываем лишь на тот комплекс представлений и [тот] мыслительный строй, которым оперирует китаец, и прежде всего в областях гуманитарных и надстроечных. Своеобразие этого строя мышления глубоко коренится в истории смены тех социальных формаций, через которые прошла история Китая. И того своеобразного социального феномена, согласно которому формы отражения в сознании более ранних стадий социального развития не снимаются более поздними, но канонизируются традицией, обогащаются опытом последующих стадий и из уважения и пиетета к достаточному совершенству не преодолеваются.
Повторяю, что это относится в первую голову к комплексу культурно-гуманитарной области, рамки которой, однако, достаточно 318 широки, ибо включают в себя вопросы строя речи, кодекс морали и т. п. и т. п.
В этом своеобразном комплексе совершенно отчетливо сохранилась предпосыльная основа дофеодального строя представлений. Приведены они в своеобразную иерархическую систему уже последующей феодальной эпохой, слепком с которой она кажется. И окончательной сформулированностью символической закрепленности ее снабжает императорский отрезок истории. На грани совершенства этих достижений искусственно ставится предел дальнейшему развитию системы представлений и развитию мыслительных форм по областям гуманитарным.
Обожествляемое совершенство опыта прошлого становится критерием и нормой для определения действий и проявлений на будущее время. С династией Хан, хотевшей через нормы прошлого легализировать законность своей империи, этот же принцип кладется в основу теории и практики государственного управления. Подчинение норм настоящего формам прошлого выставляется решающим принципом.
Тонг Тчонг-чи во II веке приводит эти положения в философскую систему и законченную доктрину.
В известной степени подобное сохранение преемственности характерно для любого мышления. Для художественного в особенности. Но именно в степени-то и дело. И в строе китайской культуры наличие этих черт настолько подчеркнуто, что именно они даже за пределами социальных областей создают основное решающее впечатление. При первой же встрече.
Они определяют сложнейшие предпосылки к пониманию изысканной иероглифики и эмблематики Китая. И тут-то оказывается, что многозначность и лабильность, поразившие нас в вопросах театрального аксессуара, являются, как выясняется, основными характеристиками любого китайского средства выражения. В этих чертах наравне с целым рядом других элементов особенно отчетливо запечатлена традиция дофеодального строя мышления и представления.
Вы неизбежно натолкнетесь на эти все пронизывающие черты, как только постараетесь ознакомиться поближе с любыми закономерностями, по которым созданы замечательные памятники китайской культуры.
Начиная с первого средства культурного общения — с речи. Здесь эта черта лежит буквально на каждом слове. Китайский язык принадлежит к числу так называемых односложных языков, то есть состоит из определенного числа (460) односложных слов — моносиллабов, которые в разговоре остаются без всяких изменений, не принимая никаких приставок и окончаний.
Эти односложные слова получают определенное значение лишь тогда, когда их произносят с известным ударением, с известной 319 интонацией. Каждый моносиллаб китаец произносит пятью различными интонациями, и таким образом из 460 неопределенных звуков получилось около 2000 т[ак] н[азываемых] корней-слов, из которых каждое имеет определенное значение. Но так как число это крайне незначительно для потребности речи, то в языке китайцев и явилось большое число созвучных слов, или омонимов, так что на каждое слово приходится от четырех до двенадцати различных понятий.
Так, например, понятия: болтливость, пожар, таз, корабль и пух выражаются по-китайски одним и тем же словом «чоу». Или же китайское слово «хао» в одно и то же время означает: хороший, любить, милостыня, дружба, очень. Таким образом мы видим, что одно и то же слово бывает в китайском языке не только самых разнообразных звучаний, но и самой разнообразной природы, то существительным, то прилагательным, то наречием, то глаголом. В устной речи довольно трудно отличить одно понятие от другого. Приходится руководствоваться общим смыслом контекста или порядком размещения слов.
Может быть, здесь место вспомнить, что подобное же явление мы встречаем в близких областях внутри культур, весьма и весьма отдаленных от Китая. Так, например, в языке английском — в языке страны, также отличающейся резким традиционализмом и сохранением в ряде традиций форм и условностей прошлого.
Английский язык знает также немалое количество буквенных сочетаний, которые в разных словах имеют совершенно разное фонетическое произношение. Каждое частное произношение в данных случаях зависит даже не от сопутствующих буквосочетаний, а должно быть заучиваемо для каждого частного случая. Сколько это делает затруднений при изучении английского языка! Вспомним хотя бы окончание ough, допускающее не менее семи произношений в зависимости от того, в какие слова оно попадает: plough (как plow — плоу); through (как oo — тру); cough (как off — кофф); hiccough (как up — хиккап); rough (как uff — рафф); though (как owe — доо); lough (как оск — лок).
В письменности степень договоренности о значении возрастает благодаря системе добавочных ключевых знаков. Однако и это не снимает лабильности самой природы изображаемого понятия.
Если такова природа самих слов, то совершенно в таком же виде рисуется и строй словосочетаний. В китайском языке синтаксис еще не застыл в узаконенный строй словоразмещений, а находится в подавляющем объеме еще на стадии ритмической. То есть ритм произнесения фразы целиком решает ее синтаксическое «осмысление» — сами же фразы еще целиком «все, что угодно», подобно метелочке из конского волоса на театре57*.
320 Ритм еще не застывает в определенный ряд узаконенных словоразмещений, чем является синтаксис как последующая его стадия.
Совершенно такова же картина с математическим осмыслением счета. Здесь мы имеем положение, где счет еще не есть увеличение или уменьшение количественных единиц, но где дело решает количественный комплекс как целое, противопоставляясь другому количественному же комплексу. Где между «четом» и «нечетом» разница не в количестве непарных единиц, а в принципиальной принадлежности к разным рядам, началам и принципам и т. д. и т. д.
Везде мы видим, что слово, знак, предмет, фраза служат не к отчеканке формулировки, не к отточенному представлению о понятии. Их задача другая. И задача эта состоит в том, чтобы прежде всего работать как впечатляющие эмблемы, как элементы воздействия, известные по комплексу своей окончательной действенности. В то время как «западная» логика пытается установить точную понятийную определенность даваемого обозначения, китайское обозначение преследует совершенно иную цель.
Китайский иероглиф служит прежде всего для определенного эмоционального впечатлевания восприятия через весь тот комплекс сопутствующих представлений, которые могут вместе с ним возникнуть. Поэтому целью иероглифа или целью символа (являющегося как бы следующей по объему «сборной» стадией после отдельного знака — иероглифа) совершенно не является дача строго отточенного понятия. Наоборот, он играет прежде всего роль диффузно-образную и прежде всего рассчитан на непосредственное воздействие. Роль многозначимого образа, куда каждое восприятие способно влить и подставить свой объем эмоционально-познавательного опыта, договариваясь с соседом лишь в самых общих объемлющих элементах. При общности ведущего культурного запаса общение этими обобщенными эмоционально значимыми комплексами, без отточенной индивидуализации точного частного понятийного порядка вполне возможно. Больше того — сфера общения таким путем даже шире: любопытно отметить, что этот метод, знающий в первую очередь чувственное обобщение, представляемое символом, и расплачивающийся за это отсутствием интеллектуальной заостренности и точности, как раз в силу этого мог стать средством общения бесчисленных населений Востока. Наречия северного Китая и южного, отдельных провинций между собой, наконец, целых стран, как Китай и Япония, столь различны по языку, что сговориться [они] не могут.
Однако обобщенная символика этих наречий едина на всем протяжении громадных территорий, касается ли это частных 321 иероглифов, которыми могут объясняться жители стран, неспособных сговориться на разных своих языках, или когда дело касается целых комплексов представлений, объединенных в целостное символическое изображению.
Этими же установками насквозь пропитаны элементы искусства и элементы сцены. И в свете этих черт и соображений все неожиданные черты китайской театральной техники приобретают совершенно естественное звучание.
Каков же тот практический урок и опыт, который мы можем извлечь из изучения этого театра? Нам ведь мало одного восхищения его совершенством. Мы ищем в нем еще обогащения нашего опыта. Между тем мы стоим на совсем иных позициях. Мы в нашей художественной практике стоим на позициях реализма, притом реализма наиболее высокой формы развития. Социалистического реализма. И спрашивается, может ли для нас быть поучительным искусство, целиком стоящее на позициях условности, символизма и, казалось бы, несовместимое с нашей предпосылкой мыслительной системы? И если может, то в чем?
Всегда, когда мы подходим к проблеме обогащения нашего опыта за счет каких-либо особо высоких по развитию культур искусства, непосредственно не поддающихся прямому заимствованию, нужно давать себе отчет, где может быть связь, где общий язык и в какой области нашего творчества может быть нам близок общий облик искусства, нам в общем мало или менее свойственного. Так было, например, с техникой японского театра Кабуки. Она совершенно своеобразным путем перекликнулась с эстетикой звукового кино. Вернее, с программой эстетики звукового кино. Эстетики, к великому горю, практикой звукового кино еще не распознанной.
Поучительность природы китайского театра еще шире и глубже. Она затрагивает интереснейшую проблему, которая во всей остроте вступает и вступит в круг вопросов, связанных с ростом нашего искусства. Китайский театр по этой линии является как бы nec plus ultra58* — последними стадиями обобщения и доведения до предела тех черт, которые свойственны всякому произведению искусства.
Того комплекса черт, совокупность которых определяет основное ядро художественности произведения — его образность. Проблема образности произведения — одна из центральных проблем нашей создающейся новой практической эстетики. Уже овладевая характером и образом человека, поступками и образом его действий, наше искусство, однако, во многом еще задерживается лишь на грани изобразительной. Изображающей. Но этим художественность произведения не устанавливается и не исчерпывается.
322 Художественность формы предполагает еще образность оформления того, что изобразительно отвечает представляемому явлению.
Повторяю — культура этой области художественной формы пока еще только на самых первичных ступенях становления.
И здесь вступает своей интереснейшей стороной культура Китая и частное ее проявление — китайский театр.
Она как бы антипод чистому изображению.
Она как бы гипертрофия образной обобщенности за счет конкретного реального изображения.
Она тот градус образности, когда образ переплавляется в новую стадию значимого обозначения — в условность символа.
Единство конкретно-изобразительного и образно обобщенного в китайском искусстве нарушено в сторону многозначимости обобщения в ущерб конкретно-предметному. И это нарушение как бы полярно противостоит тому нарушению этого единства в сторону гипертрофии изобразительной, на котором во многом еще стоит наше искусство, как всякое великое искусство будущего в начальные периоды своего самостоятельного становления. Этот тип развития — такой же первый шаг в реализм, как то, что мы видим в китайском искусстве, есть как бы шаг или несколько шагов за пределы реализма.
Является ли эта полярность двух подходов чем-либо несовместимо не сводимым?
Вовсе нет. Они лишь являются как бы крайностями в развитии тех черт, которые в гармоническом единстве взаимного проникновения являют собой высшие образцы совершенного реализма. И крайность, закрепленная в традициях высокой культуры прошлого Китая, особенно живительна и показательна в запечатленных в ней образцах чистой образности, восходящей до многозначимости обобщенных символов.
Система образотворчества в китайской культуре прошлого (речь здесь идет именно о традиционном прошлом, донесенном до сегодняшнего дня в высочайших образцах китайского искусства) неотрывна от нас и исторически. В великолепии ее традиций остался закрепленным пласт той стадии диффузных и комплексных представлений, которыми всегда и во все времена орудует мышление чувственное, претерпевая свои исторические сдвиги и видоизменения, обусловливаемые ходом смены социальных формаций, совершенно так же, как их отражает и весь идеологический строй надстроек сознания и логики.
Закрепленный традиционализм китайской культуры тем самым донес нам как бы закрепленными в великолепном изваянии памятники системы представлений и мышления, чувственный этап которых проходится каждой культурой на определенном этане своего существования.
323 И перед нами сверкающий феномен. Перед нами как бы совершеннейший памятник комплексной системы чувственно-образного мышления, умышленно не отошедшего от всех своих основных закономерностей, отказавшегося от внедрения в следующую стадию логизма, характерного для Запада, слагавшегося в иных социальных условиях и устремлениях и вместо этого со всей пышностью и роскошью разросшегося не вперед в новую стадию, а вширь — в богатство и изощрение своей системы чувственно-образного мыслительного подхода к явлениям.
Забрасывая нас бесконечными россыпями образцов приложения этого подхода к любым областям культуры от примитивных ремесел, через специфичный строй музыки и математики, к образцам того, чем должен быть свод положений о миропонимании с позиций чувственного и образного мыслительного процесса. Чем должна стать философия в специфических предпосылках этого канонизированного этапа развития мышления, за пределы которого традиция не выпускает художественную и философскую мысль59*.
Проникая в сознание системы строя этих искусств, чувствуешь себя как бы проникающим в великолепные подземные залы, в позолоте которых как бы обретаешь видение пласта, через который прошли любые истории художественного мышления.
Как бы видишь объективированно те стадии и особенности внутреннего процесса, через которые неизбежно проходит творческий ток, выливаясь в творческий акт.
Особенно отчетливо они взывают к творческим работникам. Ибо, вникая в ход и строй образной эстетики и эмблематики китайской выразительности, наблюдаешь как бы в закрепленных объективных образцах все те странные ходы и извивы, которые проходит процесс фантазии и образного становления в тот самый замечательный этап творчества между зарождением замысла и его осознаванием. Этот этап острочувственного самоощущения образа кажется отлившимся в своеобразный канон и строй, пронизывающие китайское художественное мышление и образы, закрепившие в форме своей его своеобразие.
Словом, во всем многообразии отдельных своих проявлений, предстающих перед восхищенными взорами как закрепленное в реальности то состояние творческой фантазии и стадии творческого акта, которые проходит творческое воображение от раз его поразившей и породившей идеи до реалистического произведения, которому суждено в единстве конкретно-изобразительного и 324 чувственно-воздейственного являть совершенную образность произведения высокого реализма.
Вот в каких направлениях кроется обаяние китайской культуры и искусства.
Вот в каких направлениях оно является богатейшей россыпью для познания самых тонких процессов образного движения в творческом процессе.
Вот в каком плане приобщение к этой культуре нам особенно ценно и за пределами театра — особенно в кино, и в первую очередь в звуковом кино.
Ведь разве та интернациональность кино, которая утрачена с переходом на национальные диалоги, не будет восстановлена (помимо тематики) во всей полноте через звукозрительную образность грядущего кино?
Ведь разве решающим в строении звукоречи фильма не является ритмический ее строй и молодика интонации, которые единственно способны поверх барьеров синтаксиса и языка в чувственно-образном плане эмоционально приковывать сердце к развертывающейся драме с тем, чтобы через образ, через чувство звать к тем идеям, которые вызываются к жизни всем строем художественного произведения?
Ведь разве строй китайских письмен и чувственных эмблем китайской эстетики, служащих общению между провинциями и народностями, разобщенными спецификой частных национальных языков, не есть своеобразный образец того, как через эмоциональные образы, напоенные пролетарской мудростью и гуманизмом, предстоит великим идеям нашей великой страны вливаться в сердца и чувства миллионов разноязычных наций?!
Разве образы нашей литературы и наших искусств не являются такими же великими узами, связывающими лучшее, что есть среди людей, невзирая на грани, границы и материки, объединяя их с лучшими идеями передового человечества?
Опыт китайской культуры и искусства в этом замечательном плане должен нам дать громадные материалы для изучения и обогащения нашей художественной методики, решенной и решаемой в совсем иных формах и ином качестве.
И потому сердечный наш привет и радость нашей встречи с тем, кто первый несет к нам совершеннейшие образцы китайской классической культуры, устанавливая мост живого и непосредственного общения с ней.
Наш привет великому мастеру и представителю лучшего, что создано культурой Китая, — нашему другу
МЭЙ ЛАНЬ-ФАНУ.
325 ЕЩЕ О НАРОДНО-ГЕРОИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ*
Уважаемый т. редактор!
Театральное искусство героического плана и форм большого народного зрелища, к сожалению, у нас еще не заняло того места, на которое оно вправе претендовать. Все необходимые предпосылки для появления такого театра, который, не копируя форм и приемов древнегреческого театра, выполнял бы в условиях советской действительности такую же большую воспитательную роль, у нас налицо. И совершенно непонятно то равнодушие, которым окружена самая проблема организации такого театра, тем более что формально он существует в Москве уже в течение пяти лет. Но Зеленый театр в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, который я имею в виду, жалко прозябает, являясь фактически еще одной сезонной «площадкой» для концертов и гастрольных спектаклей некоторых московских театров. Самостоятельных идейно-художественных задач он перед собой не ставит.
В тридцатых годах прошлого столетия в Париже возник «Исторический театр», назначение которого заключалось в показе французскому зрителю героических спектаклей-эпопей, построенных на исторической тематике. С огромным успехом прошла в этом театре героическая драма «Наполеон» Александра Дюма, а также целый ряд других героических пьес на сюжеты из французской истории. Но по размерам зрительного зала и по своему техническому оборудованию «Исторический театр» не отличался от других театров Парижа, выделяясь из их среды, скорее, своими творческими установками. Но «Историческому театру» многое мешало стать ареной подлинно народных зрелищ. В первую очередь ему мешали условия капиталистической Франции, режим Луи-Филиппа.
326 И в России были попытки организации больших народных зрелищ.
В Москве в девяностых годах прошлого столетия небезызвестный театральный антрепренер Лентовский устраивал в помещении Манежа на Моховой своеобразные народные зрелища. Представления Лентовского пользовались тогда большим успехом и были весьма популярны среди самых разнообразных слоев московского населения.
Наконец, Зеленый театр также делал весьма интересные опыты показа на своей гигантской площадке оперных спектаклей (силами Московского Большого и Ленинградского Малого оперных театров). Спектакль «Кармен» был принят публикой Зеленого театра очень хорошо. Массовые народные сцены этой оперы на сцене Зеленого театра были особенно эффектны и выразительны.
Но Зеленому театру пора приступить к работе над спектаклями, в которых были бы органически соединены и кино, и цирковые аттракционы, и балет, и хоры, и выступления оперных и драматических актеров, и т. д. Разумеется, создание подобных спектаклей, построенных на строго продуманном, действенном героическом сюжете, — дело чрезвычайно сложное. Здесь не смогут полностью удовлетворить ни обычная театральная драматургия, ни формы киносценария. Безусловно, для Зеленого театра необходима новая, своеобразная драматургия, которая должна впитать в себя и элементы сценарной техники и техники различных жанров театральной драматургии. Очевидно, что тонкая психологическая нюансировка чеховских или ибсеновских пьес здесь не подойдет. Тонкому психологическому письму, без которого подлинно художественное произведение немыслимо, в этих пьесах-сценариях будет отведено, очевидно, место только в отдельных сценах и эпизодах. Но при этом драматургия будущего народно-героического театра не должна пользоваться одной краской или прибегать к грубому распределению светотеней. Перед деятелями театра, кинематографии и литературы, таким образом, встает вопрос о создании нового драматургического жанра. И сейчас, хотя бы только предварительно, наметить основные его особенности как нельзя более своевременно!..
Но драматургия — только один из элементов народно-героического театра. Большие и новые требования он предъявит и к актерскому мастерству. Очевидно, тонкая мимическая игра отойдет в спектаклях этого театра на второй план. Наоборот, жест и голосовые средства актера приобретут здесь гораздо большее значение, чем на сцене обычного театра. О скульптурности поз у нас чаще всего говорят как об отрицательном и нарочитом приеме актерской игры. И это вполне справедливо, ибо погоня за чрезмерной скульптурностью часто приводит к своеобразной «пластической декламации», статуарной и маловыразительной. Но там, где сценическое 327 пространство будет заполнено большим количеством действующих лиц, скульптурная выразительность мизансцен и пластика, реалистическая, а не слащаво-декламационная, становятся совершенно необходимыми.
Огромное, первостепенное значение для народно-героического театра имеют вопросы репертуара. У нас есть темы и даже конкретные сюжеты, которые требуют больших масштабов для своего художественного воплощения. Здесь окажутся совершенно недостаточными не только размеры зданий наших драматических театров, но и сцены больших оперных зал. Только одной кинематографии доступны эти зрелищные масштабы; но поскольку у нас кино ни в какую конкуренцию с театром не вступает (что имеет место в капиталистических странах), то осуществление подобных постановок на экране отнюдь не снимает вопроса о необходимости создания народно-героического театра.
Есть ряд интереснейших тем для такого театра: борьба русского народа во главе с Александром Невским против тевтонских рыцарей, с польским нашествием, с татарским игом; освободительные движения русского казачества, восстания Болотникова, Разина, Пугачева; революция 1905 года, октябрь 1917 года, Перекопская битва, Царицынская эпопея и т. д. Можно назвать еще ряд сюжетов из русской истории и истории других народов нашей страны, которые могут и должны быть использованы для спектаклей народно-героического театра, тем более что уже имеется ряд прекрасных литературных произведений на эти темы. Необходимо создать волнующие спектакли о героической эпопее борьбы испанского народа против фашистских агрессоров. Где у нас спектакли об обороне Мадрида (кстати, символом непобедимого духа испанского народа является не Алькасар, как это показалось некоторым театрам, а именно героический и непобедимый Мадрид), о борьбе китайского народа против японских захватчиков и т. д.?!
В умном и талантливом романе Лиона Фейхтвангера «Лже-Нерон» рассказана история ничтожного авантюриста, который попытался объявить себя римским императором. По существу, это очень тонкая, с большим мастерством написанная сатира, которая метит в нынешних пигмеев — фашистских «фюреров», — рядящихся в тоги Фридрихов и Наполеонов. Сцены романа, в которых описывается затопление целого города, очень напоминают трагический фарс сожжения берлинского рейхстага в 1933 году. Умело инсценированный «Лже-Нерон» мог бы быть использован для высокохудожественного и политически актуального спектакля на сцене Зеленого театра. (В прошлом году я носился с мыслью поставить «Лже-Нерона» на сцене Театра Революции с М. М. Штраухом в роли Теренция.)
Конечно, к созданию героического театра надо привлечь не только драматургов и актеров, но и режиссеров. Мы располагаем 328 рядом таких мастеров, как Мейерхольд, Охлопков, бр. Васильевы, Довженко и др.; они могли бы здесь оказать неоценимые услуги.
Я поднимаю, уважаемый товарищ редактор, несколько общих вопросов, связанных с организацией подлинного народно-героического театра. Я надеюсь, что вы в принципе согласитесь со своевременностью и необходимостью постановки этой проблемы и привлечете к ее обсуждению деятелей нашего социалистического искусства. Я сознательно не поднимаю вопрос о техническом оборудовании и архитектурном оформлении этого театра, которое также должно быть тщательно продумано. Я уверен, что этим заинтересуются соответствующие специалисты. Ряд архитекторов, композиторов, театральных деятелей, художников, скульпторов высказали немало очень интересных пожеланий и о работе и о внешнем виде Зеленого театра.
К сожалению, руководство ЦПКиО из этих пожеланий и наметок до сих пор еще очень мало осуществило. Не потому ли это случилось, что Зеленый театр — крупнейшая массовая театральная площадка нашей страны — фактически не пользовался должным вниманием не только со стороны нашей театральной общественности, но и театральной печати?
329 ВОПЛОЩЕНИЕ МИФА*
Статья эта — не первоначальные мысли о постановке и не post factum обоснованные положения готового спектакля.
Для первого не хватало времени: между предложением ставить «Валькирию» Вагнера в Большом театре и началом работы у меня было… десять дней.
А статью я сдаю в набор тогда, когда еще не закончены репетиции.
План постановки вырисовался сразу же после первого прослушивания. Основные его черты довольно полно передает эта статья, включившая отдельные мысли автора, которые возникли в самый период работы.
Трудно предсказать, в какой мере осуществятся замыслы. Многое отпадает «на ходу». Многое не удается осуществить из-за технических трудностей. Впрочем, некоторое расхождение между замыслом и осуществлением всегда неизбежно. Но тем интереснее сохранить в нетронутом виде этот свод добрых намерений, которыми мостятся дороги известно куда.
I
Гениальность народа питает искусство. Народный коллективный гений лежит в основе подлинно великих творений. И только искусство, которое своими корнями глубоко уходит в народ, переживает века.
Вот почему мы так глубоко чтим эпические произведения, особенно полно воплощающие дух народов, населяющих наш Союз: и «Слово о полку Игореве», и «Давид Сасунский»1, и «Джангар»2, 330 и «Манас»3, и творения Руставели4, Алишера Навои5, Низами6…
Но наш интерес к народному эпосу еще шире: он переливает за рубежи нашей страны; нас увлекает также эпическая поэзия, созданная гением зарубежных народов.
Такую попытку приблизить к нам эпос народов германских и северных делает сейчас Большой театр Союза ССР. Эта задача тем более увлекательна, что великий эпос нашел здесь гениального выразителя в музыке.
Вагнер, видевший высшее достижение художника в том, чтобы воплощать творческую волю народа;
Вагнер, утверждавший, что великое, настоящее, подлинное произведение искусства художник не может создать сам и один;
Вагнер, писавший, что «трагедии Эсхила и Софокла были творением Афин в целом»;
Вагнер сам своей тетралогией о «Кольце Нибелунга»7 сделал для разрозненных эпических сказаний германских народов то же самое, что для античности сделал Гомер «Одиссеей» и «Илиадой» или Данте «Божественной комедией» для раннего Возрождения.
Эти темы увлекают Вагнера в их первичной форме сказания и мифа, в их нетронутой, почти доисторической чистоте, а не в позднейших обработках, характерных для определенных исторических эпох.
«… Меня уже раньше притягивал к себе великолепный образ Зигфрида, но лишь теперь, когда мне удалось освободить его от позднейших драпировок, его чистейшая человеческая сущность привела меня в полное восхищение. Теперь лишь я увидел возможность сделать его героем драмы, что не приходило мне в голову никогда раньше, пока я знал его только из средневековой песни о Нибелунгах…» (Вагнер, Обращение к друзьям, 1851).
Поэтому не в пример всем иным, кто пытался драматизировать историю Нибелунгов, Вагнер базируется не на «Песне о Нибелунгах», характерной для XI века, а идет прямо к почти не датируемым ее первоисточникам в сказаниях и легендах «Эдды»8.
Устремление Вагнера вполне обосновано, ибо он считает, что древнейший миф и народное сказание, храня всеобъемлющие образы, рожденные мудростью народа («истинным изобретателем был всегда народ и только народ», — пишет Вагнер), дают возможность каждому новому поколению, каждой новой эпохе по-своему исторически осмыслить эти великие образы.
Под этим же знаком он отвоевывает и у христианских легенд их первоначальную общечеловеческую чистоту и человечность:
«… Лоэнгрин — поэма, выросшая не из чисто христианских воззрений, а из идеально довременных основ человеческой истории вообще. Мы ошибаемся в корне, когда, уступая поверхностной мысли, считаем специфически христианское мировоззрение творческой 331 первопричиной всех его образов. Ни один из важнейших и наиболее волнующих христианских мифов не является коренным созданием христианского духа, как мы его обыкновенно понимаем: он унаследовал их от воззрений прошедших веков, во всей их человечности, и только приспособил к своим особенным задачам. Освободить эти мифы от противоречивых воздействий христианской мысли и восстановить в них вечную поэму чистой человечности, такая именно задача стояла перед исследователем новейших времен, и поэту оставалось только окончательно ее завершить…» (Вагнер, Обращение к друзьям).
В статье «Нибелунги» Вагнер старается показать переосмысление идейной сущности эпоса о Нибелунгах на протяжении веков, отмечая связь этого изменения с ходом исторических событий.
С неослабным вниманием стараясь воплотить в произведении его эпически-национальный характер, Вагнер одновременно находит в нем всеобъемлющие мысли и идеи, далеко выходящие за узконациональные рамки.
Какие же общие идеи нашли свое поэтическое воплощение в творениях Вагнера? Это идеи молодого Вагнера, идеи революции 48 года, революции, в которой Вагнер участвовал лично и идеи которой во многом тогда разделял.
На первом месте здесь, конечно, центральная тема всего «Кольца Нибелунга».
Проклятие «золота Рейна», похищенного у его хранительниц; проклятие «клада и кольца», похищаемого друг у друга богами, гномами, драконами и героями; проклятие, проявляющееся в цепи убийств, смертей и преступлений, — какой бы смысл ему ни хотели придумать исследователи любых толков — в первооснове своей самим Вагнером определено как проклятие частной собственности.
«… В мифе о Нибелунгах мы могли проследить необычайно четко очерченную картину отношения всех тех человеческих поколений, которые его создавали, развивали и обогащали, к основной теме о сущности обладания — о Собственности.
Если в древнейшем религиозном представлении клад этот обрисовывается как ставшие доступными человечеству богатства земных недр, то дальше мы его видим уже как опоэтизированную добычу героя и как награду за выдающиеся его деяния.
… Если для самой ранней древности лежало в основе наиболее естественное и простое положение о том, что каждому должно быть отпущено по его потребностям, то со времен народов-завоевателей, при большем имущественном накоплении, так же естественно распределение переходит по нормам способностей наиболее прославленных воителей, их силы и смелости.
В историческом же институте ленного пожалования9 в его первоначальной чистой форме мы отчетливо видим в действии этот принцип наделения человека согласно его личным способностям 332 и достоинствам. С момента же, когда ленное право становится наследственным, как человек, так и его личные достоинства, его поступки и действия теряют свою ценность и ценность переходит на собственность: ставшая наследственной, эта собственность, а не достоинства человека стала отныне решающей, определяя собой все большее и большее обесценивание значения человека за счет возвеличения значения собственности…
… Эта наследственная собственность, а затем собственность вообще… стала основой всего существующего и всего достигаемого; отныне собственность дает человеку права». И т. д.
Вообще же ненависть к частной собственности проходит через писания Вагнера во все этапы его жизни. Как бы ни втягивала его в дальнейшем реакция, как бы ни воплотились в его сочинениях религиозно-мистические элементы, как бы ни отзывался сам Вагнер в дальнейшем о своих юношеских революционных увлечениях как о ребячестве и заблуждениях, как бы, наконец, нелепо он подчас ни старался вскрывать первопричины этого зла, «лейтмотив» ненависти к институту частной собственности неизбежно и настойчиво пронизывает большинство его сочинений, даже так называемых чисто эстетических.
В первых своих выступлениях, например в речи на собрании Отечественного союза (Vaterlands-Verein) в том же 1848 году, он впервые атакует это зло, требуя того, чтобы наконец были вскрыты «первоосновы всех бедствий современной общественной жизни». Здесь он нападает на собственность в форме денег («бледный металл, которому мы лакейски и рабски подвластны», «наш бог — деньги, наша религия — приобретение денег»). Но в приведенном отрывке из «Нибелунгов», написанном в том же году, он нападает на врага, называя его уже собственным именем.
В «Произведении будущего» он пишет, что забота современной ему государственности «сохранять на веки веков неприкосновенность собственности и есть именно то, что становится главным препятствием для создания свободного будущего…».
В «Опере и драме» он продолжает мысль о том, что именно «собственностью, которую по странному стечению обстоятельств полагают основой доброго порядка, порождены все преступления мифа и истории…».
Эта ненависть к собственности не ослабевает в Вагнере до самых последних лет.
В статье «Познай самого себя» (1881) он снова пишет: «… частная собственность, ставшая базой государственного устройства, есть тот кол, который загнан в тело человечества, и причина той мучительной смерти, на которую оно обречено…»
Но, конечно, самое сильное выражение эта ненависть находит У Вагнера в музыкальной и поэтической форме — в трагической судьбе Вотана, этого бога, порабощенного собственностью и обреченного 333 нести все связанные с ней проклятия; бога, взывающего из глубины своего отчаяния:
Я рукой касался кольца,
Золотом жадно владел,
Проклятье его легло на меня:
Кто мне дорог, тех покидаю,
Близких своих гублю я,
Верным изменой плачу.
(«Валькирия», акт II, сц. 2)
Но кто же сам он, этот неуемный и скорбный вагнеровский бог Вотан?
По древней мифологии, он сперва один из триады элементарных сил природы. Там, где стихия Воды выпадает на долю германского Посейдона — Хенира, а стихия Огня принадлежит германскому Гефесту — Локи, там Вотану отведена стихия Воздуха, отводится место, отвечающее греческому Зевсу. И впоследствии, когда упорядочивается древнегерманский Олимп, за Вотаном закрепляется роль старшего из богов, роль Отца.
Это же отразилось и в основном характерном атрибуте приписываемого ему костюма: в голубом плаще, своим цветом сливающемся с небом и как бы растворяющемся в воздушной стихии.
Его стихией и здесь остается Воздух. Но так как восприятие этой стихии возможно лишь в движении, то Вотан неразрывно с этим олицетворяет собой и движение, движение вообще. Движение, охватывающее все его виды — от нежнейшего дуновения ветерка до всесокрушающего урагана бурь.
Но сознание, творящее и порождающее мифы, не знает еще разрыва между прямым и переносным пониманием. Вотан, олицетворяя движение вообще и движение сил природы в первую очередь, одновременно с этим воплощает весь диапазон душевных движений: нежность чувств влюбленных и лирическое вдохновение певца и поэта, равно как и боевую страстность воинов и мужественное бешенство героев древности.
Одновременно с этим Вотан еще и образ неустанного, пытливого искания, жажды мудрости и знания.
Любопытно, что благодаря этой черте легенда представляет его… одноглазым.
Ценой одного глаза он заплатил за познание потустороннего, за проникновение в тайны заоблачные и подводные.
В этой его одноглазости отразилась смена игры двух солнечных дисков:
одного — на заре — ослепительно восходящего в небо, другого — на закате — таинственно заглатываемого водными пространствами Океана…
Таков этот древний бог, олицетворяющий собой силу и мощь человеческого духа, неразрывно связанные с мощью сил природы.
334 Но не таков Вотан вагнеровской драмы, ибо Вагнер как великий художник своего времени не мог показать эти жизнеутверждающие силы человека и природы, человеческую волю, инициативу и страстность иными, чем они были в его, вагнеровскую эпоху; в эпоху порабощения всего человеческого; в эпоху, которую сам он до глубокой старости клеймил, называя ее миром «убийства и грабежа, узаконенных ложью, обманом и лицемерием» (1882).
И поэтому образ Вотана у Вагнера — образ трагически порабощенный: живительные силы природы, воля и мысли человечества скованы. Скованы проклятием бесчеловечного социального строя. Проклятием же должно быть сковано в современном ему обществе и существо, олицетворяющее эти силы. И невольно вспоминается другой скованный титан легенды и мифа — Прометей.
Но там был человек, посмевший попытаться поднять человечество до свободы божеств, управляющих силами природы, дав в руки человечества первое к этому средство — похищенный им с неба божественный огонь. Здесь же перед нами бог, опустившийся на какое-то мгновение до низменности земных страстей и до самой недостойной из них — алчности и жажды собственности, чем и обрек себя на вечное проклятие.
Тот нес человечеству благо: освобождение через огонь. Этот принес божествам проклятие: порабощение золотом. Того терзает орел, посланный мстительными богами. Этого терзает душевный разлад, неразрывно связанный с проклятием «кольца», с проклятием собственности. И в этом Вагнер видит самую сущность драмы человеческого духа своего времени, разъедаемого этим злейшим из проклятий. Выход из нее он мыслит себе лишь в далеком будущем на почве, которую сперва предстоит расчистить огнем революций. Он рисуется ему в явлении некоего страстно ожидаемого им человека будущего в образе Зигфрида, о появлении на свет которого так страстно заботится Вотан.
«… Всмотрись хорошенько в эту фигуру, — пишет Вагнер Рекелю в январе 1854 года. — Вотан до мельчайших деталей похож на нас. Он — свод всей интеллигентности нашего времени, тогда как Зигфрид — это вожделенный, чаемый нами человек будущего, которого мы сотворить не можем, но который восстанет из нашей погибели…»
В гибели окружающего его социального порядка Вагнер единственно видит выход из заклятого круга кольца.
Образ Зигфрида, который должен спасти мир от проклятия кольца, получает глубокий и ранее не прочитывавшийся смысл мечты о человеке, сбросившем с себя иго собственности; благородство Зигфрида, его любовь к жизни и людям вырастают до великой идеи всепронизывающей гуманности.
Потеряв надежду дожить до великой освободительной революции, Вагнер, прежде чем уйти в религиозно-мистические устремления 335 («Парсифаль»), художественными средствами чинит суд и расправу над окружающим его миром, создавая в великолепном завершении «Кольца Нибелунга» через символ «Гибели богов» сокрушительный образ уничтожения всего ему ненавистного60*.
Забавно, что еще в 1932 году я носился с мыслью ставить киноэпопею… «Гибель богов». Проезжая через Берлин, я даже дал об этом интервью: фильм должен был показать закат капиталистического общества, и я предполагал строить его на нашумевших тогда историях исчезновения «спичечного короля» Ивара Крейгера, финансиста Левенштейна, выбросившегося из самолета, и ряда других сенсационных катастроф с представителями крупного капитала.
Название «Гибель богов» казалось мне тогда ироническим, я не занимался в то время Вагнером вплотную, и мне и в голову не приходило, что вагнеровская «Гибель богов» предвосхищала события, свидетелями которых мы были в нашей стране и которые неизбежны во всем мире!
* * *
Но образы Вагнера — не абстракции и не рупоры, выкрикивающие программные сентенции автора. Это удивительные, многогранные живые существа, несущие кроме философского смысла клубок живых человеческих чувств, раскрываемых в стихии несравненной вагнеровской музыки. Многообразно поэтому может быть и их истолкование. Но наиболее вагнеровским путем здесь будет тот путь, которым в собственных своих толкованиях шел сам Вагнер. Ибо умение Вагнера читать глазами современника причудливые узоры древнего эпоса должно служить примером и для тех, кто сегодня собирается истолковать его собственные произведения. И из многообразия возможных толкований творений Вагнера наиболее отвечающим духу Вагнера будет то, которое созвучно передовым идеям современности.
Древний эпос о Нибелунгах в интерпретации человека сороковых годов XIX века наиболее созвучен нам, людям сороковых годов XX века, в «Валькирии», о которой Вагнер пишет Теодору Улигу 31 мая 1852 года: «… в ней мое мировоззрение нашло наиболее законченное художественное воплощение…»
На общем фоне трагедии «Кольца» именно «Валькирия» заключает в себе те сцены, которые Вагнер в письме к Францу Листу 336 (3 октября 1855 года) определяет как наиболее важные для тетралогии «Кольца» в целом. Речь идет о сценах второго акта, которые обрисовывают основной конфликт, столкновение трех морально-этических систем, воплощенных во взглядах и действиях трех его действующих лиц. Повод к конфликту — история любви близнецов Зигмунда и Зиглинды, родителей Зигфрида.
Как в любом эпосе или мифе, так и в этой истории отразился в поэтическом преломлении определенный этап развития общественных отношений на самой заре становления человеческого общества, когда брак между братом и сестрой являлся одной из самых естественных его форм.
В дальнейшем на подобные отношения налагается запрет. Они начинают рассматриваться как безнравственные. На этой почве возникает, например, трагедия Библиды в «Метаморфозах» Овидия:
… Библиды участь — урок: пусть любят законное девы!
Библида стала пылать вожделением к брату — потомку
Феба. Его не как брата сестра, не как должно любила.
Бодрствуя, все же питать упований бесстыдных не смеет
В пылкой душе. Но когда забывается сном безмятежным,
Часто ей снится любовь; съединяется будто бы с братом
Плотски, — краснеет тогда, хоть и в сон погруженная крепко.
Нет свидетеля сну, но есть в нем подобье блаженства!
Лучше богам! Полюбляли сестер не колебляся боги:
Омию выбрал Сатурн, с ней связанный кровно, с Тефисой
В брак вступил Океан, с Юноной — властитель Олимпа.
После долгих мучений Библида в письме открывает любовь свою брату:
…
Удобную выбрав минуту,
К Кавну слуга подошел и слова потаенные отдал.
Сразу же гнев поразил молодого Меандрова внука.
Часть лишь посланья прочтя, от себя он отбросил дощечки
И, удержавши едва над слугою трепещущим руки,
337 Молвит: «Скорей, о любви недозволенной
вестник негодный,
Прочь убегай. Если б гибель твоя не влекла за собою
Также стыда моего, ты сейчас поплатился бы смертью…»
Брат оказался более «передовым», отверг такую любовь и:
… Как вода, что весной под дыханием первым Фавона
Ставшая твердой от стужи, размягчается снова на солнце, —
Так, слезой изойдя, и несчастная Фебова внучка,
Библида, стала ручьем, сохраняющим в этих долинах
Имя своей госпожи и текущим под иликом черным…
(«Библида» — «Byblis».
«Метаморфозы»
Овидия.
Изд. «Academia», стр. 454)
Роковая завязка «Валькирии» относится не к той стадии развития первобытного общества, когда брачные отношения между братом и сестрой еще признавались нравственными, а к стадии переходной, то есть к той, когда на эти отношения уже наложен запрет, но «в плоть и кровь» членов общества эта новая мораль еще не вошла. Таков же именно и случай с Овидиевой Библидой: брат ее Кавн уже разделяет положения новой морали, в то время как сама Библида еще придерживается старых идеалов, завидуя богам: «… Лучше богам! Полюбляли сестер не колебляся боги…» По существу же, эта зависть не столько к перечисляемым ею богам, сколько к морали предыдущих (позже обоготворенных) поколений предков, о которых данные по Моргану приводит в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс:
«1. Кровородственная семья — первая ступень семьи. Здесь брачные группы разделены по поколениям: все деды и бабки в пределах семьи являются друг для друга мужьями и женами, равно как и их дети, т. е. отцы и матери; равным образом дети последних образуют третий круг общих супругов, а их дети, правнуки первых, — четвертый круг. Таким образом, в этой форме семьи исключаются взаимные супружеские права и обязанности (говоря современным языком) только между предками и потомками, между родителями и детьми. Братья и сестры — родные, двоюродные, троюродные и т. д. — все считаются между собою братьями и сестрами и уже в силу этого мужьями и женами друг друга» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 22).
В трагической истории любви близнецов Зигмунда и Зиглинды отразился тот исторический сдвиг в переходе к упорядоченным 338 формам брака и установлению основ нормальной семьи, который лег и в основу трагедии Эдипа. Разница здесь лишь в тем, что Эдип нарушил запрет супружеских отношений между разными поколениями, в частности между родителями и детьми, который уже существовал, как мы только что видели, даже в семье, построенной на кровном родстве (сюда же относится и библейское сказание об осуждении Лота и его дочерей).
У Вагнера Зиглинда покидает своего мужа Хундинга и уходит к своему брату Зигмунду.
Этим она вдвойне нарушает только что создавшийся институт упорядоченного брака: мало того, что она разрушила семейный очаг, она еще, кроме того, стала женой собственного брата, что к этому моменту уже стало считаться преступлением.
И в оценке ее поступка сталкиваются три точки зрения.
Первая точка зрения — анархическая, не признающая ни законов, ни норм. Ее придерживается Вотан.
Вторая точка зрения — точка зрения Фрикки, его супруги, этой Юноны древнегерманского эпоса, хранительницы домашнего очага и строгих норм и правил человеческого поведения. Узкая, формальная точка зрения, отрицающая всякое движение живого человеческого чувства. Это мораль мертвящая и удушающая, столь характерная для официальной морали будущего буржуазного общества.
Но на данном этапе развития человеческого общества подобная неумолимость была исторически прогрессивной и необходимой. И Вагнер поступает исторически правильно, показывая, что в столкновении с ней терпит поражение стихийность Вотана. Покоряясь жене, Вотан вынужден отдать победу в поединке Зигмунда с оскорбленным мужем Хундингом не любимому своему сыну Зигмунду, а оскорбленному Хундингу.
Таков и приказ Вотана исполнительнице его воли — валькирии Брунгильде.
Но Брунгильда одинаково далека как от морализующего формализма Фрикки, так и от анархиствующего свободолюбия Вотана. Для нее единственным законом является человеческое чувство, гуманность. Это третья точка зрения.
Тронутая великой любовью Зигмунда, готового ради Зиглинды отказаться от всех потусторонних блаженств древнегерманского рая — Валгаллы, Брунгильда самовольно решает нарушить приказ Вотана-отца и готова отдать победу нарушителю формального закона Зигмунду.
Но такое решение проблемы было немыслимо ни для обстановки глубокой древности, когда возник этот эпос, ни для середины XIX века, когда Вагнер создавал свою музыкальную драму.
Для времени, когда создавался эпос, возникновение правил, запрещающих первоначальные формы семейных отношений, было, 339 как сказано, явлением прогрессивным. Неподчинение этим правилам было тогда действительно виной, требовавшей кары, ибо оно мешало движению человечества вперед.
Но не могло быть иного выхода и в эпоху, когда творил Вагнер, ибо к тому времени бездушная, формальная «мораль Фрикки» стала средством подавления свободной человеческой личности; формальная мораль на этом этапе уже тормозит движение человечества вперед.
Против этих сил более активно, чем успешно, борется молодой Вагнер-революционер, но победу одерживает над ними лишь Вагнер-музыкант.
Ибо идейной победительницей из поединка выходит, конечно, носительница идеалов человечности — валькирия Брунгильда61*. Однако как действующее лицо драмы Брунгильда (и это исторически дважды обусловлено) не может не потерпеть поражения. Брунгильда становится жертвой гнева Вотана, лишающего ее божественных черт и свойств за то, что в ней дерзнули заговорить человеческие чувства. Но этим Брунгильда как раз становится близкой той эпохе, которая впервые на протяжении многих веков приняла как высший критерий высшую степень человечности, — нашей коммунистической эпохе.
О такой эпохе мечтал молодой Вагнер. «Может быть, вы склонны думать, — писал он в 1849 году, — что вместе с гибелью нашего теперешнего положения и с возникновением нового коммунистического мирового порядка прекратится история, историческая жизнь человечества?
Как раз наоборот: подлинная, свободно развивающаяся историческая жизнь только тогда и начнется…».
Можем ли мы с какой-либо долей достоверности утверждать, что в этих высказываниях Вагнер имеет в виду те же именно коммунистические идеалы, которые за год до этого излагали основоположники научного социализма в «Коммунистическом манифесте» — этой песне песней марксизма?
Конечно, нет, ибо если у Маркса и Энгельса главное внимание направлено на создание нового общества на месте сметенных остатков буржуазного строя, то Вагнера, скорее, окрыляет бунтарский дух анархического разрушения ненавистных ему институтов этого строя. И хотя впоследствии Вагнер пришел к королю-меценату и Байрейту, мы все же живо откликаемся на клокочущие эмоции социального протеста Вагнера 1848 года, эмоции, вызвавшие наиболее сильные его произведения, самые страстные его мечты и высказывания о будущем.
340 Только в далеком будущем видел Вагнер конец тому искусству, о котором с презрением говорил: «… его истинная сущность — индустрия62*, его моральная цель — нажива, его эстетический предлог — развлечения для скучающих…»
К той же далекой эпохе относил он мечту увидеть свои произведения воплощенными на сцене: «… мне представляется чрезвычайно сомнительным, чтобы слава моя, так неожиданно расцветающая сейчас, дала бы мне когда-нибудь возможность доставить “Нибелунгов”. Вопрос этот связан, на мой взгляд, с коренным изменением всего теперешнего положения вещей как в искусстве, так и в жизни…» (1851).
Вагнер писал, что только великая революция может нам снова подарить истинное искусство.
Эта великая революция пришла и раскрыла перед искусством небывалые перспективы.
Сейчас, и только сейчас, мы можем приблизиться к синтезу искусства и к тому синтетическому театру музыкальной драмы, о котором мечтал Вагнер, создавая свои вдохновенные творения.
Самый эпос и неразрывно связанная с ним стихия вагнеровской музыки подсказывают нам путь к воплощению идей синтетического театрального зрелища, которые рисовались Вагнеру в его мечтаниях.
Сказание, вдохновившее Вагнера, родилось во времена, когда человек еще не выделился из всей окружающей его природы, когда индивид еще не достиг самостоятельности внутри коллектива, когда человек еще не противопоставлял себя общине.
В соответствии с этим обликом эпохи Вагнер заставляет в равной и равноправной мере жить на сцене и людей и природу. Здесь как бы материализуется его концепция о синтетическом зрелище, о котором мечтали виднейшие художники всех времен. Но лишь в эпоху, когда народы освободились от векового проклятия частной собственности, когда они объединились в единый братский союз, открылся и искусству путь к слиянию, синтезу.
На решение этих труднейших и увлекательнейших задач весь коллектив постановки «Валькирии» шел с большим энтузиазмом.
Глубокая человечность народного эпоса и великолепие музыкальной стихии Вагнера в равной мере охватили творческой радостью и режиссуру, и дирижера, и художника, и прекрасных артистов крупнейшего советского оперного театра, и оркестр, и конструкторов…
В этой радости раскрепощенных революцией творческих сил мы как бы еще раз перекликаемся с Вагнером, сумевшим даже в годы поражения бросить векам великолепный вызов жизнеутверждающей радости:
341 «Если ты встретишь человека, не умеющего радоваться, — убей его! Недостоин жизни тот, для кого она не имеет прелести».
II
Вот как нам рисуется понимание «Валькирии». Без подобного толкования вещи и даже исследования постановщик, конечно, обойтись не может. Однако альфой и омегой для каждого, кто попытается воплотить произведения Вагнера на сцене, должны явиться его примечательные слова о музыке:
«… Она звучит, и то, что она звучит, пусть обнаружится там перед нами на сцене…»
Вслушиваясь в «Валькирию», погружаясь в стихию ее музыки, мы старались уловить не только драматический строй этого «наиболее трагического из произведений», как его называет Вагнер, но ощутить и то, под каким знаком оно должно раскрываться на сцене.
И ощущение музыки продиктовало то, в каком аспекте она должна предстать перед нашим зрителем.
Острая зрительность, но не пышная зрелищность, для которой нет основания в суровой скупости либретто, зрительность, доходящая почти до осязательности происходящего на сцене, — вот что казалось нам непременно необходимым для воплощения музыки «Валькирии» на сцене.
Эта музыка хочет быть зримой, видимой. И зримость ее должна быть резко очерченной, осязательной, часто сменяющейся, материальной.
Это Тристан и Изольда, а не звенья «Кольца», столь погружены в извивы собственных внутренних переживаний, что вместе с внешним миром, ушедшим из сферы их восприятия, и декоративное оформление должно казаться исчезнувшим, несущественным, несуществующим.
Реальность окружения для Тристана и Изольды расплывается в иллюзию. И потому прав художник Аппиа, когда предостерегает от того, чтобы средствами театральной иллюзии вызывать на сцене впечатления реальности.
Вот почему в постановке «Тристана» б[ывшим] Мариинским театром в Петербурге (1909) всякое внешнее действие сведено до минимума. Следуя словам Вагнера о том, что в «Тристане» не происходит почти ничего, кроме музыки, постановщики придали спектаклю атмосферу каких-то неуловимых, смутных обобщений.
В создании ощущения этой несущественности и неактивности среды, неактивности окружения большую роль играла плоскость вместо глубины, барельеф вместо трехмерности и горизонтальное разрешение зеркала сцены, превратившейся почти в плоскость экрана.
342 Реализовалась мечта романтика Тика10, ополчавшегося на то, что «театры глубоки и высоки, вместо того чтобы быть широкими и неглубокими, наподобие барельефа…».
Но не то нужно для воплощения первого дня «Кольца» — для «Валькирии». Здесь — все активность, страсть, пусть скованная, но не устремленная вовнутрь; страсть, прорывающаяся и вырывающаяся наружу; страсть, переходящая в действие, в неподчинение, в столкновение воль, в поединки и громовое вмешательство высших сил, в разгул стихии и страстей («Ein furchtbarer Sturm der Elemen‘e und der Herzen»63*, — как пишет Вагнер Листу 30 марта 1856 года из Цюриха).
Взрываясь в своем апогее вихрем полета валькирий, этот первый день «Кольца» диктует сценическому разрешению зримость, предметность, материальную ощутимость, активность. Активность, сценически разрешаемую вертикально вверх; пространственно — устремленностью в реальную глубину сцены.
Активность, в сценическом действии разрешаемую подвижностью человека и декораций, красноречием пластической мизансцены, игрой света и огня.
Так сразу ощутилась «Валькирия» с первого же вслушивания в ее музыку.
И отрадно было после этого найти исследовательское подтверждение этому ощущению в таком же противопоставлении «Кольца» именно «Тристану», противопоставлении, сделанном таким знатоком Вагнера, как Хаустон Стюарт Чемберлен:
«… Следует избегать формул, но в общем я все же думаю, что эта формула, которую я как-то себе набросал, во многом правильна.
Кольцо Нибелунга: зрительность — действие, поступок, жест.
Тристан: умственность — мысль…»
По своим устремлениям «Валькирия» требует театра не условного, а реалистического.
Так приближаемся мы к идее осуществления спектакля реалистического в своей сущности, мифологического в своем строе, эпического в своих обобщающих формах, эмоционального в сменяющемся многообразии музыкального и пластического рисунка.
Этим же путем возможно сценическое приближение и к тому, что так правильно по ощущению музыки «Кольца» передает Джон Ф. Ренсимен, один из биографов Вагнера:
«… Помимо магической живописности музыка эта полна неослабевающего драматизма, но она при этом имеет еще одно удивительное свойство: она напоена ощущением некоего древнего прошлого — прошлого, которое никогда, казалось, не существовало. Никаких архаизмов, никакой стилизации, и вместе с тем 343 рядом чудодейственных нюансов вызвана эта атмосфера глубочайшего прошлого человечества, которое внезапно расстилается перед нами…»
* * *
Но, говоря о реализме вагнеровской постановки, не следует поступать так, как поступают некоторые (и даже многие), полагающие, что реализм соединен знаком равенства с бытовщиной. Реалистическое раскрытие произведения Вагнера нельзя понимать в том смысле, что на подмостках оперного театра должны быть воспроизведены с историко-этнографической точностью картинки быта нордического, франкского или древнегерманского. Надо ли доказывать, что любой бытовой намек должен стать в вопиющее противоречие с природой фантастических небожителей, выведенных Вагнером на сцену?
Верно, конечно, что боги созданы человеком по образу своему и подобию64*, и это должно сказаться на их облике и простейших поступках. Однако многое в поведении этих сверхъестественных существ, в их сценическом окружении требует реальности совсем иного рода.
Ощущение реальности, которую мы хотим передать на сцене, возникает не на основе точного знания действительности и природы, а того эмоционального комплекса, которым связан первобытный человек со всем многообразием проявлений природы.
Природа рисуется ему самостоятельным живым существом: то приветливым, то суровым; то вторящим его чувствам, то противостоящим им; то дружественным, то враждебным ему.
Все это нашло свое воплощение сперва в мифологических верованиях. В дальнейшем, по мере того как первобытный человек достигал более высоких ступеней культурного развития, эти верования перешли в произведения мифологической поэзии и эпоса.
Именно эта система образов породила и музыкально-поэтические откровения вагнеровских произведений. Мифология и фольклор — из этого сочетания должны родиться и образ, и облик, и действие воплощенного сценического происшествия.
Путь к достижению этого — проникновение не только в характеры выведенных персонажей, но и в характер того сознания, которое порождало эти поверия, эти образы и представления, воссоздав формы, в которых создателю мифов представлялась реальность, можно воплотить через них то содержание, которое он нес.
344 Так достигается адекватность формы этому вполне реальному содержанию сознания.
Так мы найдем сценический облик, отвечающий внутреннему содержанию «Валькирии».
Идя таким путем, мы сумеем наравне с музыкой и сюжетом еще и средствами зрелищного воплощения расшевелить в глубине собственного нашего сознания те пласты, в которых сильно еще мышление образное и поэтическое, чувственное и мифологическое; и, расшевелив их, мы заставим и их вибрировать в лад с мощью вагнеровской музыки.
Из этого фонда будем мы черпать систему наших выразительных средств, ему будем подчинять их.
III
Первый акт противостоит двум остальным актам, разбитым нами на четыре самостоятельных картины.
Это даже не первый акт, а пролог.
Здесь завязаны все узлы, здесь положены все начала.
Невольно хочется приравнять его (с обратным знаком) к первому прологу «Фауста» — Прологу на небе.
Я подчеркиваю эти слова «с обратным знаком», потому что действие, а не дискуссия о морали служит содержанием пролога здесь — действенной дискуссии на тему пролога посвящена остальная часть драмы.
«С обратным знаком» еще и потому, что пролог этот — пролог на земле, и действие земных людей вызывает смятение среди небожителей, в отличие все от того же «Фауста», где небожитель и сатана сговариваются об эксперименте над обитателем земли.
Промчавшаяся революция сороковых годов ведущим сделала человека, его поставила во главу угла; и ему, человеку, отводит Вагнер пролог первого дня, после того как в «Золоте Рейна» отвел богам космическое начало завязки всей тетралогии в целом.
Так или иначе, первый акт — земля, и первый акт — известного рода Vorspiel ко всей драме.
Поэтому облик его, даже стилистически, как бы противостоит всему тому, что с течением актов и картин будет совершаться на надземных порогах и на подступах к небесам и к Валгалле.
Первый акт — это мир, видимый человеком с земли, мир, ограниченный горизонтом первичных его верований, представлений и ощущений.
Вот почему «ствол громадного ясеня», по ремарке Вагнера, призванный лишь поддерживать «крышу хижины Хундинга», разрастается в поглощающее все пространство сцены могучее древо. В корневищах его ютится жилье Хундинга, жалкий очаг семьи, построенной на насилии мужа над женой. Сердцевина же дерева 345 уготовлена для тех, кто в празднике любви и весны познал истинную свободную любовь.
Это дерево уже не одинокий столб, призванный поддерживать скаты крыши, но мощное Древо жизни, древний Игдразил сказаний «Эдды», поддерживающий стволом своим миры, ютящиеся в разрастающейся его листве.
Вот как рисуется этот Ясень мира (Welt-Esche) по описаниям «Эдды» (цитирую по Карлу Зимрокку):
«… Имя его означает “Носитель Священного Ужаса”. И сам Вотан в одном из древних сказаний именует себя плодом этого дерева. Это дерево самое величественное и могучее из всех деревьев: его ветви распростерты над всей землей и высятся далеко над небесами. В целом же этот Ясень представляет собой образ всего мира. И верхушка его высится выше жилища богов — Валгаллы. А у подножия его живут три девы. Они свивают судьбы людей, и зовут их Норнами. Глубоко под одним из трех мощных корней, направленных к людям, ютится страшный змей Нидхуг, грызущий основание Ясеня. Листва же Ясеня полна самостоятельной жизни. Здесь, среди ветвей его, пасется коза Хейдрун, молоком которой питаются бессмертные герои, перенесенные валькириями в чертоги Вотана. Здесь же, в листве, пробегает один олень и еще четверо других, поедающих молодые побеги и почки Ясеня. Орел сидит на ветвях; орел, знающий о многом, и между глазами его сидит ястреб. По ветвям же скачет белка и переносит слова ненависти и гнева от орла вверху к змее внизу и обратно…»
Различны толкования значений этих обитателей Ясеня мира: кто видит в них идеи самоуничтожения мира; кто — олицетворение сил природы: подземные вулканические силы воплощены в змее Нидхуг, четыре основных направления ветра воплощены в четырех оленях, орел — воздух и т. д.
В одной из первоначальных сценических редакций в сцене любовного дуэта Зигмунда и Зиглинды дерево действительно перевоплощалось в подобие образа Древа жизни — Игдразила. С постепенным нарастанием музыки и лирической напряженности Дуэта дерево разрасталось, покрывалось юной листвой и оживало Цветами; звери и птицы скользили в сочной его зелени; под конец дерево должно было опоясываться кольцом сплетенных тел бесчисленных Зигмундов и Зиглинд, вместе с ними переживающих любовное томление, любовный трепет, торжество любви.
Нечто дантовское было в этой концепции гигантского Древа, оживающего гроздями человеческих тел: то одних только мужских, окутанных звериными шкурами, то только златокудрых женских; то, наконец, тех и других, сплетенных между собой.
И этот дантовский мотив был подсказан самой музыкой: работая над «Валькирией», Вагнер пишет Матильде Везендонк 346 (30 августа 1855 года), что он «теперь каждое утро, прежде чем приступить к работе», читает «по одной песне из Данте»65*.
«Ужасы Ада» сопровождают его «при разработке второго акта и страшного отчаяния Вотана». Столь же ярко звучат мотивы «Чистилища», переходящего из «кругов Ада» в разрастающиеся «круги Рая», когда мифологическое дерево дает приют влюбленным. Сомкнувшиеся объятия разветвлений дерева композиционно как бы замыкают собой пролог.
Свершилось событие, которое приведет в содрогание семью небожителей. Из опускающихся к земле облаков вырастет подобием золотого трона золотая вершина горы. На ней Вотан и Брунгильда; с появлением Фрикки вступит в действие собственно драма.
Интересно дальнейшее развитие этого древнейшего образа Древа.
Ранний Ренессанс также дает нам образы Древа жизни. Но интересно, что в самом понимании «жизни» произошел характерный сдвиг.
«Эдда» представляла деревом систему мира, принцип жизни вообще, образ жизненного процесса.
Здесь же дерево призвано служить каркасом не жизни вообще, но определенной «частной» жизни, можно было бы сказать, личной биографии. Как во всех областях, так и здесь, в эпоху Ренессанса, на первый план выдвигается личность.
Хотя сама эта личность и гипотетическая, хотя фазы ее биографии имеют прежде всего отвлеченно мистический «смысл» и значение, тем не менее это все-таки этапы «драматизированной» истории жизни определенного персонажа.
Я имею в виду деревья в живописи раннего итальянского Возрождения, по ветвям и сучьям которых располагаются последовательные сцены из жизни центрального действующего лица Нового завета.
Дальнейшее «очеловечивание» приводит к тому, что деревья становятся… генеалогическими, то есть такими, где воздействие через образ самого дерева заменяется использованием сучков и ветвей дерева в качества схемы семейных «разветвлений» и «переплетений».
Совершенно так же как и сами эти обозначения, которые, когда-то метафорические и образные (как все переносные слова), сейчас уже звучат не поэтическими оборотами речи, но чисто утилитарными обозначениями, даже в практике коммерческой и бюрократической.
347 Подобное фамильное дерево объединяет собой всю серию романов Золя «Ругон-Маккары»11. Но в одном из этих романов — в «Ошибке аббата Муре» — аббату Муре во сне является такое же дерево во всей его первичной космической силе и с чисто мифологической мощью взрывает оковы церковных сводов, пантеистически выбиваясь на свободу. Оно далеко от пессимизма гаршинской пальмы, разбившей стеклянные оковы купола лишь для того, чтобы погибнуть от окружающей стужи; оно, скорее, вторит мотиву жизнерадостного образа дерева Уитмена, врастающего в небо.
Но не эти деревья я здесь имею в виду. Деревья, которые меня интересуют, подробно описаны Тоде в книге «Franz von Assisi und die Anfänge der Renaissance» (von Henry Tode, Berlin, 190466*). Самый старый образец подобного дерева он находит на старинной картине, хранящейся во Флорентийской академии, написанной под явным влиянием Джотто12. Художник детально воспроизвел то описание дерева, которое в «Lignum vitae»67* дает Бонавентура13, возродивший в Италии этот древний образ (сам Бонавентура представлен у подножия другого, подобного же дерева, изображенного Таддео Гадди14 в Рефекториуме Санта Кроче во Флоренции).
Интересно, что в этом древнейшем образце, особенно подробно описанном Генрихом Тоде, у подножия дерева стоят «прародители» Адам и Ева, как бы замыкая круг образов, родственных Зигмунду и Зиглинде.
Адам и Ева — отзвук платоновского первичного Андрогина, раздвоенные половинки которого стремятся друг к другу; Зигмунд и Зиглинда — разъединенные близнецы, тоскующие друг о друге до тех пор, пока судьба не соединяет их в хижине Хундинга.
Одну из очень поэтических вариаций нового времени на эту же тему дает в «Синей птице» Морис Метерлинк15. Она намечена в той сцене «Царства Будущего», которая на подмостках не исполняется, в образе двух «неразлучных» — тех двух еще «нерожденных душ», которым суждено разлученными вступить в мир и искать в нем друг друга.
Пеладан (Péladan, Les idées et les formes68*) считает самой древней концепцией этого образа китайскую, изложенную в словаре Ел-Иа, которая могла быть известна в греческом переводе Платону и через Египет — Моисею. Вряд ли, однако, следует связывать этот круг родственных образов непременно цепью «заимствований». Гораздо вернее предположить, что одинаковый уровень развития общественных форм при столкновении с одними 348 и теми же явлениями природы и действительности порождает аналогичные концепции и представления. Это блестяще доказано работами проф. Марра16 в области языка.
* * *
Лишь в конце первого акта образ Древа вырастает в пантеистическую эмблему мироздания, каким оно представлялось первобытному человеку. Но на протяжении всего первого акта оно воплощает не всю картину мироздания, а лишь всепронизывающий его дух природы.
Но дух этот, как мы уже знаем, — Вотан.
Итак, на протяжении первого акта дерево — это Вотан.
В пантомиме, пластически воплощающей рассказ Зиглинды об отце, Вотан выходит из ствола дерева и скрывается в его кроне. Однако еще задолго до этого дерево связано с темой Вотана. Мы ощущаем это уже в рассказе Зигмунда («отец же мой исчез»), магически притягивающем всех действующих лиц к таинственному шелесту кроны дерева; этот шелест вызывает тревогу Хундинга и страстный порыв Зигмунда и Зиглинды еще не друг к другу, но к той таинственной силе природы, которая приведет их в объятия друг друга.
Особенно сильно звучит эта тема в сцене, когда Зигмунд остается один. Зигмунд упрекает своего отца за неисполнение обещания помочь сыну, и дерево как бы хочет заговорить: шелест пробегает неясным светом по кроне — качается листва, таинственно вспыхивает ствол, чудесным светом озаряется крона Древа, из самой сердцевины ствола возникает горящей стрелой чудодейственный, непобедимый меч — Нотунг. Своего же апогея игра дерева — Вотана достигает, когда, слившись в теме весны воедино с деревом — образом мироздания, оно раскрывает свое лоно для любовного экстаза Зигмунда и Зиглинды.
Подобный образ дерева-божества — один из самых частых образов мифологии любых стран и народов, бесчисленные примеры этого мы найдем в фольклоре китайском и греческом, сибирском или австралийском, мексиканском или древнегерманском. О них можно прочесть тома и тома описаний и исследований. Вспомним здесь хотя бы один из них, относящийся к одной из древнейших мифологий мира — к Озирису, занимающему схожее с Вотаном место в древних верованиях Египта. О нем пишет Фрезер в «Золотой ветви»17 (ч. 4, т. II английского издания):
«… Но Озирис был не только божеством злаков; он был и божеством деревьев, и это, по-видимому, было наиболее ранним его характером, поскольку поклонение деревьям естественно в истории религий предшествует поклонению злакам… характер Озириса как божества деревьев весьма наглядно представлен 349 в церемонии, описанной Фирмикусом Матернусом: срубалась сосна и выдалбливалась ее сердцевина. Этой сердцевине потом придавался облик Озириса, и полученная таким образом фигурка вновь погружалась в ствол дерева. Трудно представить себе более конкретно образное воплощение мысли о том, что дерево является обиталищем живого существа…»
Все мифологии полны людьми, ставшими деревьями, и деревьями, ставшими людьми.
Одинокий Кипарис, или история Филемона и Бавкиды:
…
Отягченные годами, как-то
Став у святых ступеней, вспоминать они стали событья.
Вдруг увидал Филемон: одевается в зелень Бавкида.
Видит Бавкида: старик Филемон одевается в зелень.
Похолодевшие их увенчались вершинами лица.
Тихо успели они обменяться приветом: «Прощай же,
Муж мой!» — «Прощай, о жена!» —
Так вместе сказали, и сразу
Рот им покрыла листва…
(Овидий, Метаморфозы, 712 – 719).
«Буря» Шекспира или ироническая интерпретация этой мысли от Шарля Сореля18 в его «Le Berger extravagant»69* (XVII век) вплоть до новеллы 1938 года Роберта Эйра «Мистер Сикомор», где рассказывается о превратившемся в дерево… почтальоне!
Здесь же к месту, может быть, вспомнить и завет американского Мичурина — Лютера Бербанка19, велевшего похоронить себя под мощной елью, с тем чтобы «это дерево впитало в себя его останки и он продолжал бы жить и далее в образе этого вечнозеленого растения».
Это отступление о деревьях мы могли бы закончить напоминанием, что «Эдде» все они особенно близки. Согласно ее сказаниям, первые люди на земле — Аск и Эмбла — были созданы Вотаном и его братьями из двух деревьев. Аску и Эмбле Вотан дал душу и жизнь, а его братья — остроумие и желание двигаться, лицо, речь, зрение и слух. (См. «The Sacred Tree or the Tree in Religion and Myth» by Mrs J. H. Philpot, London, 189770*.)
Игра дерева, вторящая всем перипетиям первого акта, продолжается и в следующем акте: в эту игру вовлекаются горы и утесы. Так, во время поединка Зигмунда и Хундинга во втором акте утесы вздымают врагов, обрушиваются под ними и, наконец, склоняют труп убитого Зигмунда к земле. Вслед за утесами в 350 игру вступает и небо, по которому грозным облаком несется Вотан. В третьем акте в игру вовлекаются деревья, обрушивающиеся к ногам Вотана и вновь вырастающие.
Наиболее полное проявление участия природы в человеческой судьбе мы видим в последней картине музыкальной драмы. Здесь эмоция действующих лиц, разлитая в стихии музыки, олицетворяется в пламени, которое охватывает весь небосвод.
Языки пламени, переход оттенков огня, кипящий вулкан и отсветы горения на меди порталов — все вторит движению музыки, сливается с ней, образуя светозвуковую картину финального волшебства огня (Feuer Zauber). Проходящая сквозь весь спектакль идея синтетического слияния эмоции, музыки, действия, света и цвета здесь увенчивает тот образ «неравнодушной природы», какой рисуется она воображению человека, творящего легенды и миф.
Попытка войти в строй мыслей и ощущений этого человека вызывает в постановке и ряд других элементов, может быть, неожиданных для тех, кто привык к традиционным и ортодоксальным постановкам вагнеровских произведений.
Это прежде всего зримость всего того, о чем говорится или хотя бы упоминается по ходу действия.
Для мифологического мышления рассказ имеет совершенно такую же осязательную материальность, как и самый факт. И это потому, что на той стадии сознания решающим является не самый факт, но в первую очередь ответный эмоциональный комплекс, вызванный этим фактом. Под влиянием гипноза и мы переживаем такую же стадию сознания, отвечая полноценным эмоциональным переживанием не на реальный факт, а лишь на описание его в двух-трех словах гипнотизера.
А в творчестве, где случайно брошенное слово вызывает целую серию конкретно осязаемых образов, поступков, событий, разве не сохранились черты этого же сознания?
Так возникают в первом акте (и именно в этом наиболее земном и человеческом акте) видения-пантомимы, цель которых — воплотить в зрительной форме столь важные для понимания действия рассказы Зигмунда о девушке, которую он пытался спасти, о появлении Вотана и о мече, который он вонзил в «ясеня старый ствол».
Тому этот меч назначен,
Кто в силах вырвать его.
Любопытно, что в этом отношении мы следуем по пути, по которому шел сам Вагнер: ведь сюжет самой «Валькирии» в первоначальном замысле «Кольца» был не более как рассказ, включенный в «Зигфрида».
О том, как эти первоначально задуманные рассказы о событиях затем переросли в самостоятельное драматическое произведение, 351 красноречиво пишет сам Вагнер Листу в письме от 20 ноября 1851 года.
По его словам, он пришел к этой «необходимости» не только из самых «глубин своих художественных убеждений», но прежде всего «как художник, восхищенный действенностью сюжетов самих рассказов».
* * *
И так же возникает и еще один элемент спектакля — своеобразные мимические хоры. Их цель — материализовать те разные упоминания-мысли, что разбросаны по всему произведению.
Так, зрелищем становится массовый полет валькирий; трепетные крылатые воинственные девы окружают восемь вагнеровских валькирий в сцене гнева Вотана, траурное шествие образуют они после прощания его с Брунгильдой.
Фрикка возникает в окружении баранов, мчащих ее колесницу. И впереди Хундинга несется громадное многоногое мохнатое тело его своры, вызывающее страх и ужас у преследуемой Зиглинды.
Это же хотелось распространить и на трактовку внутренних коллизий действующих лиц, вывести эти внутренние переживания в действия, в поступки.
И я думаю, что «неподвижность», за которую упрекали Вагнера в «Валькирии», во многом обязана тому, что в прежних сценических разрешениях никогда не делалось попытки перевести игру страстей действующих лиц не только в пение, но действительно в игру — в поступки, в движения и перемещения. И здесь мы старались перевести в наглядность, пластически осязаемую и видимую, весь тот комплекс внутренних чувств и взаимоотношений, которыми обуреваемы герои Вагнера. Таковы взаимоотношения внутри «треугольника» первого акта. Диалог Вотана и Фрикки. Сцена преследования во втором акте. Прибавило ли это драматического динамизма действию — судить не нам; зритель скажет, были ли мы правы…
* * *
Вводом мимических хоров хотелось передать еще одно ощущение, характерное для человека эпохи рождения эпоса. Это ощущение того, что человек еще не осознает себя как самостоятельная единица, выделенная из природы, как индивид, уже приобретший самостоятельность внутри коллектива.
Поэтому ряд персонажей в известные моменты как бы окутан этими соответствующими хорами, от которых они кажутся неотделимыми, из которых они кажутся еще не выделившимися, которые вибрируют с ними одной эмоцией, одним и тем же переживанием.
352 Так, Хундинг мыслится как представитель грубейшей, атавистической стадии рода, более близкого к стае, к стаду, к своре. Вот почему он появляется, окруженный этим многоногим мохнатым телом своей своры; телом, которое, припав к земле, кажется охотничьей сворой, а поднявшись на ноги, — окружением Хундинга, родичами, оруженосцами, слугами.
Фрикка, его заступница и защитница, появляется в окружении хора златошерстных полубаранов, полулюдей, не то одомашненных животных, не то людей, предавших собственные страсти и добровольно надевших взамен этого ярмо укрощенных.
Размягченные лирическим отношением Вотана к любовным проделкам сына и дочери («Но виновны ли они, что на свете теперь весна?»), они робко протягивают Фрикке руки, умоляя не осуждать Зигмунда, за что становятся мишенью ее ярости. Но вместе с тем к ним же, к этим златорунным наперсникам, обращены слишком слезливые, чтобы быть искренними, жалобы Фрикки на непостоянство Вотана между вспышками злобной ревности, гораздо более характерной для этой властной богини, добившейся гибели Зигмунда. Они же каменеют от ужаса при сокрушительных упреках Фрикки. И они же, наконец, рабски припав, пригнувшись к земле, мчат со сцены под свист бича ее гневную и победоносную колесницу.
Своре Хундинга и свите Фрикки противостоит третий образ — образ Вотана, воинственный дух которого, неукротимость воли и мощь душевных сил также ищут своего расширенного воплощения в не менее своеобразном хоре. Этот мимический хор знает уже и индивидуально поющих солистов.
И если тело первых двух мимических хоров, припавши к земле, стелется по ее поверхности, то буйный дух Вотана, воплощающийся в воинственных образах валькирий, мчит их ввысь, в заоблачные дали.
Неукротимые, буйные, как их отец, — таковы валькирии — воплощение воли Вотана («Что ты, как не орудие лишь воли моей», — говорит он), и прежде всего такова любимая им Брунгильда, восставшая против него самого.
Мысль, вызвавшая к сценической жизни три этих мимических хора, продиктовала одновременно и характер их поведения.
Воплощая в себе как бы жизнь, чувства и волю одного ведущего, переливающиеся в группу, они действием вторят ему, не индивидуализированно, не персонифицированно. Они коллективно вторят, но не поступают; и лишь приливами и отливами набегающих чувств свивают отдельных представителей групп в пластические хороводы, вновь разрывая и вновь сливая отдельные группы, но с тем, чтобы нигде не разбежаться в «жанровую» пестроту самостоятельных «сценок», с тем, чтобы всегда осознавать себя единым телом, единым хором и не потерять основного 353 ощущения — текучего единства с мыслями и эмоциями центрального персонажа, чье волнение волнами переливается по ним. Это особенно отчетливо должно быть передано в игре валькирий в третьем акте.
IV
Но чисто пластически на этих хорах лежит еще одна особая задача: они служат как бы групповым связующим звеном между индивидуальным человеческим существом и средой, то есть между солистом и вещественным оформлением сценического пространства.
Выступая недифференцированной подвижной массой между недвижной массой объемных декораций и индивидуализированно подвижным солистом, они являют собой как бы необходимое промежуточное звено для создания пластического единства спектакля.
И трудно в конечном счете сказать, какое из перечисленных побуждений оказалось решающим для ввода в действие мимических хоров, — вероятно, взаимодействие всех их вместе взятых.
Во всяком случае, это последнее побуждение сыграло большую роль. Просматривая фотографии, изучая описание прежних постановок Вагнера на сцене, неизбежно ощущаешь одно: люди, выведенные на сцену, люди XIX века, как бесконечно далеки они от людей мифа, легенд древних времен, в тайну которых сумел проникнуть Вагнер!
Буржуазный человек капиталистического XIX века — всегда один, изолирован, во враждебном отрыве от ближнего и среды, в раздоре с гармонией мира, в непримиримом разладе с человеческим обществом. Так выглядят и эти одетые в пернатые шлемы персонажи. Реальным мехом своих одежд, «самоварным» блеском своих вооружений они еще больше подчеркивают свой безнадежный отрыв от сценической среды.
Победить этот разрыв, противопоставить ему единство первичной гармонии между человеком и средой — вот чего хотелось добиться в пластическом разрешении этого спектакля.
Но это общее охватывающее действие должно, не ограничиваясь сценой, врастать в самый театр. Но не приемом уходов и выходов «через публику» или переплетения мест зрителей с площадками игры, а путем звуко-пластической спайки обоих коллективов, участвующих в зрелище: артистов и зрителей.
Пространственно эта задача решалась деревом, которое своими ветвями уходит под свод зрительного зала, подымаясь за традиционный «арлекин»20.
Звуковое решение этой задачи рисовалось нам так: музыка «полета валькирий» должна была через систему громкоговорителей охватывать весь зал, перебрасываясь «как бы полетом» из глубины сцены в глубину зрительного зала и обратно, разливаться 354 вокруг зала по лестницам, переходам и коридорам. Однако преодолеть здесь традиции оперного театра не удалось! Третий путь слияния — световой — применен в финале первого акта: в зрительный зал вливаются золотые лучи восходящего праздника любви Зигмунда и Зиглинды.
* * *
Но не только эти хоры и полеты должны создавать объединяющее единство музыкально-сценической стихии. И не только подвижные декорации, принимающие непосредственное участие в игре: горы, сражающиеся вместе с героями; дерево, в шелесте ветвей своих старающееся заговорить; огонь, заключающий в свои объятия Брунгильду.
Еще гораздо глубже и проникновеннее должны связать сценическую судьбу человека и среды сменяющиеся «руны» прочерчиваемых актером сценических переходов и перемещений.
Я не напрасно и не случайно назвал их «рунами» — этим обозначением знаков древнегерманского письма, ибо, подобно этим знакам, простым в своем начертании, но насыщенным глубоким смыслом и содержанием, должны быть внешне просты и внутренне содержательны мизансцены подобного спектакля.
Вот почему содержание и самый пластический рисунок пространственных действий должны выходить далеко за пределы обычной оперной «разводки» артистов и должны внутри самой своей пластической формы воплощать содержание и единство драмы, в равной мере охватывающей игру света и игру оркестра, игру человека и игру бушующих в нем страстей.
Здесь, как, может быть, нигде, мизансцена от своей простейшей, утилитарной необходимости — «как-то» размещать людей по сцене — должна подняться до степени подлинно взволнованной пластической речи, до пластической речи исполнителей, перемещающихся по отношению друг к другу; по отношению к пространственной среде; по отношению к расчленяемому их действиями потоку музыкальной стихии.
Поэтому здесь мизансцена сугубо поэтична или, во всяком случае, должна быть таковой. И как поэтическая она должна быть прежде всего образной и музыкальной, рожденной на той же общей основе, что рождены и музыка, и словесная драма, и произносимое слово, и красноречие декоративного оформления.
Отсюда столь же строгий строй «пластических лейтмотивов», переплетающихся с лейтмотивами оркестровыми.
Отсюда столь же строгая оркестровка пластического действия и перемещения, как в музыке.
Отсюда свои же гармонические закономерности: пластические повторы, «возвраты», тематические выделения, пластически разработанные мотивы, контрапунктические согласованности.
355 Отсюда же пространственно-образные комплексы, продиктованные отдельными темами действия. Комплексы, доходящие до почти полной осязаемости, но вместе с тем остающиеся на стадии образа, уловимого прежде всего чувством, а не рассудком.
Отсюда пластический подтекст симметрии, поющий о теме близнецов в первом и втором актах.
Отсюда и тема постепенного подчинения Вотана воле Фрикки и трагедии низвергаемого Вотана.
* * *
Подобный подход к мизансцене и пластическому рисунку действия, рожденный музыкой, в условиях сцены Большого театра приобретает особенно важное значение: здесь оркестр не скрыт от зрителя, как в театре Байрейта21. Здесь оркестр располагается зияющей «пастью» ущелья между зрителями и актером; и если магией музыки он именно объединяет того и другого, то пространственно размыкает их на громадное расстояние. Невольно вспоминается коронный номер знаменитого музыкального клоуна Грока22, состоящий в том, что Грок из глубины сцены опасливо приближается к рампе, заглядывает в оркестр и, повторяя этот маневр раз двадцать, в ужасе подымается каждый раз по-разному и в самых панических интонациях, с непреодолимым комизмом произносит двадцать раз одну и ту же фразу: «Я заглянул в пропасть…»
Но так или иначе, через эту «пропасть» надо перенести смысл чувств и действий актера: и здесь образная мизансцена пластически разрешает то, чего не могут в этих условиях до конца сделать трепетные нюансы мимики и жеста.
Так, не впадая в статику, неподвижность и смысловой иероглиф античной маски, образная мизансцена помогает разрешить часть возложенных на античную маску задач.
Однако сама строгость письма так понятой мизансцены имеет еще одну важнейшую задачу.
До конца расчленяя системой пластического действия поток музыки, мизансцена эта еще добивается того, чтобы рельефно выделять системой «крупных планов» (как мы сказали бы в кино!) отдельные выразительные фазы общего течения звукового потока.
В этой зрительной подаче отдельных последовательных звеньев музыки сама музыка начинает приобретать ту зрительную осязательность, которая и является постановочным принципом «Валькирии».
Здесь сделаны в этом направлении пока первые опыты, но я думаю, что это вообще должно войти в методы постановки музыкальных драм, и не только Вагнера.
356 * * *
Декорация должна служить не украшением или убранством сцены, не только указанием места действия, но и синтезом всей той будущей поэтической игры пластических переходов, подножием которых она служит.
И столь кровно связанная с ними, она должна родиться не только внешне изобразительной, но прежде всего образно значимой, вырастающей из глубины внутреннего содержания, являть которое вовне призвана и она.
Само же пластическое действие здесь должно находить такую же опору, как звуковой опорой ему служит та неповторимая музыка, что вызывает к жизни все явления спектакля в целом.
Такое подножие игры, связанное с ней тысячью нитей, сотней пластических мотивов и движений (то движений, подхватываемых и как бы продлеваемых декорацией, то движений, наоборот, декорацией рождаемых; то сливающих людей и декорации воедино), — такая декорация не могла не быть объемной и трехмерной. И вместе с тем она же не могла быть постоянной и несменяемой, что так глубоко бы противоречило многокрасочно сменяющейся музыкальной стихии Вагнера, Вагнера, считавшего, что «истинная сущность мира заключается в беспредельном его разнообразии» (письмо к А. Рекелю от 25 января 1854 года).
Идея о декорации как об образном подножии динамического носителя мысли и чувства действующего человека, пластически воплощающей драматическое содержание музыки, определила формы декорации.
Декорации оказались как бы той частью единого динамического вихря, что вызывала к жизни музыка; той частью, на долю которой выпало застыть в сценическом пространстве станками и красками, ступенями и обрывами, поверхностями и плоскостями, чтобы служить опорой действиям и поступкам артистов.
Совершенно так же как драматический вихрь темы, несшийся перед духовным взором Вагнера, воплотился в медь, дерево и струны оркестра, создав ту общую опору, на которой развертывается все действие музыкальной драмы в целом.
Так в своих декорациях мы стремились к тому, чтобы наиболее совершенно приблизиться к архитектуре в том смысле, как ее понимал Гете, видевший в ней «застывшую музыку».
Такое требование к декорации, органически вытекая из самой природы музыки Вагнера, ставит в совершенно особые взаимоотношения постановщика и художника спектакля.
Здесь они как бы повторяют те же соотношения полного слияния, которого требует Вагнер от музыканта и поэта, либреттиста и композитора в деле создания музыкальной драмы.
357 В идеале это одно лицо.
Таким был сам Вагнер.
В нашей же совместной работе с таким прекрасным художником и мастером театра, как П. В. Вильямс23, мы достигли такого глубокого взаимного понимания, что, кажется, добились полного единства пластически-образного звучания динамики спектакля в целом.
Насколько же мы добились созвучности этого и с музыкой Вагнера — судить не нам: судить — зрителю.
Но… остановимся на этом. Не будем со всех деталей, намерений и замыслов снимать последние покровы тайны, срывать «последнее покрывало Изиды». Не будем «толкованием» переводить в сферу рассудка то, что порождено непосредственно чувством, непосредственно к чувствам должно взывать и на чувства же призвано и воздействовать.
Будем и в этом следовать завету Вагнера:
«… Я полагаю, что совершенно верный инстинкт спас меня от чрезмерного стремления быть ясным. Чувством я отчетливо вижу, что слишком откровенное обнажение авторского замысла только мешает пониманию…»
* * *
Остается отметить еще одну черту. Невольно и как бы самостоятельно она вплеталась в толкование обликов и в стиль оформления. Это была настойчивая нота эллинистического звучания. В трактовке Фрикки, в шлемах валькирий, сменивших куриные перья на строгий рисунок бронзы, в игре щитами, в построении групп, в строгости линий плащей — везде звучал сквозь первичный германский мифологический образ этот «подтекст» мифа античного.
Думаю, что мы были правы, не заглушив этого звучания. Не только потому, что это как бы расширяло ощущение мифа еще и за пределы узконационального.
Не только потому, что в каждом из нас ощущение понятия о мифе как таковом непременно как-то неразрывно связано с ассоциациями античности.
Но в особенности потому, что и сам Вагнер видел эпическое своеобразие этих мифов глазами человека, глубоко проникнутого духом античности, духом эллинизма.
Сквозь самые разнообразные мифы и сказания, легшие в основу его произведений, Вагнер неизменно видел греческие прообразы.
В «Обращении к друзьям» он пишет:
«… Мы видели уже, что основные черты мифа о “Летучем голландце” предвосхищены в отчетливом образе эллинского Одиссея, что этот Одиссей в своем порыве вырваться из объятий Калипсо, в своем бегстве от чар Цирцеи, в своем тяготении к земной 358 и близкой ему женщине его родины выражал свойственные эллинскому духу элементы того же явления, которое в бесконечно усиленном и обогащенном новым содержанием виде мы открываем в “Тангейзере”.
Точно так же мы находим в одном из греческих мифов не особенно древнего происхождения основные черты сказания о Лоэнгрине. Кто не знает “Зевса и Семелу”? Бог полюбил земную женщину и ради этой любви является к ней в человеческом образе. Но Семела узнает, что возлюбленный явился не в своем настоящем виде, и, увлеченная порывом истинной любви, требует от супруга, чтобы он показался ей во всем чувственном блеске своей божественной личности. Зевс знает, что должен будет уйти от нее, что это будет ее гибелью. Он страдает от сознания необходимости исполнить гибельное требование Семелы. Затем он осуществляет его, и смертоносный для людей блеск его божественного явления поражает возлюбленную…»
В «Опере и драме» он целые страницы посвящает разбору образов Эдипа и Антигоны.
Оркестр он воспринимает как продолжателя роли античного хора.
Да, наконец, и вся его концепция единого органического зрелища, сливающего в синтезе все содружество искусств, ему рисуется как некое более возвышенное воссоздание той первичной гармонии, которая была в слиянии искусств Древней Греции.
Глубокая связь мировоззрения и эстетических взглядов Вагнера с идеалами античности пронизывает все его труды. Интересующиеся этой проблемой могут найти немало увлекательного на эту тему в исследовании Георга Брашованова «Рихард Вагнер и античность».
Для постановщика же было достаточно этого ощущения, пронизывающего прежде всего самые творения Вагнера, да, пожалуй, тех нескольких строк, которые Вагнер написал Августу Рекелю по поводу «Кольца Нибелунга»:
«… Концепция этой вещи сложилась у меня в эпоху, когда мои понятия скристаллизовались на эллинско-оптимистической основе в целый мир…» (23 августа 1856 года).
* * *
И в заключение, быть может, остается лишь развеять одно кажущееся недоумение.
Почему за постановку Вагнера взялся именно режиссер… кино?
Дело здесь, конечно, не в том, что режиссеру кино легче было преодолеть пресловутую «статику» вагнеровской оперы.
В лучшем случае это могло бы обосновать… приглашение кинорежиссера на это дело.
359 Но что же заставляет его самого браться за Вагнера?
Дело гораздо глубже и принципиальнее.
Оно глубоко связано с той проблемой синтеза искусств, которой мы несколько раз касались на протяжении пространной этой нашей статьи, и, в частности, с проблемой создания внутреннего звукозрительного единства в спектакле.
Звукозрительный кинематограф задумывается над этими проблемами, экспериментирует и накопил в этой области известный опыт (отдельные фрагменты в «Александре Невском», как, например, «Скок рыцарей», или отдельные сцены рисованного фильма, как, например, «Белоснежка» Диснея).
Не много создано на этом пути.
И творческая встреча с Вагнером имеет здесь двоякий интерес. С одной стороны, опыт звукозрительного кино помогает осуществлению особых задач, которые ставит перед постановщиком сценическое воплощение вагнеровской музыкальной драмы.
С другой же стороны, сами эти задачи благодаря природе вагнеровской музыки должны родить целую серию звукозрительных проблем, разрешение которых представляет громадный интерес и в свою очередь способно обогащать звуковое кино, особенно к моменту, когда это кино начинает становиться не просто звукозрительным, но еще и цветовым и стереоскопическим.
Необычайно образная музыка Вагнера особенно остро и глубоко ставит проблему искания и нахождения адекватного зрительного образа.
И необычайная эмоциональная насыщенность этой музыки делает эту задачу особенно увлекательной, волнующей, творческой.
Здесь, во встрече музыкальной драмы Вагнера со стихией звукозрительного кинематографа, происходит благороднейшее взаимное обогащение.
Порожденная традицией театра, ранняя эстетика кинематографа на первых порах аморфно слита с театром.
На следующем этапе она резко противопоставляет себя театру, беспощадно отбрасывая все способное напоминать его, вплоть до слитной сюжетной драмы и играющего человека-актера.
И вот после периода усиленной «ретеатрализации» кинематографа, столь же ублюдочной, как и механическая «кинематографизация» театра, на стыке звукозрительного кинематографа с музыкальной драмой Вагнера вновь возникает благородное взаимное творческое оплодотворение кинематографа и театра, без подавления самобытности каждого из них в отдельности, но ведя обоих к разрешению новых и новых задач.
В какой мере это удалось на практике кинорежиссеру, ставящему музыкальную драму на театре, — судить не нам: об этом скажет свое решающее слово наш советский зритель.
360 «ВЫ ЭТОГО
НЕ ЗАБУДЕТЕ»
Пьеса Дж.-Б. Пристли в Театре Комедии*
Сказать о постановке пьесы Пристли словами заглавия пьесы было бы преувеличением.
Этот спектакль не приносит очередного переворота в истории развития нашего театра.
В нем нет неожиданной новизны в методике разрешения сценического зрелища.
Нет в нем и буйства формальных исканий.
Но если об этой постановке вы никогда не забудете, то одно можно сказать безусловно: «Вы ее будете вспоминать, и будете вы ее вспоминать с благодарностью и большим удовольствием».
Впрочем, не знаю, как… вы.
Я буду, во всяком случае.
Почему?
А потому, что одним и притом важнейшим своеобразием обладает этот «театральный вечер».
Именно вечер в целом.
На этом вечере я испытал то, чего не испытывал не только в течение многих и многих театральных вечеров, но даже театральных лет последнего времени.
Я почувствовал себя в театре.
Я был — зрителем.
Я целый вечер занимался семейными делами дотоле совершенно неизвестной мне группы людей.
Я несколько раз менял к ним отношение.
Подозревал их в одном — подозрение не оправдывалось (правда оказывалась хуже подозрений!).
361 Я нетерпеливо ждал, пока какой-то господин в крылатке и фраке соблаговолит и мне сообщить о том, что он узнал по телефону.
Меня пленяла девушка, которая в порыве благородства возвращала жениху кольцо.
А потом я разочаровывался в ней, уверившись в том, что и она, конечно, дня через два-три забудет урок «ложного» инспектора — «ревизора душ», как назвал бы его стареющий Гоголь.
По-английски наш «Ревизор» так и называется: [«Inspector»].
Наконец, и у меня перехватило дыхание, когда в финале пьесы, так похожем на финал «Ревизора», открывается не входная дверь, а… закрывается занавес, оставляя сюжетную тайну нераскрытой и этим как бы подчеркивая все значение того, что дело не в сюжете пьесы, а в теме.
А в течение спектакля я сам теребил соседа:
«А мамаша тоже окажется замешанной?»
«А инспектор — ненастоящий?»
В то время как вокруг несся такой же взволнованный и любопытствующий шепот:
«Ну, теперь возьмутся за сына!» И т. д.
Все это я очень, очень давно уже не испытывал.
Но что же такое театр, если от акта к акту вас не беспокоит дальнейшая судьба персонажа и если после второго акта вы не спрашиваете себя в недоумении: «Куда же дальше?! Что же может случиться еще?!»
Я так устал за эти годы чувствовать себя в драматических театрах, как в анатомических, где, вздрагивая, следишь за тем, как «вскроет» классическую пьесу режиссер, как «выпотрошит» накопленное традицией постановщик или как переосмыслит, рассудит или рассудачит режиссерская экспликация персонаж Кутузова, Суворова или Ивана Грозного!1
Я так стосковался по спектаклю, где можно с интересом следить за красной нитью развития действия, вместо того чтобы стараться не замечать белых ниток, которыми пришиты друг к другу безотносительные эпизоды.
Конечно, и здесь есть исключения. И прежде всего Леонов2.
Но Леонова так трагически не умеют ставить у нас на театре.
Его то принимают за Рышкова3, то за Андреева4, совершенно не умея (и не стараясь) найти постановочного эквивалента великолепному мастерству весьма индивидуального автора, имеющего не только многообязывающее отчество, но и весьма определенное собственное лицо, имя и почерк.
И потому-то добрым словом буду я вспоминать спектакль, который я, вероятно, не забуду за то, что коллективным усилием Пристли — Юткевича — Акимова я на целый вечер был снова 362 обращен в театрального зрителя; то есть человека, которого интересует прежде всего что, а не как и меньше всего как хорошо или как плохо!
И большего комплимента со стороны зрителя не могут ожидать ни автор, ни режиссер, ни художник.
Очень убедительно солидное черное с красным оформление. Оно в меру предметно и в меру же условно, при этом совершенно не навязывая представлений о крови одних, на которой строится благосостояние других71*.
Несколько дней спустя новый вопрос: «Мадам де Германт снова устраивает званый обед. На этот раз она хочет пригласить графиню Д’Юзес и принцессу Мюра. Как ей поступить в этом случае?»
Вопрос щекотливый: графиня Д’Юзес первая и наиболее знатная дама Франции; однако принцесса Мюра, принадлежа к более молодой аристократии, вместе с тем принадлежит к королевскому дому, когда-то при Наполеоне правившему в Неаполе.
Однако Альбер не теряется и здесь. Спокойно и с достоинством он отмечает:
«Графиня де Германт никогда бы не пригласила графиню Д’Юзес и принцессу Мюра одновременно…»
Конечно, подобную справку сейчас не так легко найти среди метрдотелей наших московских гостиниц, но режиссер может быть рад, что рассадка за столом — единственная погрешность в пространственных соразмещениях персонажей на протяжении всего спектакля.
Не только в самих сценических разрешениях, но и в работе с актерами у него всюду заметно большое владение стилем и жанром этого типа пьес, диктующее и совершенно правильную манеру игры персонажей.
Все актеры на своих местах.
В особенности Е. Юнгер, Н. Ханзель, играющий Джеральда, и Л. Колесов, играющий инспектора Гуля.
Юнгер играет роль несколько иначе, чем она написана. У Пристли больше непосредственности, больше от «инженю», больше от наивности слишком молодой девушки.
Юнгер умелым ведением роли как бы переписывает ее применительно к особенностям своего замысла, и роль у Юнгер становится интереснее, чем она задумана у автора.
У Юнгер роль становится двупланной: наивность и непосредственность только прорываются сквозь образ давно утерявшей непосредственность светской барышни, достаточно опытной, чтобы принадлежать к тому [типу], который американцы называют [worldly-wise] (трудно найти этому эквивалент на русском 363 языке — сюда годилось бы, пожалуй, несколько иронически понятое обозначение «умудренная»).
И это делает образ Шейлы Берлинг не только более интересным, но, пожалуй, даже более привлекательным по своему правдоподобию.
Опыт поездки Юнгер в Америку не прошел для нее даром.
Общим упреком актерам могла бы быть некоторая нарочитая вульгарность, с которой они стараются представить поведение своих персонажей.
Острее было бы, если бы, не педалируя этого момента, дать разоблачение внутреннего цинизма этих персонажей, — [оно] не отрывалось бы от блистательности великосветского их поведения.
Однако подробнее всего мне бы хотелось остановиться на пьесе.
Ибо урок самой пьесы, пожалуй, самое поучительное в этом отлично сделанном спектакле.
Мастер парадоксальных ситуаций, Пристли темой своей пьесы на этот раз сам попадает в парадоксальное положение.
Пьеса не играется там, где она тематически нужна.
И пьеса его играется теми, которым по теме она почти что уже не нужна.
Сущность пьесы — жгучая морализующая проповедь. Фраза за фразой бичевала бы она зрительный зал, где в партере сидели бы Арозры Берлинги и Джеральды Кервуды, а Евы Смит дожидались бы их внизу в барах.
Но как раз там-то пьесу и не играют.
А играют ее у нас, где давно ликвидированы сами предпосылки и возможности судьбы Евы Смит.
И где вместе с тем подобная типическая трагедия юной «работницы прилавка» в условиях буржуазного общества ясна и заранее известна каждому зрителю по первым строкам ее биографии.
«Два года тому назад ее уволили с завода…».
И держит наш интерес не тема — не предмет трагической истории Евы Смит — слишком известный, типичный и даже тривиальный, — а остроумие драматургических ходов, которым подана и раскрыта судьба этого персонажа, даже не появляющегося в самой пьесе (совершенно так же как основной герой — тоже покойник в другой пьесе того же автора — в «Опасном повороте» того же Пристли).
364 ЮДИФЬ*
В канун третьей годовщины Октября рыдали две девушки.
Одна — в ярко-красном.
Другая — вся в черном.
Виной слез был молодой художник.
Как молодой и начинающий, он сталкивался впервые с тем острым разочарованием, которое неизменно испытывают художники любого возраста в тот момент, когда эскиз персонажа становится реальным исполнителем; когда эскиз костюма перестает быть рисунком, а становится облачением реальной человеческой фигуры; и когда сам рисовальщик впервые во плоти и крови видит перед собой реальный образ того, что рисовалось его фантазии.
Пропорции фигуры — не те…
Излом стана — не тот…
Движения актеров — не такие…
Все не так!
Первая девушка — в красном — бесила его пропорциями: задуманная эмблемой освободительного движения (в те времена на сцену еще выводились такие персонажи), эта нескладная кубышка, выбранная за мощный голос, стоя на расписанном фанерном кубе, походила на что угодно, кроме как на героически задуманный образ устремленности в высь.
А вторая девушка — вся в черном — злила молодого художника тем, что никак не могла сделать того необходимого излома фигуры, в котором ему рисовался образ «декадентки».
Самому художнику тоже хотелось плакать.
Было до слез обидно.
365 Но от этого он становился только злее и ругался еще больше.
Он был еще молод и не знал, что так будет всю жизнь, до глубокой старости, на первых костюмных репетициях.
Девушки тоже были совсем молоды.
И тоже очень мало понимали в театре.
И для них тоже это был первый в их жизни спектакль, в котором они принимали участие.
И рыдали девушки на два голоса, проливая слезы за всех троих…
Впрочем, девушки были уж вовсе не так виноваты.
Особенно вторая — в черном.
Действительно, откуда бы молодой работнице, только что пришедшей с производства, быть знакомой со всеми причудливыми изломами фигуры декадентствующей поэтессы? С изломами фигуры, так ярко выражающими психический распад и разложение их носительниц?
Ведь дело происходит на сцене первого в мире Рабочего театра, именовавшегося в те годы «Центральной ареной Пролеткульта».
Помещается этот театр в самом сердце столицы первого в мире пролетарского государства — в славном театральном помещении Каретного ряда, откуда вслед первому показу «Чайки» летело в жизнь такое множество молодых окрыленных дарований.
А облаченная в несвойственный ей традиционный черный бархат «непонятой женщины» молодая девушка действительно молодая работница. Она только что перешла на работу в театр с одной из московских фабрик.
И по отношению к ней совершенно уместен вопрос: откуда ей — молодой работнице — знать, что делается в изломанной психике дегенерирующих последышей умирающего буржуазного класса?
Этот вопрос — в моих по крайней мере устах — будет неизменно всплывать в течение многих, многих лет.
Видоизменяясь.
Ибо с промежутками в несколько лет я буду спрашивать себя:
откуда она — эта молодая работница — знает, как ведет себя одинокая, раздираемая страстями английская королева в пустынных, мрачных залах дворца?..
откуда она — эта молодая работница — знает, как поступает старый смехотворный старорежимный какаду, которому доверена роль начальницы женской гимназии?
откуда она — молодая работница — знает, как плетет тройные сети интриги блестящая парижская авантюристка?
Но интонация этих вопросов будет другая.
Уже не покровительственно-снисходительная, как в отношении того памятного вечера за кулисами театра Пролеткульта.
Но с искренним изумлением и восхищением перед тон интуицией, с которой она — эта молодая работница, уже выросшая 366 в прекрасного мастера сцены, — проникает в самое сокровенное тех сценических образов, социально ей чуждых и далеких, которые она такой щедрой рукой подносит зрителю.
Но пока что она — эта будущая чародейка — в слезах корчится на пыльном полу за кулисами подмостков театра в Каретном ряду, тщетно пытаясь вписать себя в издевку над декадентскими изломами, чего требует от нее ярящийся молодой художник-декоратор с буйной шевелюрой и еще более неистовой требовательностью.
Начинающий художник — это я.
Девушку в красном судьба унесла в неизвестность, а ее имя — из реестров памяти.
А распростертая на полу девушка в черном — ныне благополучно здравствующая Юдифь Самойловна Глизер.
Репетируется юбилейное обозрение к третьей годовщине Октябрьской революции.
Это недолговечные «Зори Пролеткульта». Пьеса составлена из стихов молодых пролетарских поэтов.
Наравне с первым показом на сцене живых картин из рабочего быта и революционного движения это обозрение было полно и наивных для сегодняшнего дня обобщенно-символических фигур.
Такова была трактовка группы, уходящей с подмостков истории буржуазии.
В этом «цветнике» исторически обреченных образов Юдифь Самойловна — тогда еще просто Ида — играет «осколок разбитого вдребезги» — декадентку-поэтессу — первый образ из будущей галереи ее сокрушительных сценических сарказмов, так беспощадно разоблачающих все чуждое и враждебное нам.
А все взятое вместе — это наша первая творческая встреча.
Я был первым художником, чьей пластической хватке подверглась Глизер.
А Глизер была первой актрисой, которую я пытался ввести в строго скомпонованный рисунок.
Юдифь героически глотала слезы.
Но вместе со слезами, по-моему, именно в этот же вечер она впервые наглоталась и яда тонкой отравы — любви к строгому рисунку движения, четкости пластического образа, отчетливости внутреннего хода роли.
* * *
В те далекие годы кто говорил — Глизер, говорил — Штраух.
Со Штраухом — старым другом моего детства — мы жили в ту суровую зиму 1920 года в одной комнате.
Спали в шубах.
Ели в шубах.
Бодрствовали в шубах.
367 В центре комнаты стояла наша гордость — тоненькая вертикальная «буржуйка».
Иногда на ней удавалось испечь лепешки.
Но тепло от нее не достигало стен и вовсе не обогревало наше логово на Чистых прудах, у Покровских ворот.
Иногда, возвращаясь домой поздно, я заставал в комнате кроме «буржуйки» еще и ширму.
Ширма отделяла мой угол от угла Штрауха.
Это означало, что Штраух — не один.
Утром втроем пили кипяток.
Штраух, Глизер и я.
Вместе с кипятком в Глизер еще глубже входил уже упоминавшийся тонкий яд отравы строгого письма.
Я начинал заниматься режиссурой.
Мы со Штраухом делали первую роль.
И страшно кипятились.
Увлекались безумно.
Больше всех, пожалуй, кипятилась и увлекалась Глизер.
А к шестой годовщине Октября опять обильно лились ее слезы — на этот раз мы делали уже первую роль с самой Глизер.
Я работал уже как режиссер. Хотя оставался еще и художником собственных спектаклей.
Впрочем, и не только в этом.
И посейчас еще во многом я сам, как режиссер, зажат в цепких лапах меня же — художника.
Не удивительно, что и на Глизер до сих пор остался отпечаток этой тяжкой длани!
Теперь мы уже все трое жили в квартире на Чистых прудах.
И к этому моменту меня отделяла от семейства Штраух-Глизер уже не тонкая ширма, а капитальная стенка между двумя самостоятельными комнатами.
Но объединял нас по-прежнему пламенный энтузиазм, которым всегда согреты первые творческие работы и первые искания.
Счастливы те, кто умеет сохранить этот энтузиазм и на весь дальнейший ход творческой жизни.
Нам троим, кажется, жаловаться не приходится.
Нас троих господь бог не обошел «одержимостью».
А когда мы встречаемся вместе, нам до сих пор курьезно сознавать себя взрослыми и пишущими друг про друга статьи ретроспективно-мемуарного характера…
Впрочем, кому, кроме нас троих, до этого дело?
* * *
Странное и своеобразное очарование лежит на всех работах Глизер. Она всегда самостоятельна.
368 Ее актерская техника точна, как работа эксцентрика; ее манера двигаться четка, как математическая формула; ее владение ритмом безошибочно, как стихотворение первоклассного поэта.
А проникновение в идейную сущность образа, рисунок ее ролей так жестоко отчетлив, что очень часто отсутствие чеканки в работе партнера или хлипкость невыразительной мизансцены немедленно вскрываются во всей своей беспомощности и неполноценности рядом с суровым окриком строгости ее творческого письма.
Этот рисунок не барахтается в туманной неопределенности акватинт или акварелей — он всегда похож на режущую отчетливость гравюры, резанной грабштихелем по медной доске; на рисунок, беспощадно протравленный «крепкой водкой» офорта.
Рисунок — бесконечно едкий и ироничный. Иногда просто забавный. Иногда — патетический. Иногда — трагедийный.
Но всегда — продуманно законченный и до конца исчерпывающий все возможное из того, что предложено ее вниманию.
В этом — великий урок техники эксцентрика и акробата, через которые я беспощадно когда-то гонял мою приятельницу и ученицу.
Бернард Шоу где-то говорит о разнице между канатоходцем и актером.
Первый, ошибаясь, ломает себе шею.
Второй… только проваливается.
И мне понятно, какую великую предварительную школу будущей творческой самодисциплины и ответственности проходили когда-то великие французские актеры и величайший из них — Фредерик Леметр1, подобно многим, начинавший сценическую карьеру выходом… на руках на подмостках бульварного театра Фюнамбюль, прежде чем крепко стать двумя ногами на пьедестал величайшего актера романтического театра прошлого столетия.
Не только в четкости самого исполнения у Глизер видна поучительность этой традиции.
Не только в отчетливости самого рисунка.
Но и в том, как из предложенных обстоятельств и материала извлекается все мыслимое и возможное.
Совершенно в духе того исчерпывающего умения, в котором работают не только Грок и Чаплин; по описаниям — Дебюро2 и по гравюрам — Гримальди3; но и вся великая плеяда безыменных комиков и эксцентриков, безошибочно знающих смертельную губительность для своего антре пустой секунды, неучтенного в мимолетном движении ракурса, не выверенной индивидуальной интонации в традиционном выкрике: «Иду-иду-иду!»
Как строят они — подобием цепной реакции распадающихся атомов урана — цепь нарастающего комизма?
Наворотом деталей?
Конечно, и этим.
369 Но прежде всего отжимом из существующего всего того, что из него можно извлечь.
Вот живой пример.
Это очень старая комедия.
Даже не комедия, а американская «комическая».
В ней играют еще Фатти (Арбекль) и совсем еще молодой Бестер Китон4.
Они белл-бои в маленьком, но претециозном отеле.
В отеле — лифт; хотя и всего лишь на второй этаж, но все-таки лифт.
Лифт как лифт.
Но причудлив приводной мотор этого лифта.
Он состоит из старой, вышедшей в тираж, флегматичной белой бывшей пожарной кобылы.
Кобыла введена в упряжку.
Упряжка прицеплена через блок к каретке лифта.
И когда флегматичная кобыла лениво тянется за пучком травы, который Фатти услужливо уносит из-под ее носа, Китон может на лифте подымать гостей на второй этаж.
Но вот приходят особенно именитые гости.
Их надо принять особенно торжественно.
И как на грех — кобыла настолько сыта, что флегма берет верх над алчностью, и старый одер настолько уходит в воспоминания о былой резвости, что его не сдвинуть с места.
А гости ждут.
Что делать?
Фатти и Китон — находчивы.
Быстро под брюхом лошади разводят… костер.
То ли запах дыма, то ли щекотанье языков пламени по одутловатому брюху переносят эту Россинанту в былую прыть — так или иначе, она порывается вперед.
И торжественно возносится лифт на другом конце.
Уже смешно.
Но комикам-авторам этого мало.
Есть конь. Есть канат. Есть лифт. Есть костер.
Из них извлечено далеко не все, что могут дать сочетание коня, костра, каната и лифта на другом его конце.
На время конь, отыграв, вышел из кадра.
Но остались — костер и канат.
Теперь на очереди «доиграть».
И костер, вырвав из спячки коня, жадным языком пламени лижет… канат!
Лифт плавно движется кверху.
А пламя весело бежит по канату.
В наивысшей точке подъема — и действия и лифта! — канат перегорает, и лифт стремглав летит вниз…
370 Другой пример.
Тот же Фатти в другой комической, торопясь, пакует чемодан.
Вот запихано все.
Кальсоны и зубные щетки.
Ботинки и носки.
Калоши и соломенные шляпы.
С нечеловеческим трудом чемодан закрыт.
Но что это торчит сквозь беспощадно замкнувшиеся его челюсти?
Что-то белое.
Штанина кальсон и белый носок.
Перепаковываться некогда.
Лязг ножниц.
И больше не торчит ни штанина, ни носок.
С какой завистью и вздохом облегчения смотрит на это зритель, так часто мечтавший, пакуясь, проделать то же самое…
Казалось бы, на этом — и делу конец.
Так нет же!
В следующей части. Почему-то на яхте. Почему-то Фатти делает… печенье.
Сперва катает шарик.
Потом его сплющивает.
Затем вырезает кружок из середины.
Вокруг него почему-то ковыляет старик с деревянной ногой.
Почему?
А вот почему.
Фатти скучно вырезать серединки из будущего печенья.
И что же он делает?
Он раскладывает кружки теста на пути старика.
И старик, ковыляя, деревянной ногой аккуратно выбивает из круглых лепешек необходимые кружки отверстий.
В кинематографе мы обозначили бы весь этот сложный процесс одним словом: «перфорирует» — старик «перфорирует лепешки».
Казалось бы, и этого достаточно.
Так нет же!
В порыве ответного великодушия благодарный Фатти протягивает ему в подарок… пару кальсон и носки!
Конечно, это кальсоны с отрезанной штаниной и та пара носок, из которых один — с отрезанной ступней — похож скорее на вязаную трубочку… «напульсника».
Но все это абсолютно кстати!
Ведь у старика… одна нога.
А прямой конец его деревянной култышки очаровательно вселяется в… напульсник.
А вот пример по тем же линиям, но поновее.
Из театральной пьесы.
371 Сезона 1942/1943 года на Бродвее.
Здесь очень буйная сцена между одним полковником и одним генералом, столкнувшимися в комнате общей возлюбленной.
Военная субординация не позволяет разрешить столкновение обычным путем.
По-джентльменски — на кулаки.
Пока мужчины в форме — один обязан быть навытяжку перед другим.
Но мужчины — джентльмены.
И хотят решить спор по-джентльменски — на кулаки.
Как быть?
Средство — простое.
Достаточно скинуть мундиры.
Сцена бурная.
Пять раз взволнованной девушке удается остановить джентльменский мордобой.
Пять раз слетают и вновь натягиваются мундиры, пока в поединке не посрамлен… генерал.
В ярости он вылетает из комнаты.
Казалось бы — конец.
Сцена доиграна.
Так нет же!
Генерал в еще большей ярости снова влетает в комнату: в горячке после последней схватки он по ошибке надел мундир… полковника!
* * *
Так же работает Глизер.
И не только в разработке тех собственных маленьких ситуаций, которые надстраивает над общим рисунком роли каждый актер для самого себя.
Так же обрабатывает она и жест, пока не извлечет из него всей основной и добавочной выразительности.
Так же играет глазом.
Так же пользует интонацию.
И яркими крупными мазками прочерчивает как абрис, так и детали роли.
Иногда она играет крошечные эпизоды.
Но и тогда четкость ее рисунка кажется офортом, прорезанным сухой иглой.
«Сухая игла» — это термин тончайшей графической техники — «Pointe seche», — а отнюдь не характеристика самой ее игры — всегда одинаково сочной, плотоядной, живой, жизнерадостной и заражающей.
А сам рисунок и тут так же точен, прозрачен и ответствен до мельчайшей детали, как точны и ответственно отточены 372 крохотные фигурки. На самом даже заднем плане офортов Жака Калло5.
Крошечные фигурки эти столь совершенны, что выдерживают даже… фотоувеличение размером в целую стену!
Я видел сам такие неожиданные мягкого тона серые «гобелены» — фотоувеличения «Партера в Нанси» во всю стену гостиной очаровательной миссис Айзеке — редактора-издателя журнала «Theatre Arts Montly»72*.
В 1930 году она устраивала для меня прием в своей редакции квартире в самом центре Нью-Йорка.
Я долго не мог понять, чем именно украшены стены той боковой гостиной, где сервировали чай.
Самый сюжет гобелена я знал прекрасно.
Но знал его по папкам коллекционеров.
Знал его кавалеров и дам, лестницы, перспективы и фигурные газоны.
Но знал их запечатленными микроскопически тонкими линиями, на листе нормального размера эстампа.
И вдруг тот же самый сюжет в масштабах, достойных Мантеньи или Гирландайо!6
Улучив свободный момент, я выскальзываю из потока непрекращающихся рукопожатий и жужжания — бессодержательно-вежливых фраз и прокрадываюсь к интригующему меня гобелену.
Осторожно вожу по краешку пальцем и изумляюсь ощущению не шероховатой поверхности нитей тканого рисунка, а гладкой поверхности фотобумажного листа размером от пола до потолка!
Улыбающаяся хозяйка стоит рядом и очень рада, когда я рассыпаюсь в похвалах ее затее.
Нужно же было придумать!
Но нужно было иметь под руками такие тонкие вещи, как графика Калло, чтобы пуститься в такую затею.
Мало есть на свете столь же строгих штриховых рисунков, которые могли бы выдержать такое же испытание — не временем, а… пространством.
Меня уводят обратно к гостям, обещая — по просьбе моей — к следующему моему приезду отделать стены увеличениями с более «раблезианских» по сюжету… «Balli de sfessania»7.
Глядя на эпизодические роли, которыми, как всякая великая актриса, Глизер увлекается не меньше, чем ролями большими, невольно вспоминаешь эти гобелены.
Только разве что последовательности здесь смещены; и острое видение фотообъектива поставлено в начале всей работы; а тайна самого увеличения реализована тем, что через две-три проходные 373 фразы Глизер умеет передать необъятную ширь целой человеческой судьбы и биографии.
Так исчерпывающе типично по существу и так преувеличенно характерно по рисунку будет и здесь ее — пусть вовсе мгновенное и мимолетное — появление на сцене.
* * *
Такая строгость письма?
Стало быть — не божьей милостью актриса вдохновения?
Значит: инженер?
Значит: конструктор?
Алгебраист?
С хронометром вместо сердца?
С метрономом вместо души?
Среднее между Големом и Роботом?
Благо оба из одной и той же Праги8.
Что может быть нелепее таких предположений для тех, кто был свидетелем сценического бытия этой великолепной актрисы — с ее брызжущим юмором, брейгелевской сочностью деталей, жизнеутверждающим темпераментом Рабле, роскошным самообладанием укротителя тигров и неотразимой заразительностью эксцентрика на арене — одним словом, со всем тем, что сливается в то общее понятие сценического «брио», которому, к сожалению, нет эквивалента в нашей ходкой сценической терминологии, столь богатой оттенками определений, касающихся любых тонкостей переживаний, и столь же скупой на все, что связано с блеском сценического письма тех же мастеров — будь то Щепкин или Мочалов, Москвин или Варламов, Шаляпин или Живокини.
Четкость в работе?
Значит — день, расписанный по секундам.
Неустанная смена форм тренажа?
Каждое мгновение на учете?
Акробатика. Спорт.
Гребля…
Нои это на такие же сотни миль от того, что мы знаем о Глизер в быту!
Этот агрессор, способный для осуществления роли на нечеловеческую затрату внимания и усилий, вне рабочей площадки — неузнаваем.
В быту это спокойное существо, способное целыми днями лежать и инфантильно-плаксивым голосом требовать чаю или взбитых с сахаром желтков против воображаемой хрипоты…
А затем часами разбирать заваль «тряпок» — от пестрого ситца до сверкающего «ламэ»9, от мудреных блеклых восточных шелков через крестьянскую набойку или украинскую плахту к теплой таинственности панбархата.
374 Меня всегда поражало, что делается это без малейшей мысли о том, чтобы шить из всего этого когда-нибудь «туалеты».
Разбирать. Складывать.
Разворачивать и прикладывать.
Прикидывать к фигуре.
Снова заворачивать…
И небрежно запихивать обратно — в недра скрипучего зеркального шкафа.
Так может длиться часами, днями, неделями.
Но вот как пауку, лениво дремлющему в паутине, внезапно в поле внимания Глизер жужжа залетает новая роль.
И вот уже она способна не минутами, не часами, не днями, а неделями и месяцами — гореть пожирающим огнем вдохновения.
Способна без устали, часами отрабатывать каждую мелочь. Хорошо, если эта деталь пантомимна. Но боже сохрани, если она интонационна.
Днями во весь голос она станет верещать одну и ту же фразу, примеривая интонацию, переосмысляя слова или фонетически отделывая каждый слог.
Соседи затыкают уши.
Сперва пальцами.
Потом ладонями.
Потом ватой.
Потом окутывая голову шарфом.
Напрасно!
Назойливый «пассаж» роли победоносно все несется и несется, повторяясь и повторяясь, как треск пулемета, как сольфеджио на флейте, и отдается в мозгу обреченного слушателя стуком больших и малых молотов и молотков и вовсе малых молоточков кузнечного цеха.
Сравнение справедливо.
За моей стеной — действительно кузня.
За моей стеной выковывается роль.
Но боже мой — сколько мучительных часов проходит не только с той, но и с этой стороны разгораживающей нас стенки! — по эту сторону, где под неугомонные рулады я безнадежно стараюсь сконцентрировать внимание на монтажных листах «Октября» или «Старого и нового», на статье о гастролях Мэй Лань-фана или театра Кабуки.
Словесные трели неодолимым потоком несутся из-за стены.
А иногда, словно сквозь стенку, врывается ко мне и сама их виновница.
Я давно уже ушел из одного с ними театра.
Давно уже работаю в кино.
Все равно!
375 Это именно я должен посоветовать, как на крутых боках будет держать корзину Лауренсия10 или в каком ритме лучше хныкать немке-экономке в «Концерте» Файко!11
И даже тогда, когда, расселившись с ними, я обретаю отшельнический покой на далекой Потылихе, и то еще буйным ветром нет-нет [да и] влетит ко мне вечно жадная, агрессивная Глизер, то требуя поведать, как заносчивой скрибовской Цезарине12 лучше выбивать носком ноги тарелку из рук лакея или из какого материала сделать корсаж королеве английской — Елизавете!13
Как в долгие часы досуга она роется в тряпье из зеркального шкафа, так в дни и часы творческого запала она с неустанной жаждой будет рыться в лоскутах опыта и наблюдений, неизвестно откуда интуитивно собранных под черепную коробку и, подобно пестрым ее «тряпкам», распиханным по самым неожиданным углам и закоулкам воображения и памяти.
И тут — неустанная мастерица — она так же днями будет комбинировать и сочетать сверкающее «ламэ» внешней отделки роли с мудреным кружевом хода внутренней интонации; пестроту бытовой ситцевой детали с бархатистой глубиной образа…
Есть актрисы, которые расшивают роли бисером.
Так пишет сценический образ Гиацинтова14.
Есть актрисы, которые вышивают их шелковой ниткой.
Такова Бабанова15.
Есть такие актрисы, которые облекаются в оперение райских птиц собственного воображения, хватая их на лету и беспощадно разбирая на перышки.
Такова Серафима Бирман16.
Не такова Глизер.
Глизер работает столкновением фактур и тембров самих материалов.
Отсюда — здоровая чувственность и материальная плотность ее сценических образов.
Отсюда ее странная близость с крайними течениями музыки и живописи.
И, глядя на ее работу, вспоминаешь не Сомова17 или Борисова-Мусатова18, но Татлина и Малевича19.
Не Моцарта и Дебюсси.
Но Прокофьева и Стравинского.
А Пикассо я не упоминаю лишь только потому, чтобы не испортить ей отношения с Александром Герасимовым20.
И становятся понятны те дни кажущегося безделья, когда она часами почти сомнабулически перебирает материи и ткани.
Перед нами не эстетствующий Оскар Уайльд, погружающий пальцы Дориана Грея в рассыпанный жемчуг.
Не Анатоль Франс, этот «католик, не бывший христианином», любовно скользящий тонкой рукой по формам церковных сосудов 376 и фактурам древних облачений «тучных и благочестивых прелатов», призывавший «сталкивать лбами эпитеты», как это делает с фактурами тряпок — Глизер.
Не Дезассент, растворяющий осязание в откровенную чувственность болезненной эротики, прокладывая путь к бредовой эстетике «тактилизма» мясника и скомороха Маринетти21.
Здесь вовсе другое.
Здесь почти что… производственное совещание.
Ведь перед нами все та же — хоть и выросшая — молодая работница, работница прежде всего; а отнюдь не… декадентствующая барышня, которую Глизер ведь только играла!
«Ламэ» игриво провоцирует ее на блеск отделки.
И Глизер хочется, чтобы роль, так же сверкая, переливалась своими переходами, как эта странная поверхность материи, сотканной из золотых и серебряных нитей.
Но сдержанность жухлой набойки образами народной мудрости удерживает ее от чрезмерного разбега фантазии, а своей таинственной бездонностью бархат шепчет о концентрации мыслей вглубь…
Она осязанием и глазом вслушивается в разнообразие их фактур, в блеклость или цветистость их красок, и они ответно влекут к образам, как влечет к ним музыка.
И серебряное кружево оборки говорит ей столько же, сколько трели Моцарта.
А густой тон темно-зеленого плюша гудит пассажами из Мейербера.
Так марки разных вин, по-разному распаляя воображение, заставляют сверкать его всей полнотой многообразия.
А в зеркальном шкафу памяти, богатом отражениями окружения, так же лежат, внезапно вспыхивают и перескальзывают друг через друга отпечатки впечатлений от реальных встреч, запомнившиеся детали, мимолетные штрихи. Им предстоит — как душам нерожденных из «Синей птицы» Метерлинка — со временем проснуться, сплестись и, сочетаясь в целое, вылепливаться теми яркими образами, которые в творчестве Глизер поражают своей обобщенностью.
Пока это рассыпанные штрихи, мимолетные впечатления, отдельные детали.
Они скользят по извилистым коридорам памяти, согретые таким же ласковым вниманием Глизер, как и материи, скользящие через ее ласкающие пальцы.
Какое обилие из них и лично мне знакомо!
Вот манера Ольги Георгиевны говорить в слегка закидываемый кверху нос.
Вот семенящая походка покойной «старой девушки» Дарьи Васильевны.
377 Сколько раз в ночном коридоре сталкивался я с ней: с крысиным хвостиком косички, в одной рубашке и босиком, ее крохотная увядшая фигурка пробиралась в другой конец квартиры.
Там ждал ее друг сердца, недавно въехавший старик, имевший большой «блат» по части кровельного железа.
Вот манера шамкать и вопросительно поджимать губы другой старушки — незабвенной Кузьминичны, стряпавшей на меня и столько раз меня выручавшей своей «пензией», когда я сиживал без денег.
Мы с Штраухом на собственных плечах выносили из нашей квартиры смехотворно легкий гроб с останками этого священной доброты существа.
Вот манера Елизаветы Ивановны слегка набок наклонять свой роскошный бюст.
А вот неувядаемая светскость Юлии Ивановны.
Вот манера Веры Андреевны трясти завитками волос и бирюзовыми серьгами.
Эта предприимчивая дочь дворника Тимофеича, переехав к нам из подвала, тут же вышла замуж.
Квартира гремела попойками и пирами.
У Веры Андреевны появились хрустали и ложки, которые она величественно выдавала нам в пользование.
Пока в одну прекрасную ночь вместе с мужем она не была посажена за спекуляцию.
Вот угловатые движения белобрысой и пустоглазой Ленки, просто водившей с бульвара парней к себе за загородку в прихожей. После того как они с ней вдосталь — под гармонь — накатаются в лодке по затянутому тиной пруду, тянущемуся от Покровских ворот к Гусятниковскому переулку…
А вот, наконец, — железная когорта сменивших друг друга домработниц.
Сопливый, курносый, желтоволосый битюг — Ксения.
С улыбкой во всю румяную ряжку.
С неподражаемым говором, полным совершенно непредусмотренных цезур и перестановок слов.
Эта младшая сестра лесковской Фионы22 за слоновой поступью гигантских ног хранила сердце любвеобильное и жалостливое.
Как прекрасно связывает русская народная речь понятие любить со словом жалеть.
Жалость погубила эту рязанскую Нана. Увела ее из уплотненной квартиры — в нетопленый подвал прижалевшегося ей рыжего пожарного.
Раз в неделю она вновь появлялась, принося с собой на когда-то сиявшей румяной ряжке — синяк: то под левым глазом, то под правым…
378 От раза к разу она таяла и сохла, все ниже опуская плечи своей фигуры гренадера и скорбя о тяжкой доле бабьего рабства, на которое обрекла ее чрезмерная человеческая отзывчивость. «Очень уж Павел Петрович, как выпивают, дерутся».
Потом пропала…
Зато долго держалась желтая, замкнутая, востроносая и злая Дина.
С мелкими и плохими зубами куницы и маленькими глазами без ресниц.
Пока тоже сама же себя не обрекла на добровольную казнь: взявшись где-то в Лефортове «ходить» за какой-то умирающей старушкой.
Из любви к человеку и ближнему?
Нет, что вы! Вы не знаете Дины.
От алчности:
в расчете унаследовать комнату — два метра тридцать на шесть.
Четыре года коварная старушка не умирала.
А Дина бледнела и зеленела.
И ее все больше и больше тревожил накладной расход «девичьей чести» в пользу коменданта здания.
Без этого бесплодно могли пропасть многолетние труды «доброй самаритянки».
Старушка, кажется, жива и поныне.
Дину похоронили в последней стадии туберкулеза.
А судьба и местопребывание любвеобильного коменданта — неизвестны.
И наконец, — ревнитель православия, несокрушимый П. П. З.
Воинствующий протопоп Аввакум в юбке.
Лев и тигр в одном лице: Прасковья Петровна Заборовская.
Гулким набатом прокатывается ее голос, понося и восхваляя, вознося и осуждая ближних или просто перелаиваясь с другими жильцами, но всегда одинаково зычно и громогласно — от ванной комнаты до Ленкиной перегородки. От хором Веры Андреевны до раковины общественного пользования и обратно.
Заставляя трепетать и милиционера, сменившего в комнате «старика»; и инженера путей сообщения, въехавшего на освободившееся место Дарьи Васильевны; и Анфису Ивановну, сменившую комнату после смерти Натальи Кузьминишны; и Ленкиных кавалеров; и самого ответственного съемщика Михаила Николаевича Эгдешмана.
По вечерам, насудачившись вдоволь, Прасковья Петровна — в окружении икон и перин, лампад и мешочков с кореньями — надевала очки и, водя негнущимся пальцем по крупному шрифту страниц, по складам вполголоса читала гигантский осиротелый второй том разрозненного «Жизнеописания генералов 1812 года». Она жалела их не меньше, чем Ксения своего пожарного, и на 379 строках описания их смерти неизменно всхлипывала, проливая умильную слезу.
За свои иконы и перины, лампады и генералов двенадцатого года этот державный оплот мракобесия, выросший под сенью Троице-Сергиевской лавры, была готова лечь на плаху или взойти на костер.
Почти на «вольные страсти».
Или «принять венец мученический».
А с утра в устах ее снова раздавалась иерихонская труба пересудов.
И неврастеник «ответственный» уже бежал в кухню, чтобы унять разбушевавшуюся стихию Прасковьиных страстей.
Но кто укротит океан?
Кто остановит набег грозовых туч?
Кто смирит раскат урагана?
И «ответственный» поспешно смывается вон из квартиры…
Вот краткий и неполный абрис того «музея восковых фигур», который многие годы причудливым хороводом проносился по комнатам и коридорам этой странной квартиры на Чистых прудах.
Какая россыпь материала для тех, кто хочет видеть!
Для тех, кто не хочет упускать.
Для тех, кто умеет копить живые впечатления и знает, когда и где ими озарять творения своей фантазии; реалистически «заземлять» чрезмерный ее полет; и лепить навстречу образам действительные ответные образы собственного творчества, сотканные из черт этой же самой действительности.
Глизер умеет это делать с неподражаемым совершенством.
И словно призраки тех лет, то тут, то там в ее ролях сверкает знакомый штрих, знакомая деталь, знакомый облик в целом.
И я теряюсь в догадках, в каком очередном сценическом воплощении волшебницы Глизер узнаю я из круга обитательниц нашего Чистопрудного гербария говор одной, повадку другой, вороватый взгляд третьей.
Наклон бюста. Задранный кверху нос. Шаркающие шлепанцы. Опущенные книзу концы губ или бровей.
Где? Когда? Сквозь чью драматургическую ткань узнаю я их?
Сквозь Шиллера? Шекспира? Скриба? Леонова? Или Лопе де Вега?
Ведь уловил же я в повадках начальницы царской гимназии мадам Скобло23 характерный жест покойного… Анатолия Васильевича Луначарского закладывать руки за спину.
В движении, которым Констанция в «Обыкновенном человеке»24 ворует рафинад из сахарницы, — тот самый жест, которым это делала какая-то «сановная» дама из «бывших», почему-то тоже заезжавшая все на те же Чистые пруды.
380 И даже в остановившемся взгляде бледной маски лица королевы Елизаветы в темной палате Вестминстерского дворца — я узнаю маниакальную округлость глаз из-под копны седых волос, которыми поверх свечки в щель своей двери следила за мной ныне давно умершая «тетя Саша», медленно перед смертью сходившая с ума…
Вам, зрителям, вовсе не нужно знать каждый из этих прообразов и, зная их лично, узнавать их сквозь хитросплетенную образность персонажей Глизер.
Чтобы узнать их, вам вовсе не нужно было — как мне — сталкиваться с ними в чистопрудной квартире.
Вы узнаете их жизненность и реальность по другому.
По тому безошибочному штриху, который из наблюдения умеет извлечь Глизер, творя из случайного — типическое.
По тому единственному штриху, который способен по, казалось бы, мимолетной случайной детали магически воссоздавать целое. И штрих этот великой мастерицей прочерчивается с такой же беспощадной уверенностью, как линия спины Иды Рубинштейн — Серовым.
И когда в рисунке Иды Глизер сверкает такой же штрих, он вонзается в восприятие зрителя с точностью лезвия рапиры из безошибочных рук Сирано или д’Артаньяна; но несет он не боль, а восхищение; не смерть, а рождение незабываемого сценического образа, навеки насаженного на острие беспощадной иронии, если это противник или враг нашего времени или даже просто пережиток давно социально изжитого.
И зритель восхищен тем, что эта магия становления сценического образа является перед ним не в порядке трудолюбивого и лишенного воображения нанизывания бытовых подробностей, кропотливо нацарапанных из жизни правденок, правдишек и правдашек, сшитых по типу лоскутного одеяла, — но такими же двумя-тремя безошибочно вонзающимися деталями, как слегка косящие глаза Катюши Масловой, завиток локона на шее Анны Карениной или вздернутая губка молодой княгини из «Войны и мира».
Ибо штрихи, которые видит в жизни Глизер и которые она переносит на сцену, это не те «штришки», что идут на подтасовку правды жизни сценической ее подделкой.
Но те черты, скупые и решающие, через которые в явь проступает самое сокровенное из человеческого нрава и характера.
Типические черты.
Черты, единственно обеспечивающие осязаемую рельефность сценического образа как синтеза целого характера, целой биографии, целого класса, целой эпохи, данных через поворот головы, откинутое плечо, протянутую руку или вздернутую бровь.
И диву даешься, откуда у этой недавно еще совсем молодой работницы такая мощь интуиции!
381 * * *
Но не только гойевское каприччио чистопрудных химер под водительством незабываемых Скобло и Констанции струится с причудливой ее палитры.
Ее общественницу Глафиру («Инга» Глебова), ее подпольщицу Рахиль («На западе бой» Вишневского) и даже ее трагически заблуждающуюся Людмилу («После бала» Погодина), которую как роль сценически испортила ей нечуткая эмпирическая режиссура натуралистического толка, — питают иные истоки.
Истоки непосредственного, светлого, живого общения с теми молодыми работницами и комсомолками, с которыми она росла, с колхозницами и партизанками, знатными доярками и стахановками, с которыми она так любит встречаться и общаться в сознании общности единого творческого подвига, независимо от того, на сцене или в цеху, в поле или в шахте находит ему приложение творческий темперамент человека нашей страны.
Помню в «Инге» прежде всего — розовое с голубым.
Голубое прозодежды.
Красное традиционного платочка, накинутого на так трогательно и мило подстриженные белокурые волосы парика.
Розовое — здоровых бабьих рук с засученными рукавами. И снова голубое — в глазах.
В глазах ли? Ведь глаза у Глизер — черные. Нет. Не в глазах, а во взгляде.
Во взгляде — сияющем, веселом, бойком.
На почве цвета этих глаз произошел даже курьез.
Не только я увидел их голубыми в спектакле «Инга».
Голубыми же увидел их и тот ассистент режиссера, который вызвал Глизер на киностудию, чтобы снять пробу для какой-то кинокартины, где нужна была голубоглазая девушка.
Каково же было изумление режиссуры фильма, когда у голубоглазой на сцене Глафиры в жизни оказались черные как уголь глаза!
Но в «Инге» взгляд этот голубой.
И взглядом этим вместе с яркими, теплыми, согретыми чувством словами она охватывает — нет, обнимает — товарок-комсомолок.
До сих пор помню взгляд, с которым эта юная и жизнерадостная советская женщина, вступая в партию, отбрасывает оковы кухонной забитости, став на путь бодрого служения великому делу великой своей страны.
До сих пор не могу забыть восторженно-удивленную интонацию, с которой она обращается к подругам: «Бабоньки!» — стараясь им объяснить все то удивительное, что принесла ей новая жизнь.
Помню эти же глаза — наоборот — черными, глубокими, бездонными.
382 Подернутыми алым пламенем гнева, словно зарницами вспыхивающего сквозь пристальность взгляда.
Это подпольщица Рахиль на допросе.
Это ее гневный, умный, сдержанный, пронзительный взгляд.
Взгляд, которым смотрели поколения женщин-борцов в лицо угнетателей трудящихся.
Такими глазами смотрели Мария Спиридонова25 и Роза Люксембург26, Луиза Мишель27 и Долорес Ибаррури28 в героические моменты своих биографий.
Этим взглядом — опаляющим и испепеляющим, каким-то чудом от этих реальных героинь пришедшим к героине театральной, — Глизер — Рахиль пронизывает подлеца фашиста, старающегося запугать и запутать ее на допросе.
Этим взглядом — достойным того острого ума, который в борьбу свою вносили эти поколения героических женщин, — сценическая наследница их героики Рахиль — Глизер разделывается со своим мучителем, из подсудимой становясь судьей, из подследственной — победителем.
И своре фашистских мерзавцев не остается ничего иного, как физически затравить ее насмерть зубами своих меньших братьев — обыкновенных собак-ищеек.
Такое разнообразное воплощение социально заостренного жизнеутверждающего чувства возможно лишь тогда, когда сам лицедей принадлежит к великой семье тех, кто борется, кто строит.
И в этой принадлежности Глизер к здоровому телу своего класса и неповторимому духу своего времени и заключена основная тайна того умения проникать в сокровенное и общечеловеческое, что звучит во всех ее ролях, сквозь образы любой пластической заостренности и сценического преувеличения, сквозь наряды любых покроев и уборы любых эпох.
И становятся понятны часы и дни ее кажущейся внешней неактивности.
В отличие от бурного процесса сменяющихся толчков и взрывов репетиций и «стахановской вахты» спектакля, в котором Глизер так же без остатка отдается своему сценическому труду, как литейщик — литью, пограничник — охране границ или колхозник — весеннему севу, процесс здесь иной — затаенный и незримый.
Затаенный и незримый, как таинственное прорастание зерен, созревание плодов, но более всего схожий со сложными процессами дистилляции или кристаллизации, когда в процессе брожения вульгарный виноградный сок перевоплощается в опьяняющее зелье Вакха, а перенасыщенный — аморфный и вязкий — раствор таинственных солей набирает в себя мощь внутренних сил с тем, чтобы от легкого внешнего толчка внезапно, целиком, без остатка претвориться в твердое, многогранное, сверкающее тело кристалла.
383 Острые ребра режут!
Грани — блестят!
Блеск ослепляет!
Зеркальные поверхности отражают мир, как совершенная концепция ученого; недра кристалла его преломляют, как концепция философа, пытающегося его осмыслить; а пронизывающие его лучи света разгораются многогранностью спектра, словно палитра художника, старающегося уловить этот мир на своем холсте.
Так в эти дни и внутри внешне неподвижной Глизер протекает такой же магический процесс кристаллизации, когда в острые грани типического стекаются отдельные случайные частности; прочерчиваются глубины; обозначаются плоскости и планы и происходят таинственные сдвиги реальных наблюдений, а видения собственной фантазии приобретают реалистическую очерченность реальных сценических образов.
Но мало одной интуиции. Мало одних наблюдений. Мало одних непосредственных встреч.
Я видел прекрасный американский военный фильм.
Как многие фильмы последних лет — он фантастичен.
Но той конкретной, «деловитой» фантастичностью, которая так характерна для американцев и так обаятельна в их пьесах и сценариях.
Герой фильма — военный летчик, американец, посланный в Англию. В конце первого же ролика фильма он разбивается насмерть. Казалось бы, что так заканчиваются фильмы.
Ничего подобного: собственно, отсюда фильм и начинается.
Сразу же после катастрофы мы видим его идущим по очень широкому пейзажу.
В пейзаже этом, кроме пространства, нет ничего. Если не считать необъятного небосвода без линии горизонта да чего-то — не то утреннего тумана, не то хлопьев ваты, путающихся у него под ногами.
Рядом с ним в такой же кожаной куртке идет кто-то из его же коллег.
Они оживленно беседуют.
О том о сем.
А больше ни о чем.
Как вдруг герой — его зовут Джо — спохватывается.
«Но позволь! Ведь ты же в прошлом году разбился! Тебя же нет в живых?!»
«А… разве сам ты, — отвечает ему приятель, — живой? Ты же тоже разбился вчера…».
Джо очень смущен и интересуется, что же будет дальше.
Выясняется, что «там наверху» все как на земле.
И разбившиеся летчики обязаны являться в небесный штаб разбившихся летчиков к начальнику штаба.
384 Начальник штаба — генерал (его играет Лайонел Барримор)29, тоже заслуженный летчик, когда-то разбившийся на военном самолете.
Выясняется, что никакого райского досуга и вожделенного безделья в загробном мире бедного Джо не ожидает.
Работа продолжается.
Он (как и его товарищи) получает назначение обратно, на землю.
Не то в качестве ангела-хранителя, не то инструктора, но так или иначе — незримо приставленного к молодому летчику, только что выходящему на линию первых ответственных самостоятельных полетов.
Превосходно сделана сцена первого полета!
Погибший летчик сидит позади молодого.
Там, где обычно сидит инструктор.
Молодой летчик его не видит.
Но наставительный его голос он слышит.
Этот голос кажется ему не то воспоминанием о страницах учебника, не то голосом собственной сообразительности.
Но дело не в одних технических деталях летного мастерства.
Основное, о чем твердит младшему старший, — это о том вдохновенном величии, которое наполняет человека, вырывающегося в небесную высь, о той опьяняющей гордости, которая охватывает человека, покоряющего заоблачные дали, — о творческом экстазе, в который погружается человек, властно врываясь в глубину и просторы небесного океана.
И мы видим, как в тон его словам невзрачный, такой земной и невыразительный молоденький пилот на наших глазах превращается во вдохновенного энтузиаста, в того поэта воздуха, в того покорителя небесных пространств, кем были и становились сотни летчиков малых и великих, великих и величайших, подобных нашему Чкалову, так неукоснительно несшему в небесный простор неугасимое пламя того же энтузиазма.
Сыграть такую сцену под силу, конечно, только с виду столь же прозаичному Спенсеру Трэси30 и веснушчатому…73*
И фирма «Эм-Джи-Эм», конечно, их и пригласила на эту незабываемо прекрасную сцену, когда в небесных просторах желторотого юнца внезапно касается «божественный глагол» творческого понимания того, что казалось ему еще за несколько минут скучной рутиной и бездушным профессиональным тренажем.
Но не эта сцена самая удивительная в фильме.
Как ни странно, в этом фильме, полном головокружительных трюков и невероятных ситуаций — от тончайшей лирики до самого 385 смехотворного буффа, от героики персонажей до эпизодов бомбежки бензиновых баз, — самой сильной сценой является монолог.
Монолог Лайонела Барримора.
Вкратце ему предшествует следующее.
У разбившегося летчика Джо — невеста.
Она — тоже летчик.
И тут же, в том же самом летном лагере.
Трэси занимается своим подшефным необычайно рьяно.
Он добросовестным и участливым ангелом-хранителем следует за юным пилотом повсюду.
Так, например, и на дансинг.
Боб робок. Нерешителен.
Боится подойти к девушкам.
И так же наставительно ему на ухо шепчет все тот же незримый Трэси такие же мудрые советы, вселяя в своего подзащитного озорство и самоуверенность.
Однако что делает тот?
Из всех возможных барышень он избирает… невесту Трэси, в грустях и трауре сидящую где-то в стороне.
В этот вечер они еще не танцуют.
Но скромный провинциальный мальчик постепенно завоевывает ее симпатии.
Трэси это сперва забавляет.
Потом сердит.
И наконец заставляет бесноваться от бессильной ревности.
И Трэси придумывает «адский» план.
Сам в жизни головорез, он часто сиживал под арестом за свои головоломные проделки.
Земной его начальник штаба — свирепый противник «воздушного хулиганства».
Что же делает Трэси?
Он накануне выходного дня — у Боба на этот день назначен на целый день пикник с бывшей невестой Джо — провоцирует своего «воспитанника» на выходку дикой смелости — заставляет его пролететь сквозь сарай.
Вечером около штаба Трэси злорадно потирает руки, когда Боба вызывают к генералу.
Однако затея коварного Трэси терпит полное фиаско.
Боб выходит победителем.
И что еще хуже — уходит гулять вместе с невестой Джо!
Но дело еще хуже!
Трэси хочет увязаться за ними, чтобы новым маневром помешать их роману.
Но тут внезапно является «с неба» друг Спенсера Трэси: Спенсера Трэси — летчика Джо — требуют к генералу.
386 Не в «земной» штаб, а в «небесный».
И в «небесном» штабе генерал (Лайонел Барримор) дает Трэси такую взбучку, какой тот и на земле не видал!
И вот эта-то взбучка переходит в замечательный монолог о том, что Трэси не понял своей роли.
А роль его — в продлении той непрерывной живой связи всех поколений погибших авиаторов, которая связывает живых и отживших между собой.
Гибель одних — это залог возможности летать другим.
Жертвы не напрасны.
И за спиной каждого юноши, порывающегося в небо, стоят поколения погибших за то, чтобы он мог это сделать.
Цепь передачи опыта непрерывна.
И в летном поступке каждого — коллективно творческое достижение всех.
Величие самой мысли, как и форма ее произнесения, так прекрасно, что будь мне двадцать лет, я, вероятно, тут же ринулся бы в поднебесье.
И приходится отдать должное блеску агитационного мастерства этого фильма.
В финале картины (после массы перипетий) Трэси — так же в инструкторском кресле — летит на подвиг в полет со своей невестой. Она бомбит японские бензохранилища и выручает Боба.
А когда, вернувшись в лагерь, она бросается в объятия Боба, Трэси медленно отходит.
И… исчезает.
Его миссия выполнена.
В летчики я, конечно, не пошел.
Мне не двадцать лет!
Но история «Парня по имени Джо», как называется этот фильм, прекрасна именно этой идеей творческой преемственности поколений — какой бы области мы ни коснулись.
И в нашей творческой области не менее, чем в других.
* * *
Когда я говорю, что в творчестве нашем мало одной интуиции, мало одних личных встреч, переживаний и наблюдений, — я имею в виду гигантский творческий опыт накопленного в прошлом.
Я имею в виду верного товарища и спутника актера, костюмера, режиссера и музыканта, литератора и драматурга.
Книгу.
Глизер и книга!
Вообразить Глизер с книгой в руках — для меня так же неожиданно, как увидеть Отелло за прялкой или Макбета с утюгом.
387 Так сильна ее непосредственная жизненность, кого бы она ни играла. Так далека она от книжности на сцене. И так редко ее [можно] встретить с книжкой в руках в реальном быту.
Но как же так?
Ведь не только в области того, что требует непосредственного наблюдения, но и в том, что требует знаний эпох далеких или отдаленных, Глизер безупречна в деталях своего рисунка.
И следя за ходом трагической судьбы королевы Елизаветы, вы видите в смене абрисов сценического рисунка Глизер почти исчерпывающее наличие всего того, что, по крайней мере в пределах Москвы, можно зрительно узнать о «рыжей Бэсс», к которой так упорно сватался наш царь Иван Васильевич Грозный.
Вот линия губ с восковой фигуры королевы из Вестминстерского аббатства.
Вот иногда странно безжизненные руки и тяжелые веки портретов кисти Федериго Зуккеро31.
Вот «стойка» Елизаветы (Глизер любит это выражение), — стойка, взятая с большой круглой королевской печати.
Вот слишком высокий и вместе с тем покатый обнаженный лоб с коленопреклоненного облика королевы из собственного ее королевского величества молитвенника.
Вот искусственно разведенные в стороны гигантские полукруглые дуги бровей с портрета Марка Гаррарда в Хэмптон-Корте32.
Когда же королевский венец у Глизер на голове, то он закинут так же высоко назад на затылок, как на профилях королевы, украшающих шиллинги эпохи ее царствования.
А в том, как Глизер вдруг своеобразным, толстозадым — сверкающим золотом — пауком внезапно уходила в глубь резного кресла тронного зала, улавливалась не только документальная правдивость на этот раз ни из какого источника не списанной убедительности.
Рисовалось большее: чудилось, что от этого трона уже протянуты те нити, которыми алчный «коварный Альбион» столетиями будет опутывать земной шар — от Индии к Канаде, от Суэца к Родезии, от Австралии к Ираку и Палестине.
Но, погружаясь в логово своего кресла, Глизер не покидала твердой почвы реалистической убедительности.
Не уходила в абстракцию символа.
Наоборот, — в эти мгновения еще острее становилось характерное для ее исполнения странно конкретное ощущение подлинно бытовой Елизаветы, какое возникало, например, в моем представлении, когда в Британском музее я читал оригиналы ее писем к шотландской королеве, полные превыспренней ругани с упоминанием дьявола из второй строки в третью.
Или когда я старался уловить отпечатки ее несомненно увлажнявшихся пальцев на небрежно зарисованном наброске «мизансцены» 388 обстановки казни Марии Стюарт, приложенной к отчету Роберта Вингфальда, скрепленного собственноручной надписью лорда Бэрли, пересылавшего этот отчет своей королеве.
Это тот именно отчет, где имеется описание знаменитой детали о любимой собачке злосчастной королевы, забившейся в момент казни под ее юбки и насильно вытащенной оттуда одним из палачей, после того как топор другого палача после двух ударов уже снес царственную голову своей жертвы.
Собачка не захотела покинуть тело своей любимой госпожи.
Она вернулась к телу королевы и, как дословно сказано в отчете, — «легла между головой ее и плечами» («But came and lay between her head and shoulders»).
И именно так, читая этот отчет, вероятно, сидела в кресле и историческая королева…
В такие моменты на сцене витает трагический дух победительницы Великой армады, а благодаря исполнению Глизер сквозь Шиллера сквозит Шекспир.
Иное дело Скриб и Цезарина…
Здесь — не надгробия и королевские печати. Не восковые идолы и музейные холсты.
Здесь властвует литография.
Здесь веселый хоровод сплетают гравюрки.
Здесь на каждом шагу — Берталл33.
Предощущение Гиса.
И какие-то реминисценции от Дебюкура36.
И даже когда налицо промах и в «Улице радости» перед нами недостаточно английский тип, то и тогда это окажется не промахом от небрежности, но напрасным усилием, приложенным к неверно выбранному адресу прообраза — к персонажу из серии «Синих чулок» Оноре Домье («Женщины авторши»), тогда как нужно было идти к англичанам Крюнкшенку37 или Фидзу.
Где же ключ к тайне этой эрудиции?
Ключ этот имеет имя, отчество и фамилию.
Имя это — Максим.
Отчество — Максимович.
Фамилия — Штраух.
Ибо и сейчас, кто говорит — Глизер, говорит — Штраух.
Сочетание их превосходно.
Я имею в виду то сочетание, в котором они совместно трудятся над галереей своих сценических образов.
Непосредственная, алчная, интуитивная Глизер.
И изощренный, даже рафинированный, вдумчивый и осмотрительный Штраух.
Взрыв нетерпимой животной непосредственности, недоступный ему.
389 И кропотливый труд эрудиции, документации и дозировки и анализа и учета, чем так по-своему прекрасно его собственное мастерство.
Полная освобожденность ее дарования от груза прошлого, от канонов и традиций, которые въедаются при встрече с искусством смолоду.
А Глизер до Пролеткульта и в театре-то порядочном не бывала!
И рядом почти энциклопедическое познание Штрауха о том, как подымал Шаляпин руку в Олоферне в отличие от Бориса; двигал пальцем в Дон-Базилио не в пример Дон-Кихоту; носил бороду Досифея, не повторяя Сусанина, и играл князя Галицкого, не повторяя никого и неповторимо ни для кого.
Все это видано и перевидано несчетное число раз молодым подрастающим Штраухом.
Станиславский, Качалов, Москвин, Леонидов — во всем лучшем, что они создали.
Ермолова, Южин, Остужев, Коонен38, Орленев.
Не говоря уже о десятках звезд меньшего калибра, в сотнях ролей неисчерпаемых сокровищниц отечественной и мировой литературы.
Вероятно, отсюда — та бережная филигранность отделки в его личной работе на сцене.
Привычка бережно хранить в памяти и чувствах неповторимую мимолетность сценического видения приучила его к бережности и глубокому уважению к любой мелочи из того, что положено на подмостках ему делать самому.
Добросовестность Штрауха в области документации того, что он делает, достойна зарисовок тычинок и стебельков, десятков разновидностей трав и цветов, которые поражают нас до сих пор в записных книжках Леонардо или Дюрера; или деталей крылышек стрекоз и лапок кузнечиков, не менее поразительных в альбомах Утамаро и Хокусаи.
Я знаю об этом по опыту.
С двадцатого года Штраух был у меня актером, в годы двадцать пятом, двадцать шестом и двадцать седьмом работал со мной ассистентом — по «Броненосцу “Потемкин”», «Октябрю», «Старому и новому».
Здесь Штраух был совершенно незаменим на одном из самых ответственных участков этой работы.
Он ведал «типажом», то есть подбором таких лиц, которые при минимальной игровой нагрузке (а часто и вовсе без нее) сразу же, с первого на них взгляда, могли давать зрителю исчерпывающее представление о законченном образе.
Представления эти в различных случаях могут быть совершенно различного порядка.
390 Но всех их объединяет одна общая черта: краткость метража — то есть мимолетность их показа на экране.
И отсюда категорическое требование на предельное внешнее выражение той внутренней характеристики, ради которой они выбраны.
Разбираться в них и разглядывать их — некогда.
Давать им большую игровую «нагрузку» — невозможно.
Это обычно не актеры.
И чем характернее бытовые их облики, тем обычно труднее бывает просить их что-либо «сделать» перед экраном. (Если только это — не ловко «подсмотренное» у них, свойственное им в жизни действие, которое режиссер умело вплетает в свое построение.)
Иногда для траурной сюиты «крупных планов» нужны лица с отпечатком горя.
Иногда в лице нужно самодовольство.
Иногда — подозрительность.
Иногда — злорадство или сомнение.
А ведь сколько есть лиц, на которых так на всю жизнь и отпечаталась подобная характерность — результат длительного поведения в определенном направлении.
Ракурс и поворот головы; легкая «поправка» в прическе; соответствующая деталь костюма — и «типаж» внезапно становится почти синтетическим образом.
Сколько раз мне приходилось добрейшего парикмахера с мексиканской хасиенды обращать ракурсом съемки и подсветкой в злодея остроты гойевского облика; из алма-атинского мясника делать… «ганзейского купца»; или прикрывать подслеповатые глазенки истопника севастопольской гостиницы, преображая его в судового врача на «Потемкине»!
Так неожиданно перекидывается на экран традиция великого мастера русской живописи — дедушки милой Наташи Кончаловской — Сурикова.
(Кстати сказать, сама Наталья Петровна состоит на учете в качестве «боярыни» для «Ивана Грозного»!)
Широко известна история с хмурым учителем математики, за которым Суриков гонялся чуть ли не через всю Москву, найдя именно в нем исчерпывающие черты для образа «Меншикова в Березове» и стараясь уговорить его позировать.
И какую пеструю историю можно было бы написать о повседневной киноработе с типажом!
Помощь Штрауха в этой работе была незаменима.
Он обладал неоценимыми для этого качествами.
Это прежде всего — способность со всей остротой доподлинно «видеть» в своем воображении черты того персонажа, который — в порядке словесного описания или приблизительного наброска — я ему «заказывал».
391 И второе — способность «узнавать» такое желанное лицо из сотен встречных — на бирже ли труда, в ночлежном ли доме (тогда еще существовала «Ермаковка»), из сотен матросов крейсера, на базаре, в трамвае или просто на улице.
Я уже не говорю о последующем умении убедить и уговорить нужного человека сниматься, поддерживать в нем необходимое настроение и «заговаривать ему зубы» в течение долгих часов съемки, дабы, не дай бог, тот не покинул ателье в самый нужный момент. И это Штраух делал с неподражаемым умением.
Я помню, как однажды ко мне в Европейскую гостиницу (мы снимали тогда «Октябрь») он почти насильно привел почти плачущего от досады известного архитектора Д., «захваченного» им прямо на улице: мы предполагали снимать в библиотеке Николая II в Зимнем дворце сцену, как портрет Керенского пишет Репин.
И седовласый архитектор Д., куда-то очень торопившийся, имел несчастье походить на Илью Ефимовича, но еще большее несчастье — попасть в поле зрения «всевидящего ока» Максима Штрауха.
Я помню, с какой настойчивостью Максим, рыская где-то по кладбищам, сумел подцепить для меня какого-то попа-расстригу — отца Матвея, согласившегося повести крестный ход в сцене засухи из «Старого и нового».
Но я помню и гораздо более сложные задания, из которых Штраух всегда выходил с таким же блеском.
Так, например, подбирал он «фанатиков» для участия в самом крестном ходе — по самому общему абрису указаний на то, что нужно.
Так с блеском он собирал типаж для съемок «2-го съезда Советов» в сценах «Октября». Тут задание было совсем особенное. Надо было так подобрать и костюмно оформить отдельных участников массовки, чтобы сразу же можно было узнать, кто из них «правый эсер», кто — «левый», кто «меньшевик» и т. д.
Для этого надо было хорошо изучить характерности, повадки, традиционные костюмы, манеру носить пенсне, курить или закладывать руки в карманы — всех этих представителей групп, группировок и партий, «типажно» крайне характерных и чем-то резко отличных друг от друга.
Раз изучив все это — и по фото, и по расспросам среди знающих людей, и по литературным описаниям, — надо было суметь выискать их среди каких-то учительниц, фармацевтов (где был обнаружен двойник Дана), бывших присяжных поверенных и счетоводов с природными эспаньолками.
Не меньше возни было с «портретами», с Временным правительством — со всей этой плеядой Керенских, Коноваловых, Некрасовых и Терещенок (в роли Терещенко, кстати сказать, «любезно согласился» пропозировать совсем еще тогда молодой Ливанов).
392 Эта работа, в которую Штраух уходил с головой и неослабевающим энтузиазмом, приносила и ему, как актеру, громадную пользу.
Ибо если здесь к законченному представлению об образе, который носился в его воображении, приходилось подыскивать его воплощение в живых, конкретных людях и проверять совпадение этого образа с встречным реальным «типажом», — то совершенно так же, работая над ролью, приходится, самому преображаясь, «примерять» разные оттенки перевоплощения до тех пор, пока реально создаваемый образ не совпадает по всем своим чертам и признакам с образом, рисовавшимся в воображении.
Отсюда понятны неугомонность и мастерство Штрауха (вспомним его Рубинчика из «Улицы Радости»)39 и Глизер на том участке пластической выразительности роли и полного перевоплощения, на котором работает такое малое количество наших лучших актеров (Николай Черкасов, покойный Хмелев, Серафима Бирман).
Отсюда же и понятно, каким подспорьем в работе Глизер является Штраух.
Какую помощь оказывает он ей на путях ее сценических перевоплощений — величайшего дара, которым сверкает талант подлинного артиста.
Им в совершенстве владеет Глизер.
Я помню тот вечер, когда ныне покойный Жемье40 в восторге от сценического образа старухи Скобло помчался за кулисы Рабочего театра Пролеткульта, чтобы пожать руку «комической старухе», которую он рассчитывал встретить.
Я помню его изумление, когда ему навстречу из рядов взволнованных его присутствием молодых студиек вышла одна из самых молодых и скромных — так блестяще сыгравшая образ женщины раза в три старше ее!
Я помню и тот давнишний памфлетный спектакль московских актрис — счет драматургам, слишком скупым на женские роли, — в котором участвовали одни актрисы, если не считать шамкающего старика — деда раешника, путавшегося между ними.
Я помню крик изумления и восторга, когда в конце спектакля «старик» сдирал бороду, а из-под седого его парика хлынула черная волна волос все той же хохочущей Глизер!
И на путях всех этих чудесных сценических воплощений рядом с Глизер — неизменно — Штраух.
Творческое содружество Штраух и Глизер — прежде всего прекрасный образец коллективного труда, который по всем областям работы дает наиболее прекрасные результаты.
В этом месте интересно вспомнить, что пишет вслед Стендалю о кристаллизации Стравинский:
«В конечном счете для достижения прозрачной стройности произведения — для его кристаллизации — необходимо, чтобы все дионисийские элементы, которые ураганом увлекают воображение 393 и заставляют подыматься мощную волну творческого напора, были бы вовремя — прежде чем мы потеряем голову — укрощены и подчинены закону».
Я привожу здесь именно эти слова из лекций о «музыкальной поэтике», читанных им в Гарвардском университете, прежде всего как слова о «дионисийском» начале как порыве творческого темперамента, который лежит в основе создания всякого произведения.
И это потому, что именно Стравинский, сверкающий таким блеском формального совершенства, считается одним из самых абстрактно-рационалистических композиторов.
В этом умении обуздать и кристаллизовать свою чрезмерность и неуемность — не обедняя и не оскопляя их, но направляя в русло совершенных форм выражения — лежит одна из величайших трудностей, но и прелестей мастерства.
Но для того чтобы умело пользовать узду и трензель, необходимо прежде всего иметь необузданно-бешеную устремленность самого коня!
И замахиваясь на такую беспощадную точность отделки своих сценических произведений, какую мы видим у Глизер, — нужно прежде всего иметь и бездонно алчный темперамент самой Юдифи.
Недаром она носит имя девицы, которая в опьянении ночи любви сумела не только вскружить расчесанную и завитую голову ассиро-вавилонского завоевателя — но и снести ее точным ударом меча!
Иногда обоими этими качествами в совершенстве владеет сам мастер. Иногда на «разверстке» их на двоих строятся самые плодотворные творческие содружества.
Таков именно случай совместной работы Глизер и Штрауха.
Таково именно прекрасное дополнение их друг другом [в искусстве], в котором они работают.
Но есть область в этой работе, где бессилен и Штраух.
Ненасытной и невоздержанной во всем Глизер обычно тесно в рамках роли, обычно стеснительно в ограничениях пьесы.
Под ее мощным творческим напором трещат рамки одной и готовы рассыпаться очертания другой.
В мировом пантеоне героев комической мультипликации имеется бесподобный предшественник Микки-Мауса. Сумасшедший Кот — Крэзи Кэт.
Забавное это создание Джорджа Харримэна родилось рисунком на газетных листах Америки.
Кажется, в какой-то из серии этих рисунков Крэзи загнан в самый угол последней картинки.
Деваться некуда!
И тогда Крэзи преспокойно проламывает контур рамки самого последнего рисунка и вылетает за пределы всех его очертаний!
394 Как часто Крэзи Кэта напоминает мне Глизер!
Она так же властно раздвигает рамки сценических ограничений, в которых часто задуман ее образ.
Виновата ли Глизер?
Я думаю, нет.
Я думаю больше того:
виноваты другие.
Виноваты и рамки и окружение.
Как часто они слишком худосочны и бледны, чтобы стоять рядом или обрамлять те монументальные обобщения, на высоту которых она умеет подымать все то, что попадает в умелые и трудолюбивые ее руки.
Эпизодическая бытовая роль; или образ Шекспира; комический персонаж мастера интриги — Скриба; образ из галереи персонажей, ушедших в забвение с приходом Октября, или из хоровода тех, кого породил этот величайший исторический перелом в истории человечества…
Все они одинаково четко очерчены неповторимым почерком, одинаково чеканно обведены неподражаемым контуром глубоко социально осмысленного обобщения.
Но особенно великолепны эти образы тогда, когда в руках Глизер свистит бич беспощадного обличения.
Это бывает тогда, когда в творчестве своем она наталкивается на подлое, мертвящее, неживое, но алчное — реакционное.
Тогда особенно неподражаемо любовно лепит она образ за образом.
И тогда неизгладимо остаются они в памяти, как тот трехголовый Цербер сил реакции, которые так беспощадно казнит Глизер в триаде образов Скобло — Констанция — Елизавета.
Совсем еще девочкой Глизер выбрасывает на подмостки в одну из годовщин Октября свою мадам Скобло — этот собирательный сгусток всех партий и политических группировок, блокирующихся для борьбы против победного наступления советского строя.
И из-под этой барашковой шапочки пирожком, напоминающей былых курсисток молодости мадам Скобло; из-за вздернутых плеч «окороками» стоящих выше головы рукавов ее жакета; сквозь кривое, на ленте, пенсне старорежимного либерала-интеллигента внезапно глядит горящий ненавистью зрачок ощипанного степного орла, похожего на тех, что, прихрамывая, скачут в обширных вольерах зоологических садов.
Так, прихрамывая вприпрыжку сквозь пьесу Глебова, собирательным хороводом уводя вместе с собой плеяду предреволюционных химер, Глизер от сцены к сцене подводит к Лете свою героиню.
И кажется, что перед нами ожившая, еще не нарисованная гравюра Гольбейна из серии «Плясок смерти».
395 Своеобразная и неповторимая, ибо в образе мадам Скобло чудесным путем одновременно слились и уходящая вместе со старым миром нелепая кудахтающая меньшевичка, которую под руку на этот раз уводит не услужливо и издевательски берущий ее под локоток скелет, но неиссякаемый талант актрисы, умудряющейся смехом казнить собственное творение в самый момент его творческого воплощения.
Но порода Скобло — живуча.
И где-то на пороге третьего десятилетия Октября взыскующему взору Леонида Леонова удается пригвоздить еще одного скользкого и увертливого, чудом зажившегося до нашего времени представителя живучей этой породы.
Как мальчишки картузом прихлопывают воробья, так Леонов «Обыкновенным человеком» прихлопнул переливающуюся складками лилового платья Глизер — Констанцию, эту помесь алчности волка, хитрости лисицы и блудливой болтливости сороки.
Казалось, Глизер только и ждала этой роли — так легко и обильно текут с ее медоточивых уст самые подлые сентенции собственнической философии, для которой нет ни святости чувства, ни красоты морального подвига, ни светлой мечты, ни веры в благородство человеческой натуры; но только — нажива, материальное благополучие и материальные блага, украдываемые у жизни таким же вороватым движением, как тот кусок сахара, что так грациозно уворовывался Глизер из сахарницы в приютившем ее доме.
Что общего, казалось бы, имеет третий образ, поставленный мною рядом с этими двумя?
Что общего у королевы английской давно ушедших времен с двумя этими почтенными дамами, почти что нашими современницами?
Разве то, что подлинное место их в прологе к «Макбету»?
Но поразительность Глизер как раз в том и состоит, что она не только нигде не обращает своих подлинно «живых» героинь в участниц шабаша ведьм, — при всем их обобщенном звучании сохраняя их подлинно бытовыми и живыми, — но и в том еще, что даже образы далекого XVI века она ухитряется приводить в стремительную к нам близость и через образ далекой королевы Елизаветы раскрыть перед нами жуткий абрис головы Медузы британского империализма господ Дизраэли, Чемберлена и Черчилля.
И это под силу только актрисе того трудового склада, к какому принадлежит Глизер.
Ибо Глизер не только по складу своему, по природе своей и по физическим своим данным, но прежде всего по художественной своей идеологии бесконечно далека от плеяды актрис, подкупающих зрителя миловидностью вздернутого носика, привычной гримаской, умилительной картавостью, полуестественным румянцем 396 или наигранной иллюзией наивности молодости, сохраняющейся до глубокой старости…
В основе покоряющей привлекательности Глизер и плеяды сценических ее образов лежит труд.
Труд прекрасный и вдохновенный, труд продуманный и ответственный, труд радостный и всепобеждающий.
И потому такое яркое место занимает Глизер в плеяде октябрьского поколения артистов нашей страны, страны, которая именно труд вознесла до признания его подвигом и делом чести.
И только трудом, через труд и культуру труда возможны достижения такого класса, какие нам демонстрируют создания творческого труда Глизер.
И тут еще один секрет, почему так часто она выделяется в спектакле из остальной части ансамбля, столь слишком часто состоящего из… полуфабрикатов недоделанных ролей, недоношенных образов и недодуманных мыслей, так же опавшими листьями катящихся под ее ногами, как те, что путаются в ногах у Пер Гюнта, с той лишь разницей, что здесь мешают ей недоношенные мысли не свои — всегда кристально ясные, — но небрежно непродуманные, чужие.
Нет! Не она «виновата».
Они!
Те, кто не умеет или не хочет поднять труд свой до благородства трудового подвига.
Те, кто удерживает собственное творчество на уровне полувыразительности.
Те, кто боится яркости красок.
Те, кто избегает смелости и новаторства.
Те, у кого не хватает дыхания на творческий подвиг, на звонкость, на яркость, на высоты искусства, достойные нашего удивительного времени!
В таких постановках, в таких ансамблях, в окружении таких красок — Глизер будет всегда на месте!
Из таких спектаклей — не будет выпадать.
Но будет нести драгоценный вклад своего таланта в общее дело великого послевоенного возрождения нашего театра.
Таких спектаклей я от души желаю Глизер.
Таких актеров и актрис, как Глизер, — таким спектаклям!
397 ПОРТРЕТЫ И НАБРОСКИ
399 КАК НИ СТРАННО, — О ХОХЛОВОЙ*
Прозвучало 8 марта.
Промелькнули на страницах «Правды»: женщина-капитан, женщина-механик, женщина-мастер.
По фабкомам кинофабрик прошли горячие собрания «женского дня».
Отмечены победы женщины на всех фронтах.
И мрачно, как всегда, только на кинофронте: к плеяде мастериц-мастеров он не может присоединить мастера-актрису.
Мастером актрисе не дают стать.
И потому, что на культурнейшем, быть может, фронте — кино актриса-женщина по-прежнему только… «баба».
В женском вопросе наше кино — все тот же дореволюционный Бомбей о девятистах голых женщин в клетках.
Пусть «комсомолки», «крестьянки», «женщины-атаманы», но «практика» требует: комса должна быть пухленькой, крестьянка в тельце, атаманша вообще «хлебная девочка».
— Иначе публика не пойдет.
И цепко держатся наши кинодирекции за традиции капиталистического понимания женщины на экране. Когда говорят: актер, вспоминают и требуют мастерство Лон-Чанея, Штрогейма, Бартельмеса1. Понятия женщины-мастера, равноправного артиста, там не признают.
До осуждения Валентино, Новарро и пр[очих]2 «только красавцев» — мы доросли. В вопросах культуры актера наши требования на уровне высокой промышленной техники.
На актрису худсоветы фабрик смотрят глазами первобытных скотоводов.
400 А власть «скреплять и рушить узы» — власть жуткая и безапелляционная, экономическая — в их первобытных руках.
Сокрушительным ударом падает их решающее veto, и… второй год Хохлова сидит без работы. Второй год Кулешов не ставит картин.
Роскошь поистине царская при убогости наших кадров настоящих мастеров, режиссеров и натурщиков.
Хохлова — это, конечно, единственное в своем роде, быть может, стоящее серьезного упоминания актерское дарование на сегодня.
Это ставка на мастерство. И к тому — резко свое.
Это — не «советский Вейдт» или «советская Пикфорд»3.
Америка, Европа этого не знают, этого не имеют.
Присцилла Дин4 в некоторых вещах («Нищая из Стамбула») пытается выдержать суровый искус «мужской» техники, но быстро и безнадежно скатывается в многоспальное ложе Глорий, Барбар и Лэтрис.
Америкой владеет идеал мещаночек или Bathing Girl.
Самое «бытие» (наличие) Хохловой опрокидывает этот идеал.
Решительная же хватка ее оскала в клочья рвет трафарет формулы — «женщина экрана», «женщина алькова».
Но отсюда: тормашки традициям. А наши американизированные дирекции видят в этом погром.
Хохлова может сделать жанр.
Хохлова именно тот материал, «под» который можно делать свои картины.
Это то «нерядовое» (экстраординарное), за что умный хозяин платит большие деньги и на чем зарабатывает в десятки раз больше.
За границей учредили бы акц[ионерное] о[бществ]во «Хохлова-фильм». А у нас это сдается в пыль реквизиторских.
Недостаток простой честной хозрасчетливости, как всегда, прикрывают высокой фразой:
— Хохлова — упадочна. Хохлова — буржуазна…
Вот это хотелось бы оспорить!
Если в поисках жанра Хохлова и Кулешов не нашли еще правильного разрешения, то клеймить ее «вообще буржуазной» и лишать ее возможности найти свое правильное использование — просто тупость и бесхозяйственность.
Определить жанр крупному дарованию — да еще столь многообразному, как Хохлова, — вещь совсем не такая простая.
Кэрол Демпстер5 только сейчас через «Sally of the Sawdust» нашла свое место — и это работая столько лет с самим патриархом Гриффитом и полагая, что ее призвание — трогательные девушки в локонах (прочтите о «Sally» восторги американской прессы, более чем сдержанно писавшей об ее долголетних мелодраматических экзерсисах).
401 У нас не умеют различать, когда повинен сам материал, а когда частный случай обработки. У нас либо преступно попустительны («Медвежья свадьба»)6, либо «абсолютно» непримиримы. Иные же чудаки готовы усмотреть диалектику в искусстве Екатерины Гельцер7 («Искусство трудящимся»).
И еще забывают, что «все относительно» и что нет абсолютно вредного или абсолютно полезного, а вообще может только быть использованное разумно или временно еще нет.
Хохловой надо дать отвечающий ее данным остросоветский репертуар и правильную трактовку.
Решительно отбросив демонических женщин, авантюристок и прочее, я бы заплел ей косички, надел бы сарафан и пустил бы циклом гротескных комических «деревня — город» с первой на экране женщиной киноэксцентриком Хохловой («Дунька в Гуме», «Дунька в автобусе» или в этом роде).
А затем, быть может, прицепил бы к ней Охлопкова и получил бы пару настоящих «киномасок» — живьем, тех гипсовых Таньку-Ваньку, которых вы видите на любом комоде, на любом подоконнике.
Держать же Хохлову, повторяю, единственную, быть может, своеобразную нашу актрису… «под чадрой» просто преступно.
402 ВЕЛИЧАЙШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ*
С Горьким я встречался в последние годы его жизни несколько раз. Волнующие, впечатляющие встречи. Особенно значительны в памяти эти встречи сейчас, когда они безвозвратны и неповторимы. Разносторонность его интересов. Мягкая ирония, подчас переходящая в разящий сарказм, когда дело идет о враге или ренегате. Какой-нибудь штрих, с предельной четкостью выхваченный из жизни. Какое-либо воспоминание о личной близости к людям, которые для нашего поколения являются классиками.
Необычайная осведомленность в тонкостях народного творчества и фольклора. Многое незабываемое из разговоров с величайшим пролетарским писателем…
Но из всего хотелось бы вспомнить сейчас наиболее назидательное для нашей эры художественной простоты. Это поразительная скромность отошедшего гиганта творческих сил. И скромность эта не как поза, а как неразрывное качество, обнаруживающее самую ценную творческую черту в человеке, творце, мастере. Скромность как неотъемлемый признак творческой честности и чувства ответственности перед тем, что делаешь. В одном-единственном «крупном плане», как выражаемся мы, осталась запечатленной у меня в памяти эта черта.
Это было ранним летом 1934 года. В очень тесном кругу очень близких к Горькому людей Алексей Максимович делился с нами сценарным наброском для фильма о детях прошлого, детях гражданской войны и перевоспитании беспризорных. Имевшиеся налицо картины вызывали суровое его осуждение, и вместо критики он хотел ответить иным, полноценным произведением. И вот тут-то я обнаружил и самое трогательное и самое величественное. Нам, 403 молодым, нам, горевшим нетерпением и интересом, нам, глубоко восхищавшимся его творениями, великий мастер собирался впервые читать новое, вышедшее из-под его пера. И трепет ожидания еще больше, чем в нас, был… в нем. Он перебирал листки рукописи, чтобы начать читать их своим глухим, мерно гудящим голосом. Пальцы Горького, великого признанного всем миром писателя, живого классика, пальцы Горького… дрожали. Эта дрожь волнения в момент расставания автора со своим произведением, в момент перехода его к миллионному зрителю и слушателю, которого представляли в эту минуту мы, эта дрожь — незабываемое свидетельство той глубокой ответственности за каждый свой творческий шаг, которой горит подлинно великий художник.
Я не хочу оттенять эту характерную черту противопоставлениями. Слишком их много вокруг нас и среди нас. И слишком во многих случаях неглубоко то преклонение перед величием народа, к которому мы принадлежим, которому отдаем свои силы и с которым движемся к историческим победам. Пусть дрожащие пальцы Горького, держащего листки рукописи, послужат нам напоминанием о неразрывности честности и скромности для художника.
Можно сказать еще многое. Но хочется оборвать здесь, как оборвалась речь Алексея Максимовича на многотысячном митинге у Белорусско-Балтийского вокзала в день приезда его из-за границы. «Не могу говорить, — сказал он в слезах. — Я лучше напишу…».
Нам осталось только писать, с горечью сознавая, что говорить с ним нам больше не дано, Голос его творений прозвучит в веках.
404 ЭССЕ ОБ ЭССЕИСТЕ*
Его сравнительно мало любили.
Он был своеобразен, необычен и неуютен.
И имел злой язык и еще более злой юмор.
Притом юмор своеобразный и не всегда доступный.
Как шутки в пьесах Шекспира, совершенно несоизмеримые с нашими представлениями, неизбежно не удающиеся в наших постановках. Но полагается полагать их смешными.
В отношении Аксенова это положение положенным не было.
Он оставался несвойственным. Юмор — непонятным. Сам Аксенов — непонимаемым. И, как сказано, его не любили.
Я Аксенова любил очень.
И за злой язык, и за злой юмор, и за неуютность.
Может быть, потому, что я понимал его лучше.
Блистательный знаток Шекспира. Не поверхностно социологически. А изнутри — творчески. Конструктивно и методологически.
Он написал «Пикассо и окрестности». С таким же успехом он мог [написать] «Окрестности Шекспира» — [они] были ему еще более близки.
В этих елизаветинских переулках, вдали от громыхания столбовой дороги шекспирологии, завязалась наша дружба.
Греческая скульптура для нас пресна. Ее пластическое благополучие… Базальтовая гладь когда-то тревоживших египетских образцов заставляет скользить по себе осязающее зрение безучастно.
Недаром взгляд повисает на пластике варварской формы негритянской скульптуры. И въедается в извилины пластики инков, древних жителей Юкатана, ацтеков.
405 Терзающий глаз Хосе Клементе Ороско вытесняет округлое благополучие фресок Диего Риверы1.
Вебстер, Марлоу, Бен Джонсон волнуют и задевают больше Шекспира2.
Уклоны вкуса — это та же приусадебная частная земля, не нарушающая, не перечащая, а идущая в ногу с мощным ходом коллективизации.
На этой земле завязывается дружба.
И с Аксеновым мы дружили.
Еще сильнее в тени Джонсона и Вебстера, чем на чрезмерно ярком солнце Шекспира.
В елизаветинцах прекрасна их несправедливость. Их частность. Диспропорция и асимметрия.
У Аксенова в жизни лицо было асимметрично. В данном случае лицо было если не зеркалом души, то аналогом мысли. Думал он диспропорциями и асимметрично. То, что мне нравилось в ацтеках, в Пикассо, в Вебстере, — нравилось мне в Аксенове.
Он был односторонен, асимметричен. И субъективен. Это делало его чуждым по тенденции.
Он был изолирован. Потому что на фоне общего движения к объективности познаваемого он культивировал манеру эссеиста3.
В эссе же субъективная односторонность и личное искажение оригинальностью и парадокс[ом] ценится выше объективной истины или степени приближения к ней.
Эссе, тем более ироническое, поэтому у нас не культивируется в форме Квинси или Уистлера4.
Аксенов оставался субъективным, предпочитая односторонность. Культивируя чуждый нам юмор. Излагая себя в чуждой нам форме изложения.
Он оставался малопонятным. Враждебно настраивающим. И его не любили.
Последней работой, которой он был занят до самых последних дней своей жизни, было то, что он написал обо мне.
Написанное способно вызвать нарекания.
Для Рембрандта — тени наложены недостаточно густо.
Понимая под «тенями» самую примитивную метафору отрицательных изложений, уравновешивающих положительные.
Для кинотрадиций это особенно возбуждает агрессию.
Не потому, что «рембрандтовский свет» — почти единственное, что имеет формулу в зыбкой эстетике искусства интуитивного освещения.
Но потому, что кинособытию прошлого мы сейчас привыкли ставить в обвинение то, что вчера не носило еще черт сегодня. То, что с позиций августовского урожая мы упрекаем весеннюю землю непокрытостью рожью. Или с [позиций] декабрьского снега осуждаем цветочное оперение майских яблонь.
406 Это далеко не всегда позиция, с которой судит прошлое Октябрьская революция…
Аксенов односторонен в изложении, он не оттененно объективен. Так же односторонен он и внутри отдельных изложений.
Без поправки на эссе, без твердого памятования об односторонности — его читать нельзя. Но отказать [ему в] прав[е] на стиль и на субъективное искажение — нельзя. Преступным было бы выдавать это за объективность и за полную картину. Оригинал бунтовал бы вместе с критикой против автора.
Пусть это читается как пересказ с англоманского мышления.
Как стригли лошадей, носили фраки и бачки на английский манер.
В калейдоскопе планируемых литературных жанров возможен и жанр англизированного essay.
Написанное — тоже эссе.
Пусть это послужит оговоркой…
407 СВОЙ!*
Помню как сейчас. 1927 год. Канун юбилейного десятилетия Октября. По уши занят монтажом юбилейной картины. Приходят ко мне в монтажную. «Приехал Барбюс. Хочет с вами познакомиться».
Помню как сейчас. Захожу к одному из членов правления тогдашнего Союзкино. С вопросом. С тревожным вопросом: «А… он — свой? Как с ним говорить?» Свой! До конца свой.
В тот день мы встретились и восемь лет были друзьями. Сносились, списывались с разных концов земного шара, разделенные пространствами, но близкие любовью к общему делу. Сейчас смешно вспоминать тогдашний мой вопрос. Анри Барбюс — лучший наш друг. Анри Барбюс — неутомимый борец за наше социалистическое дело. Но не так было тогда. Ведь ренегат и сволочь Панаиот Истрати1 ходил тогда в «своих» и «друзьях». Барбюс был своим. Своим он остался до конца. И как свой, в своей стране он умер. Самым сильным было глубокое потрясение, которое вызвала его смерть. Неутомимый противник войны, неустанный борец за дело мира, он почил в отчизне всех тех, кому дорог мир, в отчизне всех тех, кто так же пламенно, как и он, ненавидит войну, всех тех, кто победно доведет до конца последнюю войну: войну войне. И на подступах к этой войне, в рядах этой армии Барбюс был неизменно своим и своим остался до конца.
408 ПОЛЬ РОБСОН
Концерты
в Москве*
Трудно придумать более благоприятный момент для приезда замечательного Поля Робсона. Народность привлекает высокий интерес нашего зрителя. Под знаком народности проходит с возрастающим успехом цепь гастрольных выступлений мастеров и коллективов со всех концов нашей необъятной родины.
Поль Робсон привез нам замечательное сокровище негритянских народных напевов. Те песни, которые зародились у закованных в цепи рабов Южных штатов Северной Америки. Те песни, которые вобрали в себя безысходную тоску порабощенных тружеников и гневную ярость против поработителей. Среди них серия лирических мечтательных песен, песен любви к детям.
Не в пример своим братьям в Африке, владеющим изощренным мастерством орнамента, пластики, прикладного искусства, народное искусство проданного некогда в рабство в Америку негра было целиком в его песнях. Дух протестующего народа — что может быть ближе и понятнее нам, сбросившим оковы рабства?
Поэтому так горячо встретили первое же появление Поля Робсона на эстраде. Поэтому в такие шумные овации перешли приветствия, когда этот черный великан, в каждом движении своем несущий иронию к фраку, в который он закован международным концертным церемониалом, приветствовал аудиторию на чистом русском языке, сказав: «Здравствуйте и благодарю».
Мы же, знающие Поля Робсона ближе, знаем, что Советский Союз для него родина и что в свой первый концертный приезд (и третий по счету в СССР вообще) он привез своего девятилетнего сынишку с тем, чтобы оставить его здесь расти и воспитываться в стране счастливого детства.
409 Одну за другой поет свои песни Робсон. Проходит «Песня труда», песни протеста, песни, проникнутые юмором, и песни, пронизанные лирикой и грустью. К сожалению, переводов текста песен не было. Никто не говорил, о чем эти песни, но в каждом оттенке мастерского исполнения слушатель улавливал то биение живого чувства, которым наполнены эти народные песни.
Робсон, культурный и образованный музыкант, старается сохранить всю прелесть и неповторимость народной непосредственности исполнения песен. Голосом, фразировкой, мимикой и движением он воспроизводит и сохраняет колорит исполнения песни негра при работе киркой, у костра после тяжелого трудового дня или укачивающего ко сну своего ребенка. Это дает его пению свободу от концертности, эстрадности.
Жалко, что аудитория не знает слов. Песни Робсона распадаются на две группы. Большое место в них занимает нечто вроде «духовных стихов». Они пересыпаны именами Моисея, Иезекииля, Иерихона, Иордана1.
Но Библия в устах негритянского населения — необычайная Библия, и имена и места библейские — это только прикрытие, это только внешняя форма, под которой скрыты совсем иные чувства. В песне говорится о Моисее, посылаемом в Египет, для того чтобы увести евреев в обетованную землю2, но не про Египет и Моисея поется песня. Она изливает тоску негритянского народа по своей далекой родине, это песня о тоске по свободе и о мечте уйти из страны поработителя.
Вторая же группа песен — песни протеста. Это те песни, которые сейчас все чаще и чаще поет негритянский народ. Эти песни следовало бы перевести, сделать доступными нашему слушателю. Тогда бы наш зритель оценил всю мощь нового классового содержания, которое вошло в народно-традиционную форму негритянской песни. Тогда не только в мощном исполнении Робсона, но и в самих текстах, которые он любовно собирает, советский зритель почувствовал бы силу негритянских масс, готовых стать на путь освобождения.
Голова моя не яблоко, чтобы болтаться с дерева.
Тело мое не жаркое, чтобы жариться на вертеле…
Таковы слова, идущие на смену словам печали, таковы слова протеста, предшествующие делам протеста.
410 МЫ И ОНИ*
Гениальные положения Советской конституции сформулировали все то несоизмеримое, что отличает наш социалистический строй от любого строя мира. Мы так свыклись с завоеваниями Октября, эти положения так органически для нас очевидны, они являются настолько единственно возможными и закономерными для человеческого общества, что мы подчас просто перестаем их замечать. Не думаешь о собственном дыхании, но дышишь. Не думаешь о собственном сердцебиении, а сердце стучит в нашей груди. Не думаешь о нашей Конституции — ею живешь.
Но полезно вспомнить и переощутить все ее величие: пять шестых земного шара еще лишены ее всесогревающих лучей. Еще существуют на карте Европы и Азии страны фашизма, которые погружены в кровавые потемки рабства, страны эксплуатации и варварства, воскрешающие первобытные полузвериные нравы доисторических наших предков.
Годовщины великих завоеваний социалистического строя — отличные даты для того, чтобы вспоминать об этом, чтобы еще ярче ощутить то, чего достигли мы, столкнув его с тем, чего лишены остальные пять шестых человечества.
Нужно побывать на время за пределами нашей страны, чтобы увидеть и ощутить то, что имеем мы и чего нет у зарубежных людей не только в фашистских странах, но и в пресловутых странах буржуазной «демократии».
* * *
Первое, что поражает за границей, — это необычайность темпов движения людей. Это первое впечатление от любой улицы, любого большого города. Сперва это кажется деловитостью. Проникаешься 411 уважением. Всматриваясь внимательнее, видишь, что здесь не меньше суетливости. Берешь этот темп под сомнение. И наконец, долгое время спустя, начинаешь под суетливостью разбирать основное — озабоченность. Переводя взор с быстро шагающих ног на лица и глаза, видишь неуверенность, озабоченность, беспокойство.
Неуверенность не только в завтрашнем дне, а буквально в любом последующем мгновении — вот что интуитивно вылавливаешь в выражении человеческих лиц на Западе, в поведении людей; вот что подробно вычитываешь, если хоть на мгновение погружаешься в круг их интересов, деятельности, судьбы. И нигде так остро, так мучительно это не ощущается, как в деятельности тех, кто посвятил себя творческой работе.
Мне хочется вспомнить сегодня несколько встреч с зарубежными «коллегами». В Америке меня вдохновила встреча с тремя людьми. Гриффит, Чаплин, Флаэрти1 — вот имена, которые мы все любим с первых собственных шагов на кинопоприще. Я встретил всех троих. Одного мимоходом. Двух других встречал часто и много. Но воспоминания обо всех троих неотрывно связаны с темой труда художественной интеллигенции в странах капитализма.
Гриффит… Первая встреча с первым классиком фильма. «Кадр» казался вырезанным из ранней его картины. Пять-шесть часов утра. Возвращаюсь в отель после ночи, полной впечатлений от негритянского района Нью-Йорка — Гарлема. Отель на Бродвее. В самом центре Нью-Йорка. День, ночь, утро, полдень, вечер Бродвея — вот что хотелось видеть, слышать, воспринимать, запечатлевать в памяти. Поэтому я избрал гостиницу на Бродвее, в самом шумном месте Нью-Йорка, сохранившую все черты именно американского отеля, в отличие от «Ритцов», одинаково безличных в любой столице Европы или в любом крупном городе Америки. Здесь же и состоялась встреча с Гриффитом, тридцать лет хранящим верность раз облюбованному жилищу.
Итак, пять-шесть часов утра. Серый рассвет на Бродвее. Металлические бочки с мусором. Подметаются улицы. Громадный пустой холл. В утреннем свете кажется, что окон нет и пустой Бродвей вливается в сонный отель. Перевернутые кресла. Скатанные ковры. Идет уборка. В глубине холла теряется портье с ключами. Около него фигура в сером. Серая щетина выступает на серой коже лица. Серый взгляд светлых глаз. Острый. Неподвижно направлен в одну точку: между перевернутыми креслами и скатанными коврами — носилки. На голых плитах два санитара. За ними — полицейский. На носилках — окровавленный человек. Повязка. Кровь. Рядом сметают пыль с пальм. Под окнами выметают горы бумаги. Где-то была поножовщина. Человека внесли в отель. Перевязали. Вынесли. Серая улица. Серые люди. И серый человек в глубине. Сколько раз он, Гриффит, воссоздавал перед нами подобные сцены американского бандитизма… Кажется, что видишь все 412 это на экране: цвет исчез — одна гамма серых тонов от белых пятен бумаги на улице до почти полной темноты там, где лестницы отеля уходят вверх.
По фотографиям узнаем друг друга сразу. Знакомимся. Жму руку создателю замечательных картин. Но автор их не хочет говорить о них: «Половина картин моих — trash (примерно как мы бы сказали — “барахло”). Я делал их, чтобы иметь деньги на постановку, чтобы покрывать убытки любимых фильмов или иметь возможность ставить что-либо по душе… Первые приносили груды золота — вторые были сплошными убытками…» Убыточны были «Сломанная лилия» и другие, о которых Гриффит вспоминает с любовью… Вот и сейчас… он носится с мыслью снять фильм о коррупции вокруг сухого закона. «Ищу деньги. Никто не хочет финансировать такую тему. Но мне, кажется, удастся на это подбить одну богатую вдову. Вот уже две недели я хожу вокруг этого…».
Замечательный мастер. Один из основоположников кино. Человек, поседевший на этой работе. Старик. А вынужден бегать за богатыми дурами, тратя дни и недели на уговоры, унижения и изобретательность так же, как это приходится делать молодому дебютанту, чьего имени не знает никто, чьим произведениям еще не рукоплескали во всех концах земного шара, подобно фильмам Гриффита! В конце концов дура все же, кажется, не согласилась… Фильм не был поставлен, и имени Гриффита давно уже не видят экраны…
Судьба безденежья Гриффита, кажется, стоит призраком перед Чаплином. Говорят, он ничего на свете так не боится, как разориться. Так или нет — не знаю. Но последние встречи с ним оставили впечатление именно такое. В отличие от Гриффита Чаплин крепкий хозяин, коммерсант, делец. Я помню, как он нырял в бассейне своей виллы — бассейне с очертанием внутреннего контура его знаменитого котелка… Ныряя, он с восторгом рассказывал, как только что блестящим маневром выделил прокат своего будущего фильма (это были «Огни большого города») из «общей чаши» прокатного предприятия «Юнайтед артисте». Прыгая в воде, он имитировал бессильную ярость другого кинодельца — лирической Мэри Пикфорд, обладающей хваткой биржевого маклера. Он повторял крик, каким кричал только что на собрании акционеров: «Уберите эту женщину!» и, весело смеясь, высчитывал полагающуюся разницу барыша от своего ловкого маневра. А на следующий день он почти по-детски плакал и стучал зубами от страха, что картина не удается. Причем назойливо на «первый план» тревоги проступали те два миллиона собственных денег, которые им вложены в фильм.
А по улицам Голливуда бродит изумительный Боб Флаэрти: он останавливает каждого, кого хоть немного знает, и готов часами рассказывать бесконечно увлекательно и долго замечательные события 413 и истории для экрана, не уступающие «Нануку» или «Моане». Он неизменно кончает свой рассказ: «Дарю это вам». Все, что ему остается делать. Ему не только никто не дарит метра пленки, никто не хочет ссудить его средствами на одну из тех замечательных картин, какие он мог бы выпускать десятками. Так он вынужден делать их с громадными, увы, не «творческими» простоями, а… финансовыми.
Вдова или меховая фирма, разбогатевший старьевщик или взбалмошный владелец фирмы водопроводных труб — вот в чьих руках судьбы искусства и культуры кинематографии Запада. «Киты» киноиндустрии финансируют художника не тогда, когда он хочет творчески подойти к своему любимому искусству: они предпочитают работать наверняка, воссоздавая в сто первый раз заезженный стандарт. Когда же не встречается ни вдовы, ни меховщика, ни разбогатевшего спекулянта, судьба большого художника подобна судьбе Флаэрти.
* * *
В дни празднования годовщины Советской конституции невольно вспоминаешь, как тяжело творить на Западе. Фигура Флаэрти, бегающего как безработный поденщик; фигура Чаплина, заедаемого тревогами «собственника» и прокатчика там, где, казалось [бы], все должно быть направлено на одни заботы об искусстве; фигура Гриффита и расчетливой вдовы… Вот что вспоминается.
И невольно с еще большей силой встает перед нами, советскими художниками, освобожденными от всей пакости буржуазного мира, чувство ответственности и сознание того, что священное право на труд есть одновременно священный долг трудиться.
Пусть же убыстряются темпы производства, пусть сокращаются сроки «творческих» простоев, пусть еще с большим рвением наши мастера берегут народную копейку. И пусть расцветает наш экран все большим количеством новых и прекрасных произведений.
414 ХЭЛЛО, ЧАРЛИ!*
В дни Вашего юбилея с особой теплотой вспоминаешь те шесть месяцев в Голливуде1, когда мы с Вами встречались, играли в теннис, ездили по местам народных развлечений, где встречные ребята хлопали нас по плечу и дружески Вам кричали: «Хэлло, Чарли!», когда мы качались в яхте на волнах Тихого океана у острова Каталины.
В те годы Вы начали всматриваться не только в наши произведения искусства: Вас уже начинал мучительно интересовать Советский Союз, из которого шли столь неожиданные и непривычные для Вас кинокартины.
В ту осень (1930 года) Вы снимали «Огни большого города». Мир Вам еще казался состоящим из «добрых» и «злых». Как бы случайно «злые» располагались по одну сторону социальной баррикады, а «добрые» — по другую. Но все обостряющийся интерес Ваш к первому в мире социалистическому государству постепенно раскрывал Вам глаза. И отвлеченные категории добра и зла, злых и добрых постепенно уже начинают находить свою классовую обрисовку. Первые шаги в этом направлении прощупывают «Новые времена».
Разгул фашистской агрессии, бесчеловечность фашизма и попрание им всех идеалов человечества не могли не волновать и не возмущать такого чудного и гуманного художника, каким являетесь Вы. И судя по тому, что мы издалека о Вас слышим, Вы все ближе и ближе движетесь к тому, что для нас, советских художников, является целью всей нашей деятельности, творчества, самой нашей жизни, — к активной борьбе за великие идеи справедливости, человечности и гуманности.
415 Ни один честный человек, а тем более ни один художник, и в особенности такой замечательный художник, как Вы, в эти годины страшного мракобесия фашизма не может не стремиться к светлому идеалу человечества, осуществленному на одной шестой части земного шара.
Каждый своим путем приходит к служению этому идеалу.
И Вашим путем был путь искусства, столь любимого во всем мире за горячую проповедь человеколюбия, которую оно несет, начиная с первых же Ваших фильмов.
За эту любовь к человеку, за Ваше стремление участвовать в борьбе этого человека, за человеческое достоинство и достойное человеческое существование, за Ваше прекрасное искусство хочется изо всех сил хлопнуть Вас по спине, — как принято у Вас в Америке выражать теплоту чувств, — и от всей души приветствовать: «Хэлло, Чаплин… На многие и многие годы вперед, рука об руку за лучшие идеалы человечества!»
Пусть это приветствие летит к Вам, отделенному от нас морями, океанами и кроваво-черными пятнами фашистских государств, позорящих лицо земного шара.
Вперед, вместе с нами за великие идеалы, осуществляемые нашей страной!
416 РОЖДЕНИЕ АКТЕРА*
Это не актер Ливанов родился. Так можно было бы писать о юном дебютанте… А Ливанова, народного артиста, орденоносца (и не раз), знают по театру, знают по экрану, любят давно…
И все же это — рождение актера.
И рождение большее, чем если бы родился еще один новый носитель и представитель этой славной в нашем театре профессии. Большее это потому, что родился новый тип актера.
А может быть, возродился?
Тип потерянный. Утраченный. Забытый и обойденный.
Настоящий, долгожданный тип подлинного романтического актера.
Актера пламенного и захватывающего.
Актера, влюбляющего в себя, увлекающего и отдающегося зрителю.
Актера, несущего мысль неотрывно от пламени страсти.
Эпоха конца прошлого и начала настоящего века.
Эпоха разговорных пьес. Пьес о неврастениках. О склоненных и надломленных. О толкующих и рассуждающих. Об отвешивающих чувства и отмеривающих страсть. — Искоренили из обихода театра — да-да, уже не праздника, единственного и неповторимого праздника театра, — а именно из обихода театра того актера, который способен ежевечерне сжигать себя на подмостках, с тем чтобы, возрождаясь из этого пламени, вечер за вечером, снова и снова гореть перед зрителем. Гореть огнем чистого темперамента, огнем подлинного чувства, а не условного переживания. Гореть той одержимостью, при которой зрителю внезапно становится жутко и страшно этой обнаженной одержимости чувств, ибо не знаешь, 417 куда этот разлив огня может метнуть ее носителя, ее одарителя.
О таком актере мы мечтаем с первых дней революции. Ибо только такой актер, актер, способный вырвать из груди своей сердце и в безграничной щедрости чувств бросить его восторженному зрителю, лишь такой актер способен до конца излить священный пафос нашей революционной действительности.
В рождении такого актера мы видели преодоление последнего оплота традиций театра прошлого, победоносно опрокинутых театром будущего — театром нашей эпохи.
Когда-то романтик Новалис1 прекрасно сказал: «L’acte de se dépasser soi-même est partout l’acte suprême, l’origine, la genèse de la vie»74*.
Этого мы давно уже не видали на сцене. И вдруг 24 февраля — и эту дату надо запомнить — мы увидали это в спектакле «Горе от ума» в МХАТ. Мы увидали на сцене, как из странно местами неуверенной фигуры, не везде твердой в рисунке, иногда по-юношески захлебывающейся, обгоняющей самую себя, мокрой от волнения, безнадежно проглатывающей конец целого акта (третьего), внезапно, в последнем монологе, хлынуло подлинно упоительное пламя подлинных чувств. Таких и такого диапазона, что зритель просто остолбенел. Спохватившись, он, зритель, постарался утвердиться в на мгновение утерянном чувстве собственного достоинства. Вспомнив свои права, он властно потребовал двадцать три раза перед уставшим подыматься занавесом потрясшего его актера, актера, которого будет в этой роли любить вся Москва, которым будут бредить, по которому будут терять голову.
По подлинно романтическому актеру.
Я не застал плеяды пламенных старцев великой традиции русского театра.
Но из всего, что мне приходилось видеть, я ни разу не был так взволнован и потрясен фактом и стилем актерской игры, как тем, что я видел в этот памятный вечер в Ливанове — Чацком.
Родился актер — новый тип романтического актера. С ним уже нельзя не считаться. Это факт истории театра. Это замечательный и знаменательный факт. Это следующий, новый этап театра, выход традиции МХАТ на новый путь, на новую фазу развития. И надо изумляться удивительной жизнеспособности этого творческого организма, который на сорок первом году жизни способен внезапно расцвесть новым ростком!
Ростком, способным чудом одного вечера взять под сомнение устоявшуюся традицию четырех десятилетий практики и, не сметая 418 ее, начертать перед ней неслыханный путь дальнейшего роста и оплодотворения.
Ибо то, что мы знаем по спектаклям МХАТ — напр[имер], «Враги» — и то, что творит на сцене Ливанов, это разные страницы, разные даты, разные тома истории театра.
Я думаю, что мы себе еще не до конца отдаем отчет в том, что случилось. А надо ухватить это явление. Осмыслить. Понять и… сделать выводы о дальнейших путях.
Ибо не случаен восторг зрительного зала.
В его радостях и криках звучало приветствие надвигающейся смене установившемуся театральному канону — новому театральному стилю.
Этот вечер надо записать и запомнить.
Его почти подчеркнутую будничность, несмотря на выходной день. Его внешнюю бесцветность. Случайный состав публики. Неведомый и незнакомый зритель. Не званый и не специально приглашенный. Почему-то среди зрителей Керженцев. Роза Тамаркина и Борис Эрдман. Эмиль Гилельс и Борис Пастернак. По долгу службы — Сахновский2. И много, много чужих. И мало, мало из тех, кто должен был бы быть здесь. Почему нет Юзовского, Альтмана, Гурвича?3
Полное отсутствие в воздухе того «чего-то особенного», того «электричества», которым любят постфактум поминать вечера чрезвычайных событий.
Обыкновенный скромный вечер не совсем уверенного первого ввода «второго состава». С сомнениями дирекции и руководства. «Почти на провал?» С волнением играющих. Неосвоенностью. С Чацким, впервые вышедшим на публику. Софьей и Молчалиным — тоже.
«Не ждем ничего исключительного» — безучастным мазком расписано по лицам зрительного зала…
И восторженное: «Не ждали», взрывающееся овацией после последнего монолога Чацкого. Незабываемого.
Почти символично, что он ведет монолог без традиционного «романтического» плаща. Плащ истинного романтизма вьется вокруг его фигуры, мчащей огненные фразы грибоедовского обличения в зрительный зал, полный тех, кто навек порешил со всеми мерзостями былого и ведет беспощадную борьбу с пережитками грибоедовских личин на светлом празднике нашей советской действительности.
Здесь в слиянии тонкого мастерства режиссеров и великолепного дарования артиста совершен шаг вперед и поставлен новый стандарт театрального стиля. Надо присматриваться и вслушиваться.
Что может быть радостнее!
И, конечно, мы были не совсем правы вначале: вместе с новым типом актера родился, конечно, в новом качестве и Ливанов.
419 Таким мы его не знавали.
Эта дата — поворотная дата и в биографии одного из чудеснейших актеров нашей поры — первого романтического актера великой эпохи социалистической революции — Бориса Ливанова!
Под новым пламенным дыханием актера тронулся лед на путях нового движения театра. Не дискуссии показали путь. Не вычисления и расчеты. И не гадания. Талант актера, помноженный на талант режиссера, произвели этот сдвиг (я пишу «сдвиг», но про себя думаю: переворот!).
Дальнейшему движению театра широко раскрыты двери.
Шире дорогу — новый актер идет.
Шире дорогу — новый актер пришел.
Идите и смотрите!
420 ЖИЗНЬ — ПОДВИГ*
Профессия летчика — не только искусство, но и наука. Она требует не только величайшего хладнокровия, самообладания, выдержки и умения сохранять спокойствие в самые критические моменты, но и вдохновенной фантазии, творческого полета мысли и особого таланта превращать в действительность то, что кажется порой только мечтой или вымыслом. Летчик — образ новый для нашей страны. Дореволюционные искусство и литература относились к теме летчика импрессионистически, без вдохновения, без всякого подлинного понимания существа его. В одном из рассказов Л. Андреева — кажется, единственном рассказе дореволюционной русской литературы, посвященном авиационной теме, — рассказывается только о том, как летчик поднялся на высоту, упал и разбился насмерть. Это была тема трагическая, питавшая сюжеты художников о гибели, о смерти, о тщете человеческой дерзости и смелости.
Для советского народа племя летчиков, строителей непобедимого воздушного флота социалистической родины, героическое племя, вскормленное партией Ленина, — олицетворение народного героизма прежде всего.
По-настоящему советское искусство еще полностью не освоило темы летчика. У нас есть уже повести, драмы, стихотворения, кинофильмы о наших летчиках, но все это как бы только наброски к будущему великому произведению искусства, это только подступы к теме, но еще не ее органическое разрешение. Я себе представляю, что в скором будущем и в кино, и на театре, и в нашей беллетристике появятся произведения, в которых будет показана исполненная 421 простого величия жизнь людей, подобных Чкалову, во всей ее глубине и значимости.
Чувство острейшей боли, тяжкой скорби охватило всех нас, весь народ великой Советской страны при известии о гибели Чкалова. Но мы не будем предаваться только чувству скорби. Мы глубоко осмыслим всю жизнь героя летчика, его жизненный путь сына котельщика из села Горьковского края, начавшего с ранней юности свою жизнь пролетария кочегаром, масленщиком, добровольцем Красной Армии и закончившего ее великим летчиком, освоившим новые воздушные пути в нашей стране и за ее рубежами. И Чкалов станет темой новых и замечательных произведений советского искусства.
422 25 И 15*
Он на один год старше меня по возрасту. И на десять лет дольше меня работает в кино. Он стоял у аппарата еще тогда, когда я и не думал о работе в кинематографии. Он уже вертел ручку, а я только упивался новым видом зрелища, увлекался «Кабирией» и Максом Линдером, Поксоном и Прэнсом1, но никогда не думал, что увлечение кинематографом пойдет дальше платонической любви.
Сперва война, а затем революция окончательно определяют его поприще лучшего советского кинооператора. Его биографию они закрепили. Мою биографию революция и фронт гражданской войны перекроили: путь архитектора и инженера переламывается в путь художника-декоратора фронтовых трупп и режиссера первого рабочего театра в Москве.
В двадцать четвертом году эта работа логически перебрасывается в кино. Кипящая лава театральных исканий, пламенные поиски наиболее острых форм эмоционального воздействия, безудержный темперамент в борьбе с устоявшимися творческими канонами — все то, что влекло нас в театр, переливается за его пределы — в кинематограф.
И со всего размаху попадает в объятия не менее безудержного темперамента, пронесшегося с киноаппаратом по всем фронтам гражданской войны, по первым участкам возрождающейся индустрии, ставшей достоянием народа.
Этот темперамент принял обличье бесконечно скромного и тихого молодого человека в белом полотняном пиджаке, без кепки.
Таким я помню Эдуарда Тиссэ в первый день нашей встречи в солнечных пятнах садика около бывшего особняка Морозова на Воздвиженке, где помещался наш театр.
423 Заботливая рука тогдашнего директора кинофабрики Бориса Михина2 сразу наметила именно его как наиболее подходящего для нашей совместной работы:
— У вас театр увлекается акробатикой. Вы, вероятно, будете головоломны и в кинематографе. Эдуард имеет блестящий опыт хроникера, и он отличный… спортсмен. Вы, несомненно, подойдете друг другу.
Действительно — подошли. Вот уже пятнадцать лет, как не расходились.
Спасибо проницательности и интуиции Михина: лучшее сочетание он вряд ли мог бы найти.
Разговор при первой встрече был очень краток. Тиссэ посмотрел монтажную разработку первых вариантов будущей «Стачки», которую мы тогда собирались снимать. Объяснил нам, что то, что мы называем «наплыв на наплыв», профессионально именуется «двойной экспозицией».
А вечером пришел на спектакль, чтобы подробнее выяснить, с кем он имеет дело. Это посещение чуть не стоило ему жизни.
В постановку «На всякого мудреца довольно простоты» входил номер на проволоке (исполнял его Гр. Александров, носивший тогда в качестве псевдонима полупринадлежавшую ему живописную фамилию своих предков Мормоненко). В этот вечер проволока лопнула, и тяжелая металлическая стойка со звоном упала, чуть не задев нашего будущего шеф-оператора. Стул, стоявший с ним рядом, разлетелся в щепки. И здесь мы впервые оценили абсолютную невозмутимость Эдуарда — он, кажется, даже не вздрогнул; эту его невозмутимость и абсолютное хладнокровие в самых головоломных переделках я имел случай в дальнейшем наблюдать пятнадцать лет…
Невозмутимая флегма и дьявольская быстрота. Молниеносный темперамент и кропотливость педанта. Быстрота хватки и безропотная долготерпеливость в поисках и достижении нужного эффекта. Они уживаются в нем рядом. Феноменальная выносливость — во льдах и песках, туманной сырости севера и в тропиках Мексики, на арене боя быков, в штормах на кораблях или в ямах под проходящими танками и конницей — она достойна грузчика, пахаря, забойщика, метростроевца. И тончайшее ощущение еле уловимого нюанса, того «чуть-чуть» в материале, откуда (как принято говорить) начинается искусство, — ощущение, которое роднит Тиссэ с изысканнейшими мастерами пластических искусств, неразрывно в этом человеке с громадными тяжелыми костистыми ладонями и небесно-голубыми сверхдальнозоркими глазами. Это сочетание тончайшего и точнейшего умственного труда с величайшими трудностями его физического воплощения.
Кажется, ни с кем в жизни мы не говорили о кинематографе так мало, как с Эдуардом.
424 Со времени нашего первого односложного разговора это так и осталось в традиции наших отношений.
Разве с глазом своим дискутируешь и разглагольствуешь? — Смотришь и видишь.
Разве сердцу своему говоришь: «Бейся в таком-то ритме»? Оно бьется само.
Разве с грудью своей обсуждаешь диапазон дыхания, когда охватывает волнение?
Подобная «синхронность» видения, ощущения и переживания, какая связывает нас с Тиссэ, вряд ли где-либо и когда-либо встречалась еще.
Мы даже за все пятнадцать лет совместной работы остались с Тиссэ неизменно на… «вы». Я думаю, что это оттого, что форма обращения на «ты» могла лишь служить пародией на ту внутреннюю близость, которую мы одинаково ощущаем.
Это она заставляет нас, бегающих в разные стороны в поисках натуры, почти неизменно встречаться в той точке, которая и закрепит на экране искомый пейзаж.
Это она дает мгновенное решение кадра, в равной мере воплощающего режиссерский и операторский замысел. Это она проносит линию безошибочного стилистического единства сквозь все перипетии съемки, не позволяя ни одному из многих тысяч будущих монтажных кусков пластически зазвучать «не в тон», где бы, когда бы и как бы он ни снимался.
Наконец, эта творческая близость — то, благодаря чему удается главное и самое для нас дорогое в методе нашей съемки.
Дореволюционные заводы или растреллиевский Петербург, флот и море или пашни и луга, пальмы, кактусы и пирамиды или шлемы, латы, копья и застывшая поверхность ледяного озера XIII века… Везде и всюду в кадре мы ищем одного.
Не неожиданности. Не декоративности. Не непривычности точки зрения. А только предельной выразительности.
И везде за изображением мы ищем обобщенный образ того явления, которое мы снимаем.
И этому обобщению служит тот образ кадра, тот выбор точки съемки, та композиция внутри четырехугольника будущего экрана, которые заставляют нас подчас подолгу и мучительно еще и еще раз переносить штатив, вытягивать ему ноги, сокращать их, проверять съемку через всю оптическую гамму объективов и фильтра.
В этом единстве видимого облика предмета и одновременного образного обобщения, решенном средствами композиции кадра, мы ощущаем важнейшее условие подлинно реалистического письма кинокадра. В этом мы видим залог того особого, волнующего ощущения, которым чисто пластически может увлекать нас зрелище экрана. Ибо такая образная обработка изображения и есть важнейшее 425 в творчестве оператора: «внедрение» темы и отношения к теме во все мельчайшие детали пластического разрешения фильма.
Ни в каких декларациях метод наш не записан. Ни в каких ночных спорах и дымных дискуссиях он не «выковывался».
Но в многообразии проходившей перед нашими глазами действительности и страстного и разумного к ней отношения шаг за шагом эти пятнадцать лет мы рука об руку этого добивались; и удачей отмечались те части и пластические элементы наших картин, где мы этого достигали.
Наконец, именно это же дало нам возможность впервые по-настоящему достигнуть единства изображения и музыки, — в той степени, как нам это удалось в «Александре Невском». Эмоциональная «музыка изображения» и пейзажа, та «неравнодушная природа», которой мы добиваемся на протяжении всей нашей работы, здесь естественно слилась в единую гармонию с теми исключительно пластическими элементами, которыми блещет глубоко эмоциональная музыка Сергея Прокофьева. Встреча с ним для нас с Эдуардом была такой же творческой радостью, как встреча нас двоих друг с другом пятнадцать лет назад. В лице Прокофьева мы нашли третьего союзника на путях завоевания того звукового кино, о котором мы мечтаем.
Пробегая написанное, я вижу, что почти столько же написал о себе, сколько и о Тиссэ. Но это меня не пугает: в мой двадцатипятилетний юбилей, который будет одновременно двадцатипятилетием нашей совместной работы и тридцатью пятью годами работы Тиссэ, — когда Эдуард будет писать обо мне, ему придется не менее, чем мне сейчас, писать и о себе.
И это будет большим для меня счастьем, это будет доказательством того, что новое десятилетие мы проработали в той же неразрывной творческой дружбе, как и наше первое пятнадцатилетие!
426 ОКО ЗА ОКО*
Мы на съемках в Армавире1. В совхозе Хуторок. Ночь. Только что, тревожно оглашая спящую степь, прошли, стуча, трактора. Эти колонны из соседних совхозов идут к месту съемок на завтра. Они потащат тридцать два комбайна.
Вдруг стучат в двери. Принесли телеграммы. Молнию. Не люблю телеграммы. Всегда какая-нибудь неприятность… На этот раз нет. Молния от Бубекина. «Комсомольская правда» хочет выслать специального корреспондента2. Розенфельд. Молнию обратно: «Приветствую согласен». День. Два. Три. Проходят большие съемки. Подходят малые. Проходят и они. Чемоданы сложены. Розенфельда нет… Появляется Майк (так звали его американцы в Номе на Аляске, где он был со Слепневым)3 уже в Харькове. Оказывается, был приступ малярии. Не мог выехать в Армавир. Не верю. Не верю! Майк не из тех, кого может трясти кто-либо. Даже малярия. При встрече с ней не она, а он окажется трясущим! Таков Майк. Таково от него впечатление. И впечатление здесь вряд ли обманчиво. Майк очеркист. Им дано нас обследовать. Терзать пером. Подглядывать за нами. Влагать нам в уста высказывания, о которых мы не думали, и налагать неумолимую печать молчания именно на то, что наш брат хотел бы особенно видеть в печати. Мы то, что из нас угодно сделать очеркисту. Око за око. Кто сделает то же в отношении очеркиста? Зуб за зуб. И на этот зуб возьмем Михаила (Майка) Розенфельда.
Я видел многих журналистов всех цветов, пород и оттенков. Язвительных молодых людей соц[иал]-демократических газет, старавшихся исказить каждое слово и мысль; чрезмерно усердных энтузиастов, перехлестывавших в другую сторону, предвзятых писак 427 буржуазных листков; загнанных коней репортажа, блестящих мастеров самопишущего пера (во всех отношениях) в обслуживании американских газет; непробудно пьянствующих и скучающих «специальных корреспондентов» газетных трестов в отдаленных тропических местечках. Примеры энергии, апатии, находчивости, недобросовестности, добропорядочности.
В галерее их вышеупомянутый Майк — совсем особое явление. С совершенно баснословной энергией, настойчивостью, находчивостью, которыми может похвастать не один из иностранных очеркистов, он соединяет замечательное качество. Думаю, что качество это сугубо советское: замечательное растворение внутри того коллектива, куда он попадает. Майк становится членом того коллектива, куда его заносит воля редакции «Комсомольской правды». И тут характерно, что он отнюдь не беспрекословен и едет лишь туда, куда его влечет. Майк меньше всего наблюдатель. И Майк больше всего — участник. Я это вижу по своей киноэкспедиции. Я сужу об этом по тому углу зрения, с которого он рассказывает в перерывах между делом о бесчисленном ряде экспедиций, которые зачерчивало его перо. Этот угол — изнутри. И поэтому он такой объемлющий, и потому в его очерках бьется настоящий пульс и по строчкам его пробегает действительная жизнь и действительность. Во время спасения «Малыгина»4 это достигает предельной степени — спецкор становится политруком спасательных команд, и на груди его орден за заслуги, выходящие далеко за пределы литературной работы. Майк прежде всего строитель. И, попадая на новый участок познавания нашей действительности, он прежде всего становится ее участником. Вот где, по-видимому, основной «профессиональный секрет» этого замечательного парня с манерами лучших представителей мировой прессы, а стилем и содержанием — никого, поскольку то, что он описывает в очерках — от ЭПРОНА до челюскинцев, от спасения на Истре до полета стратостата — беспрецедентно по внутренним качествам своей социалистической значимости. Вот где тайна обаяния его очерков. Вот где тайна обаяния его самого.
Наша харьковская киноэкспедиция — тяжелая экспедиция. Тяжела не горячкой работы. Тяжела — обратной стороной. Поднять съемку среди города, отнюдь не привыкшего к урагану кинодействительности. Города, живущего своими планами: промфин и другими. Города, имеющего свои цели, задачи, задания. Поднять съемку среди такого города нелегко. Где сочувствие и содействие налицо, там не всегда соответствие темпов. А кое-где и самочувствие надо воспитать, вызвать, распалить. Порывы наталкиваются на затруднения. Вязнут в телефонных проводах переговоров с Москвой, виснут на телеграфных сетях перевранных разговоров. Обычная картина. Ее дополняют осадочки не всегда кстати… Биография съемочной группы знает и месяц дождей в Муганских 428 степях5. И шесть недель тропических ливней в Тетлапайаке6 еще более отдаленной Мексики. И Зимний дворец, внезапно обросший лесами ремонта, ровно за сутки до съемок осады его для «Октября», чем были сорваны первые дни съемки. И эскадру на Черном море, ушедшую на зимовку за два дня раньше, и т. д. и т. д.
Выдержка на «простой» (неизбежный) воспитана годами. Но на этот раз — нервность повышена. Если Майк стал сочленом коллектива экспедиции, то и его дело стало делом экспедиции. Наши перерывы — его перерывы. Нарушение хода съемок — нарушение нормального тока его специальной корреспонденции…
На кинофестивале мы видели прекрасную картину «Вива Вилья». При штабе Панчо Вильи есть журналист. Он посылает в газету сообщение о взятии Вильей одного города раньше, чем Панчо его взял. Чтобы не выставить своего друга лгуном, Панчо Вилья срочно берет город. Чтобы не создавать перерыва в корреспонденции Майка, съемочная группа делает сверхусилия. Дело Майка — наше дело, как наше дело — дело Майка.
Сворачиваются последние сопротивления. Мы выходим в поля. На своем посту Розенфельд. Съемки двинулись. Трактора идут. Ручка аппарата крутится… Ручка Майка забегала по бумаге.
Есть в «Вива Вилья» еще одна сцена — финал. Когда, подстреленный предательской рукой, умирает Панчо. Рядом с ним его друг. И Панчо просит в отчете об его смерти средактировать ему слова, достойные последних его мгновений…
Я не знаю, где меня застигнет пуля. И это не в шутку. В случае войны киноаппарат наш зарядится пулеметной лентой. Киноработа на фронтах — впереди у всех нас. И как армия и все сыны великой страны готовы в любой момент стать на защиту нашей родины, так и армия кинематографистов только ждет сигнала, чтобы ринуться в бой.
Но обещаю, если меня хватит пуля, крепко зажимать свою рану до приезда Розенфельда (если «Комсомольская правда» его пришлет ко мне). Так как вряд ли догадаюсь, что надо будет сказать по такому случаю…
Впрочем, Майк может не беспокоиться. За глаза ему доверяю за меня сказать «последние слова». Хотя, думаю, и слов не будет нужно. Какие тут слова.
Да вряд ли хватит пуля. Ведь не посмеет подлый враг подняться на Союз, если впредь с таким же размахом все мы будем крепить его мощь.
Ну а уж если же и будет война, то уверен, с Майком рядом будем драться в первых же рядах!
429 НЕИСТОВЫЕ ХУДОЖНИКИ*
Советский народ любит своих фотографов. Не только потому, что они прекрасные мастера, но и потому, что они владеют искусством закреплять в художественных фотодокументах самое для нас дорогое — нашу жизнь, нашу страну, нашу социалистическую действительность.
В своих работах они запечатлели лучшие черты, характерные для советских людей; теми же чертами наделены и сами советские фоторепортеры, повседневно проявляющие в своей деятельности оперативность, подвижность, смелость, решительность, выдумку и изобретательность, упорство и настойчивость. И все это согрето великим энтузиазмом, глубокой любовью к нашей действительности.
Сколько только фотографов я не встречал на работе за эти годы, то работая с Эдуардом Тиссэ бок о бок с ними, то наблюдая за тем, как они «вгрызаются» своими фотокамерами в окружающую жизнь и неповторимые события этих двадцати двух лет! Все эти фоторепортеры проникнуты, как и советские кинематографисты, огромной страстностью, огромным увлечением материалом, и эта страстность, это увлечение ведут к тому, что, невзирая на разнообразие стилей, особенности индивидуального «фотописьма» или манеры, всем им удается в высокохудожественных образах закреплять явления нашей действительности.
Вот ветераны фотографии — вроде одного из наших старейших фоторепортеров, вечно юного и энергичного Гольдштейна. Вот Новицкий, через камеру которого прошло несказанное количество событий, начиная с довоенных времен, империалистической войны, 430 годов гражданской войны и до наших дней, когда социализм вошел в наш быт.
Вот тонкий мастер Дебабов, когда-то актер Первого рабочего театра Пролеткульта, где я начинал работу режиссером. Заразившись нашей работой в кино («Стачка», 1924), он страстно втягивается в фотоработу, учится технике, копит опыт, пробует и наконец достигает большого блеска, которым отмечены его неоднократно премированные фотографические произведения. Трудно забыть его серию «Север». Молодой парень — рабочий, занявший одно из первых мест среди лучших фотографов Союза, — таковы пути лучших людей нашей страны.
Альперт, с которым мы только что бок о бок исколесили Ферганский канал. Какое удовольствие следить за его неутомимостью и прямо-таки фоторепортерской одержимостью. Из горы прекрасных фотографий, запечатлевших эту интереснейшую страницу истории человеческого труда, складывается монументальный образ нашей эпохи.
Эти имена знают все, как знают Шайхета, Штернберга, Скурихина, Петрусова, Родченко, Халипа, Калашникова. Несколько есть еще мастеров, избравших для своей работы специальные участки, посвятивших себя одной задаче и с ней связавших свою судьбу.
Невозможно говорить о Фергане, не вспомнив вездесущего Пенсона, человека, исходившего с фотоаппаратом весь Узбекистан, чью славную историю страница за страницей можно воссоздать по необозримому фотоархиву Пенсона за многие и многие годы. Он связал свою творческую судьбу с этой прекрасной республикой.
Наконец, нельзя не вспомнить целую армию тех фотографов, незаслуженно забываемых, которые связали свою судьбу с кинематографом. Их фото пестрят в журналах, привлекают внимание зрителя к кинотеатрам, сохраняют память о картинах на многие годы после того, как сами фильмы устарели и сошли с экрана.
А сколько здесь нужно умения, острой хватки, культуры и вкуса, чтобы фотографический образ оставался таким же впечатляющим, как и кинообраз.
Имена этих мастеров менее известны, хотя их снимки знакомы миллионам.
Среди фотографов, работающих в кино, одно из виднейших мест занимает наш «фотограф-молния» — Трохачев, сумевший серией великолепных фотографий запечатлеть то, что мимолетно проносится по экрану. Он работал фотографом над кинокартиной «Александр Невский». Быстрота и хватка этого человека поражают. Умение «войти» в материал восторгает: этому, вероятно, помогает то, что Трохачев когда-то сам был актером. Его фотографии живут какой-то внутренней драматической жизнью, в них есть что-то от 431 той жизни, какой живы пейзажи таких мастеров фотографии прошлого столетия, как Атже, или портреты Давида Октавиуса Хилла1.
Советской фотографии есть с чем прийти к своему двадцатилетию: мы бегло упомянули лишь несколько имен, но за этими именами стоят сотни мастеров фотокамеры, которых мы от души приветствуем в эти славные для них дни.
Привет, товарищи-коллеги!
432 [О МАЯКОВСКОМ]*
Странный провинциальный город.
Как многие города Западного края, из красного кирпича. Закоптелого и унылого. Но этот город особенно странный. Здесь главные улицы покрыты белой краской по красным кирпичам. А по белому фону разбежались зеленые круги. Оранжевые квадраты. Синие прямоугольники.
Это Витебск 1920 года. По кирпичным его стенам прошлась кисть Казимира Малевича.
«Площади — наши палитры», — звучит с этих стен.
Но наш воинский эшелон1 стоит в городе Витебске недолго. Наполнены котелки и чайники, и мы грохочем дальше.
Перед глазами оранжевые круги, красные квадраты, зеленые трапеции мимолетного впечатления о городе…
Едем, едем, едем…
Ближе к фронту. И вдруг опять: фиолетовые овалы, черные прямоугольники, желтые квадраты!
Геометрия как будто та же.
А между прочим, нет.
Ибо к розовому кругу снизу пристроен фиолетовый, вырастающий из двух черных прямоугольников.
Лихой росчерк кисти вверху: султан.
Еще более лихой вбок: сабля.
Третий: ус.
Две строчки текста.
И в плакате РОСТА пригвожден польский пан2.
Здесь проходит демаркационная линия соприкосновения левых и «левых».
433 Революционно левых и последних гримас эстетски «левых».
И здесь же необъятная пропасть между ними.
Супрематическое конфетти, разбросанное по улицам ошарашенного города, — там.
И геометрия, сведенная до пронзительного крика целенаправленной выразительности, — здесь.
До цветовой агитстрочки, разящей сердце и мысль…
Маяковского я впервые увидел сквозь «Окна РОСТА».
* * *
Робко пробираемся в здание Театра РСФСР I3. Режущий свет прожекторов. Нагромождение фанеры и станков. Люди, подмерзающие в неотопленном театральном помещении. Идут последние репетиции пьесы, странным сочетанием соединившей в своем названии буфф и мистерию4. Странные доносятся строчки текста. Их словам как будто мало одного ударения. Им, видимо, мало одного удара. Они рубят, как рубились в древности: обеими руками. Двойными ударами.
Бить так бить… И из сутолоки репетиционной возни вырывается:
«… Мы австрали́й-цы́…»
«… Все у нас бы́-ло́…»
И тут же обрывается. К режиссеру (из нашего угла виден только его выбритый череп, прикрытый высокой красной турецкой феской)5, к режиссеру яростно подошел гигант в распахнутом пальто. Между воротом и кепкой громадный квадратный подбородок. Еще губа и папироса, а в основном — поток крепкой брани.
Это автор. Это Маяковский.
Он чем-то недоволен.
Начало грозной тирады. Но тут нас кто-то хватает за шиворот. Кто-то спрашивает, какое мы имеем право прятаться здесь, в проходах чужого театра. И несколько мгновений спустя мы гуляем уже не внутри, а [вне] театрального здания.
Так мы видели впервые Маяковского самого…
* * *
— Ах вот вы какой, — говорит громадный детина, широко расставив ноги. Рука тонет в его ручище.
— А знаете, я вчера был весь вечер очень любезен с режиссером Ф., приняв его за вас!
Это уже у Мясницких ворот, в Водопьяном. В ЛЕФе6. И значительно позже. Я уже не хожу зайцем по чужим театрам, а сам репетирую в собственном — пролеткультовском. Передо мной редактор «Лефа» — В. В. Маяковский, а я вступаю в это только что 434 создающееся боевое содружество: мой первый собственный спектакль еще не вышел в свет, но дитя это настолько шумливо уже в самом производстве и столь резко очерчено в колыбели, что принято в «Леф» без «экзамена». В «Лефе» № 3 печатается и первая моя теоретическая статья. Мало кем понятый «Монтаж аттракционов»7, до сих пор еще приводящий в судороги тех, кто за умеренность и аккуратность в искусстве.
Резко критикуя «литобработку» (как формировали тогда в «Лефе» слова) текста Островского одним из лефовцев8, В[ладимир] В[ладимирович] в дальнейшем пожалеет, что сам не взялся за текст этого достаточно хлесткого и веселого агит-парада Пролеткульта. Так или иначе, премьеру «Мудреца» — мою первую премьеру — первым поздравляет бутылкой шампанского именно Маяковский (1923). А жалеть о переделках текста некогда. Слишком много дела. Конечно, с заблуждениями. Конечно, с ошибками. С загибами и перегибами. Но с задором и талантом. «Леф» дерется за уничтожение всего отжившего журналом, докладами, выступлениями. Дел выше горла. И дальнейшие воспоминания о Маяковском сливаются в бесконечную вереницу выступлений в Политехническом музее, зале консерватории. Погромных речей об… Айседоре Дункан9, поблекшей прелестью волновавшей загнивших гурманов. Разносов поэтиков из «Стойла Пегаса» или «Домино» и тому подобных поэтических кабачков, расцветавших при нэпе.
До сих пор неизгладимо в памяти:
Громкий голос. Челюсть. Чеканка читки. Чеканка мыслей. Озаренность Октябрем во всем.
* * *
Затем агония Нового ЛЕФа10, этого хилого последыша когда-то бойкого и боевого ЛЕФа. Вера во вчерашние лефовские лозунги ушла. Новых лозунгов не выдвинуто. Заскоки и зазнайство, в которых не хочется сознаваться. И в центре уже не дух Маяковского, а «аппарат редакции». Длинные споры о лефовской «ортодоксии». Я уже в списке «беглых». Уже имею «нарушения»: «посмел» вывести на экран Ленина в фильме «Октябрь» (1927). Плохо, когда начинают ставить чистоту жанрового почерка впереди боевой задачи.
Не вступая в Новый ЛЕФ, поворачиваюсь к нему спиной. С ним нам не по пути. Впрочем, также и самому Маяковскому. Вскоре Новый ЛЕФ распадается.
* * *
Мексика. Арена громадного цирка. Бой быков в полном разгаре. Варварское великолепие этой игры крови, позолоты и песка меня дико увлекает. «А вот Маяковскому не понравилось»11, — говорит мне товарищ мексиканец, водивший В[ладимира] В[ладимировича] на это же зрелище…
435 На некоторые явления мы, стало быть, глядим по-разному.
Но в тот же почти вечер мне приносят письмо из Москвы от Максима Штрауха12. По основным вопросам мы смотрим с Маяковским одинаково. Штраух пишет, что В[ладимир] В[ладимирович] смотрел мой деревенский фильм «Старое и новое», посвященный тоже быкам, но… племенным. Смотрел с громадным увлечением и считает его лучшим из виденных им фильмов. Собирался даже слать за океан телеграмму.
* * *
Телеграмма не пришла: Маяковского не стало. Передо мной забавные, похожие на украинскую вышивку, его зарисовки мексиканских пейзажей. О бое быков мы думали по-разному. Об иных боях — одинаково.
КОНЕЦ МАЯКОВСКОГО
[…] Величие Маяковского в том, однако, и состоит, что, борясь с призраком смерти в самом малодушном ее аспекте — возможности лишить себя жизни самому, — поэт оставляет ее [смерть] не на уровне личного дела и ночного поединка внутри собственной души, но возводит эту тему на материале конкретного повода до высот обобщения на потребу обществу и на то, чтобы перебить ту вредоносную волну, которая начала разливаться в связи и по поводу печального события с Сергеем Есениным. (Смотри помимо Маяковского сплоченные выступления наперекор этому разливу — групп организованной комсомольской общественности, групп литераторов и критиков — выступления, сохранившиеся в ряде специальных сборников, относящихся к године катастрофы с Есениным13.)
Ведь как ни удивительно и как ни странно — монолитный и зычный Маяковский не избежал в личном характере многих и многих черт интеллигентского неврастенизма.
И то, как он героически превозмогал и преодол[ева]л их, обращая все в дело «гражданственного служения», нисколько не умаляет, а наоборот, возвышает значение личности того, кто был лучшим поэтом своего и нашего времени.
Кто помнит Маяковского по эстраде, не мог не поражаться поразительному самообладанию В[ладимира] В[ладимировича], блистательной его находчивости, беспощадному полемическому мастерству, с которым он «рубал» оппонентов на-право и на-лево (оппонентов, наседавших и справа и слева!).
И как не вяжется этот громобойный образ трибуна с закулисным обликом перед самим выступлением на таком градусе нервозности, 436 при котором только последовательный атеизм В[ладимира] В[ладимировича], казалось, удерживал его [от] того, чтобы не креститься мелкими крестиками перед выходом на подмостки, как это делают особенно нервные актрисы (иногда предательски бросая из-за кулисы на задник очертания своего крестящегося силуэта. Не забуду в этом плане один из спектаклей… «Адриенны Лекуврер»14 в Камерном театре!).
Витает ли где-либо навязчивая мысль смерти над боевым арсеналом его стихов?
Это потребовало бы чрезмерной кропотливости малопроизводительной и еще менее общеполезной работы.
Напомню лишь по собственному живому воспоминанию, как именно в этой интеллигентской покорности смерти как исходу из противоречий Маяковского при мне как-то совершенно неожиданно при выступлении его в Политехническом музее обвинил вовсе никому не ведомый, даже не молодой товарищ в кожаной куртке, с упреком процитировавши ему в лицо — с бумажки! — строчки о том, как шею его «обнимет колесо паровоза».
С обычным своим полемическим задором и озорством покойный В[ладимир] В[ладимирович] здесь же расшиб своего противника, уже не помню, какой именно аргументацией.
Но первое, что всплыло мне на память о Маяковском, когда в 1930 году до меня в Париж дошло известие о его трагической кончине, был именно этот упрек вовсе рядового его читателя, но, видимо, с большой остротой слуха нового человека восходящего класса уловившего за много лет вперед звучание того мотива, который с годами разросся до одной из крупнейших трагедий современной русской литературы.
Я мог вспомнить по поводу этого известия очень многое, ибо много и встречался и сталкивался с Маяковским, начиная с первой встречи еще в Водопьяном переулке, через ЛЕФ, Новый ЛЕФ, с которым я порывал, через более поздние Сокольники и Таганку, если вспоминать его по признаку квартир, или Дому ученых, Политехническому музею, залу консерватории, клубу «Домино» на Тверской, помещению б[ывшего] театра Зон15 и бесчисленным заводским аудиториям, если считать по эстрадам, которые были своеобразной хронологией в его личной и боевой биографии.
Но именно этот стих, прочитанный давным-давно в Политехническом музее кем-то неведомым с помятой бумажки в руках — немедленно встал передо мной…
И под этим углом зрения ироническая даже местами «трезвость» (недаром так отчетливо высекающая именно это слово отдельной строкой) статьи «Как делать стихи?» звучит еще более отчетливо и еще более достойна уважения как полное подчинение «собственной темы» теме общественной, как полное отведение этой личной темы за рамки статьи; статьи, целиком предоставленной вопросу целенаправленного 437 служения своему классу стихами и увлекательной картине того, как взволнованная идейность установки расцветает узорами и изломами ритма и облекается системой словесных образов.
Высказанные здесь соображения должны лишь навести на мысли о том, что исходный поток эмоции, в дальнейшем выковавшийся в один из прекраснейших декларативных документов о служении общественному делу со стороны поэта-гражданина, глубоко связан с темой персональной, мучительной, трагичной.
И величие поэта в том, что и восторг свой, и страдания, и солнечную озаренность свою наравне с трагедийными элементами психической подспудности он в равной степени вдохновенно облекает в мощную зычность и звонкость покоряющих образов на пользу и в интересах общего дела; «социального заказа»; безоговорочного служения своей социалистической стране.
И глубина и страстность самого произведения на том и строится, что неразлучно связаны друг с другом и личная эмоциональная тема и революционная сознательность, преображающая ее в ту непреходящую общественную ценность, какой являются стихи на смерть Есенина в общем контексте творений Маяковского.
438 [РОЖДЕНИЕ МАСТЕРА]*
В биографии каждого художника — это замечательное мгновение. Мгновение, когда вдруг ощущаешь, что ты стал художником. Что тебя признали художником.
Я уже смутно помню обстановку, когда это было со мной.
К тому же я это пережил по трем специальностям.
Наиболее сильно это было в 1923 году, когда в Большом театре я показал на юбилейном вечере фрагмент моей первой театральной постановки («Мудрец» Островского1. В эту дату я впервые значился режиссером на афише!). Накануне на просмотре этот фрагмент казался явным провалом. Отменить уже было нельзя. А в зале будут лучшие люди театра и искусства. Чудовищная ночь. Безумное волнение днем. Страшная паника в вечер. И вдруг в середине демонстрации зал дрогнул аплодисментами. «Дрогнул» — необычайно верный термин. Нет более четкого определения этому внезапному взрыву и раскату. Дрогнул раз. Дрогнул два. И раскатился раскатами под занавес. Вру. Я так обалдел от неожиданности успеха, что… забыл дать команду на занавес! Сообразил только позже.
Я долгие годы хранил костюм со страшной раной дыры у кармана пиджака, на новом костюме, впервые надетом. Я уже не помню тот гвоздь, на который напоролся, шатаясь после того как опустился занавес. Пиджак хранил как реликвию. Это было напоминание о вечере, когда я был «рукоположен» зрителем в режиссеры.
В том же Большом театре в юбилей 1905 года, два года спустя, я пережил еще большее с «Потемкиным»2.
439 Необычайно волнует присутствие при рождении нового художника, когда первые его самостоятельные шаги неразрывны с его первым появлением на свет как творческой личности!
— Умоляю, приезжайте, — твердит мне в телефон представитель ВУФКУ3 в Москве, — умоляю, посмотрите, что нам прислали за фильм. Никто ничего понять не может, а называется «Звенигора».
«Зеркальный зал» театра «Эрмитаж», что в Каретном ряду, — продолговатый ящик, отделанный по бокам зеркалами. Кроме основного экрана на стенах отражаются еще два. На редкость неподходящее для кинотеатра помещение!
У входа маленькие столики и стул. За столом — Зуев-Инсаров4. За рубль на месте он сообщает графологический анализ почерка. За три рубля в запечатанном конверте анализ доставляется конфиденциально на дом. Немного поодаль, на клумбе — чугунный Пушкин. Каждое лето его окрашивают в другой цвет. То он блестит как черный лакированный кузов автомобиля, то принимает бело-серую матовую окраску садовой мебели.
Идем в «Зеркальный зал», где будет общественный просмотр этого непонятного фильма.
— Хорошо это или нехорошо? Помогите разобраться, — просит представитель ВУФКУ.
Под хорошей крышей принимает боевое крещение молодой украинец.
Под исторической крышей. Здесь «Чайкой» начинался Художественный театр.
Здесь начинали мастера условного театра.
Я очень гордился тем, что и мою театральную биографию пришлось в 1920 году начинать именно здесь. Здесь шла моя первая работа «Мексиканец»5.
Садимся вместе с Пудовкиным. Мы только что вошли в моду. Но еще не стали маститыми. Меньше чем год тому назад вышли «Броненосец» и «Мать» и только-только успели пробежаться по земному шару.
В сутолоке наспех знакомимся с режиссером. Называет он себя Александром Довженко.
И на трех экранах — одном настоящем и двух отраженных — запрыгала «Звенигора».
Мама родная! Что тут только не происходит!
Вот из каких-то двойных экспозиций выплывают острогрудые ладьи.
Вот кистью в белую краску вымазывают зад вороному жеребцу.
Вот какого-то страшного монаха с фонарем не то откапывают из земли, не то закапывают обратно.
Присутствующие любопытствуют. Перешептываются.
Мучительно думаешь, что вот сейчас кончится фильм и придется сказать что-нибудь умное о своих впечатлениях.
440 Для нашего брата «эксперта» это тоже экзамен… А на трех экранах, своей численностью еще увеличивающих фантастику, дальше и дальше скачет сам фильм.
И вот уже «дид» — символ старины, подстрекаемый злым сыном, кладет на рельсы символу прогресса — поезду — динамит.
В поезде — добрый сын. Наш, советский. Пьет чай. В последнюю минуту катастрофы не происходит.
И вдруг «дид» — символ старины — сидит себе, как живой дедушка, в отделении вагона третьего класса и пьет с сыном чай из самого натурального чайника…
Я, может быть (и даже наверно), безбожно перевириваю содержание сцен (да простит мне Сашко), но зато твердо помню свои впечатления, и в них уж я бесспорно не ошибаюсь!
Однако картина все больше и больше начинает звучать неотразимой прелестью. Прелестью своеобразной манеры мыслить. Удивительным сплетением реального с глубоко национальным поэтическим вымыслом. Остросовременного и вместе с тем мифологического. Юмористического и патетического. Чего-то гоголевского.
Впрочем, завтра наутро под впечатлением картины я сяду за статью, которую за это сплетение планов реального и фантастического назову «Красный Гофман», и не допишу ее6. От нее останутся только три узкие полоски бумаги, исписанные красными чернилами (в то время я принципиально писал только красными чернилами), полные восторга [перед] тем смелым смешением реального и образно-поэтического планов, которое чарует в этой первой пробе молодого мастера.
Но это будет завтра утром, а сейчас все три экрана заполнились черными прямоугольниками титра «Конец». Нехотя загорается электричество красноватого накала. И кругом — море глаз.
Просмотр кончился. Люди встали с мест и молчали. Но в воздухе стояло: между нами новый человек кино.
Мастер своего лица. Мастер своего жанра. Мастер своей индивидуальности.
И вместе с тем мастер наш. Свой.
Кровно связанный с лучшими традициями наших советских работ. Мастер, не идущий побираться к западникам.
И когда дали свет, мы все почувствовали, что перед нами одно из замечательных мгновений кинобиографии. Перед нами стоял человек, создавший новое в области кино.
Мы стояли рядом с Пудовкиным.
Нам выпала замечательная задача. В ответ на устремленные на нас глаза аудитории сформулировать то, что, однако, чувствовали все, не решаясь высказать из-за необычности явления.
Высказать то, что перед нами замечательная картина и еще более замечательный человек. И первыми поздравить его.
441 И когда этот человек, какой-то особенно стройный, тростниковой стройности и выправки, хотя уже совсем не такой молодой по возрасту, подходит с полувиноватой улыбкой, мы с Пудовкиным от всей души пожимаем ему руки и радуемся такой же радостью, с которой тринадцать лет спустя «в том же составе» радуемся его прекрасному «Щорсу»7.
Так рукополагался в режиссеры Довженко.
На мгновение можно было притушить фонарь Диогена, перед нами стоял настоящий человек. Настоящий новый зрелый мастер кино. Настоящее самостоятельное направление внутри советской кинематографии.
* * *
«Справляли» мы премьеру «Звенигоры» несколько позже — одновременно с выходом «Арсенала»8 и тоже втроем — в порядке товарищеской встречи, на самом верхнем из только что надстроенных над бывшим лианозовским особняком этаже нашего Комитета по делам кинематографии, в Малом Гнездниковском переулке, 7. Мы были в разгаре монтажного периода «Старого и нового». Но один вечер объявляем выходным для встречи с Довженко. Это первая встреча с глазу на глаз. И двум москвичам — Пудовкину и мне — очень любопытно распознать, чем дышит новоявленный киевлянин. Он тоже приглядывается несколько настороженно. Но очень скоро всякая официальность встречи и попытки говорить «в высоком плане» летят к черту. Мы все еще в том счастливом возрасте, когда слова нужны прежде всего для того, чтобы дать волю распирающему обилию чувств.
Да и обстановка этого «пикника» под крышами Совкино слишком «студенческая» для официальности.
Между монтажной комнатой и просмотровой будкой сооружено подобие стола. Минеральные воды и какие-то бутерброды. Горячие, но короткие реплики друг другу по волнующим проблемам кино. Ощущение молодости и творческой насыщенности нового Ренессанса. Необъятность творческих перспектив нового искусства впереди…
Большой пустой учрежденческий дом кругом…
Великие мастера культуры позади…
И как на карнавалах надевают маски, опьяненные удивительным искусством, в котором они работают, три молодых режиссера разыгрывают между собой личины великанов прошлого.
Мне выпадает Леонардо. Довженко — Микеланджело. И, яростно размахивая руками, Пудовкин претендует на Рафаэля. На Рафаэля, «который красотой и изяществом поведения покорял все и вся на своем пути». Соскакивая со стула, Пудовкин старается воссоздать неотразимость урбинца. Но он скорее похож, вероятно, 442 на Флобера, когда тот, воткнув себе за пояс скатерть в виде шлейфа, старался воспроизвести для Эмиля Золя характерность походки императрицы Евгении9 на придворных балах Наполеона III.
Но вот уже опрокинуты подобие стола, стулья и табуреты, и Леонардо, Микель и Рафаэль стараются поразить друг друга остатками акробатической тренировки и физкультурного тренажа. Каскадом10 летит через стулья Пудовкин.
И сцена оканчивается почти как чеховский «Винт»: удивленный полотер Совкино с ведром и щеткой в руках, с выражением полной растерянности на физиономии показывается из-за двери.
Так встречали мы и справляли появление «Звенигоры» и «Арсенала».
443 МЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ*
Удивительно неспокойное существо — человек.
Ходит такое существо, например, по улицам Нью-Йорка, задирает голову вверх и глядит на небоскребы. Казалось бы, все в порядке. Так нет же!
Мятежный дух такого существа непременно вселит в него желание глядеть на эти каменные гиганты не снизу, а… сверху.
Податливая техника не находит ничего лучшего, как идти навстречу капризам породившего ее человека.
Она услужливо готовит ему самолет, и человек может глядеть свысока на то, на что ему нормально положено глядеть снизу вверх…
Зуд этот в отношении небоскребов необычаен!
С ним может сравняться разве только желание непременно пролететься над Альпами, как бы беря реванш за десятки поколений, ползавших в поте лица своего по крутым отвесам Маттерхорна или Юнгфрау, прежде чем туриста с полным комфортом стали заносить на их вершины внутригорные железные дороги.
Над Альпами мы полетали со знаменитым швейцарским летчиком Миттельгольцером.
Это было в те несколько дней, когда он был свободен между охотничьим пикником в Центральной Африке ([охота] за жирафами), куда он на два дня подрядился прокатить одного из баронов Ротшильдов, и еще чем-то в этом же роде.
Когда мы попали на улицы Нью-Йорка, нас разбирало такое же желание взглянуть и на эти каменные массивы с такой же непривычной точки зрения.
Миттельгольцер был сама жизнерадостность, веселость, озорство.
444 Человек, с чьих крыльев мы увидели ночной Нью-Йорк, — мрачен, угрюм, трагичен.
Судьба летчика-испытателя в Европе или Америке безрадостна.
Укротитель львов обычно кончает жизнь в пасти зверя.
Укротитель мустангов воздуха обычно находит смерть в воздушной катастрофе.
Миттельгольцер был весел.
Другой пилот — угрюм.
Сегодня над могилами обоих одинаково высятся крестами вертикально поставленные пропеллеры.
Второго звали Коллинз.
И это имя знакомо всем по тем трагическим записям, которые он оставил [после] себя.
В те годы его книга еще не была написана, но облик ее автора так же печально, нервно и пессимистично рисовался на фоне аэродромов, ангаров и баков с бензином, как несколько лет спустя — память о нем прочертилась на фоне страниц одной из самых трагических книг американской литературы.
Итак, это был Коллинз.
Мы встретились…
Но тут следует вспомнить еще одного человека.
Его тоже уже нет среди нас. Слегка картавый, с усами, по формату схожими с усами Теодора Рузвельта — рыжими с проседью, — этот представитель нашей кинематографии в Америке, друг каждого из нас, кинематографистов, покойный Лев Исаакович Моносзон1 был удивительным человеком.
По долгу службы в качестве председателя «Амкино» его дело сводилось к выпуску и продаже наших картин в Америке.
Но рамки подобной деятельности были для него тесны: Моносзон являлся центром притяжения для всех тех, кого интересовал Советский Союз; другом всем тем, кто любил Советский Союз; и незаменимым источником встреч и свиданий для всех приезжих из Советского Союза и снедаемых любопытством в отношении чудес Соединенных Штатов.
Создатели электромузыки были ему так же близки, как профессора, исследовавшие методику кинематографического внедрения геометрических абстракций в образцовых школах. В университетах он разбирался так же хорошо, как в живописности закоулков и предместий на Лонг-Айленде или на Гудзоне. Реформаторы тюремного режима или пресс-шефы крупных фирм были ему одинаково близки и знакомы. Как только мы изъявили свое любопытство стать выше небоскребов, он тут же вспомнил о Коллинзе. Среди сотен занятных людей он знал и этого.
И вот через день-два мы в предсумеречные часы уже вылетаем с ним в американское поднебесье, откуда так странно сверху, с виража 445 крутящейся будет казаться статуя Свободы, стоящая у въезда в Нью-Йорк. Снизу она кажется гигантской и мощной.
Двигаясь по винтовой лестнице внутри того свинцового мешка, что представляет она собой изнутри, — начинаешь терять к ней почтение.
Величественный символ забывается, и развлекаешься тем, что, вползая по позвоночнику лестницы внутри ее, стараешься изнутри угадать, на каком уровне наружных деталей фигуры находишься, переходя с сотой ступеньки на сто первую или с двухсот второй на двести третью.
Колени это? Талия? Бюст?
Это легкомысленное занятие подрывает уважение к символу. Его пустотелость берет под сомнение и его содержательность.
Но только сверху, из поднебесья, с крыльев вольной птицы — самолета, над необъятностью Нью-Йорка рядом и вокруг, наглядно видишь, какое крошечное и незначительное место занимает в масштабах этого гигантского города эта игрушечная статуэтка — соседка «Острова слез» — американская статуя Свободы.
Она робко примостилась к уголку этого необозримого поля, где густо растут не пшеница и кукуруза, но блоки и блоки домов, старающихся перерасти друг друга сотнями своих этажей; не клевер и хлопок, но акры и акры фабричных корпусов и труб, старающихся перекрыть друг друга столбами своих черных дымов.
Если сама статуя — символ, то еще более яркий символ — ничтожность ее в масштабе реального окружения.
И это относится уже не к статуе, но к самой идее, которую ей поручено воплощать.
И вот ярчайшее разоблачение этого символа мнимой свободы — Джимми Коллинз — сидит перед нами и мчит нас в просторы, казалось бы, необъятной воздушной свободы.
А между тем…
Однако до самого полета этот пепельного цвета человек с отсутствующим взглядом, кудряшками на лбу и неизгладимой травмой на душе заводит нас в свой коттедж, недалеко от аэродрома.
Чем дышит коттедж?
Бивуаком.
Грандиозная фанерная основа необъятной тахты не покрашена. Подушки разбросаны. Занавески не в цвет.
Пол кажется разбегающимся из-под сбитых стоптанных ковриков.
Полки — временно прислонившимися к стенке.
На полках — толстенный Шпенглер2.
Эта книга, безнадежностью своего пессимизма готовая подмыть любые устои, — единственное, что в этом домике кажется незыблемым.
446 Такой отпечаток всегда бывает на любимом предмете хозяина, особенно если это книга.
И действительно, пока из случайного кофейника в чуждые ему чашки льется кофе, хозяин, не сняв кожаного пальто, уже примостился на тахте и привычным ласковым движением снял с полки «Закат Европы».
В руках его неуклюжий том чувствует себя так же привычно, как час спустя сложные механизмы управления самолетом.
Видно, в руках хозяина он бывает не реже, чем они.
В мыслях — чаще.
Коллинз хвалит книгу. И пробегает привычным глазом по привычным страницам; с привычных страниц — к привычным ассоциациям.
Больное место Коллинза — Линдберг3.
Они товарищи по школьной скамье. Летной.
Тот — кумир миллионов.
Этот — никто.
Причины — случай.
Будь на месте Линдберга Коллинз, его, Коллинза, осыпали бы метели бумажек в триумфальном шествии сквозь Нью-Йорк и Америку.
Будь на месте Линдберга Коллинз, в дансингах негритянского Харлема сейчас плясали бы не «линди-хоп» — эту фигуру фокстрота, придуманную в честь Линдберга-Линди.
Состоит она в том, что пары разбегаются друг от друга на расстояние человеческого океана — зала и затем совершают обратный «перелет» друг к другу в объятия.
Будь на месте Линдберга Коллинз, эта фигура, обошедшая все дансинги мира, называлась бы не «линди-хоп», но «колли-хоп».
Наконец, будь на месте Линдберга Коллинз, не Коллинз бы усаживал нас сейчас в этот маленький частный самолет какого-то буржуа, у которого Коллинз вынужден служить воздушным шофером.
Коллинзу тесно. Коллинзу душно в этой нетворческой, в этой несозидательной атмосфере воздушного кеба.
Чем шире простор небес, который он рассекает яростными виражами — Моносзон бледнеет, вертясь над Крейслер билдингом или Бродвеем, — тем более пилот чувствует свои оковы.
Советский Союз рисуется Коллинзу выходом. Спасением. Широким полем приложения таланта и опыта первоклассного летчика.
Но с поездкой не клеется. Уехать не просто.
И день за днем тянется воздушная поденщина, сменяемая головоломной работой испытателя, перебиваемая неудобной фанерной тахтой, [которую не успели] покрасить, с подушками, привыкшими лежать под сапогами, разрозненным сервизом и неизменным Шпенглером, между папиросным дымом и стынущим кофе.
447 Будни. Тоска. Скука.
И редкие минуты вдохновения.
Вот как сейчас, когда, неся в кузове четырех москвичей, маленькая его птица совершает феерический перелет из ранних сумерек в темноту, а далеко внизу под ней постепенно загораются сотни тысяч огней прямоугольниками окон.
В темноте они кажутся бесчисленными столбиками, составленными из черных игральных костей или черного домино, на чьих поверхностях и гранях внезапно зажглись тройки, шестерки, пятерки, двойки…75*
* * *
Следующий раз я вижу Коллинза два года спустя.
Не в воздухе, а на асфальте.
Не над огнями Бродвея, а под резким неоновым светом мексиканского дансинга.
Не в САСШ, а в Мехико-Сити.
Завтра я покидаю Мексику после четырнадцати месяцев работы над картиной, которую сам не увижу.
Я этого еще не знаю, но предчувствие есть.
С другим, более страшным предчувствием ходит со мной рядом Коллинз.
Он привез на один день из Нью-Йорка в Мексику в своем воздушном кебе своего хозяина и нескольких его гостей.
Хозяин и гости, как все американские туристы, где-то нагружаются тэкилой и мескалем4.
Мы же с Коллинзом бродим по ночным улицам.
Завтра он вылетает.
Завтра мы выезжаем.
Сейчас мы оба у подъезда дансинга.
Кругом бронзовые парни в синих прозодеждах, клетчатых и полосатых рубашках. У кого сомбреро на голове, у кого в руках (как бы не сбить пробора, [который] кажется ущельем, причудливо высеченным среди массы черного жесткого негнущегося волоса).
Дешевые кольца на огрубелых от работы пальцах фальшивым блеском перемигиваются с такими же серьгами в ушах бронзовых девушек.
Пудра — и так принимающая на бронзовой коже лиловатый оттенок — в лучах голубого и красного неонового света кажется язвой на щеке.
Румяна — черными провалами.
Такими на стенах пулькерий — дешевых питейных заведений — рисует в молодости проституток удивительный Хосе Клементе Ороско.
448 Такими глядят они с черно-белых лубков учителя молодых мексиканских художников несравненного Хосе Гуадалупе Посада5.
Лихорадочно горят глаза этих «мучачас».
Лоснятся блестящие материи, туго обхватывая упругие тела.
Внутри идет «дансон».
И жадно слушают у дверей музыку и шарканье танцующих ног те из их кавалеров, у кого не хватает десятка сентавос для того, чтобы, купив билет и получив к нему в придачу маленькую фотокарточку голой девушки, ринуться в три соединенные арками залы дансинга.
Но эти арки не соединяют залы — они разъединяют их.
И если переход из одной в другую и третью по нисходящей линии разрешен, то обратного входа нет.
В залах разная цена, и грошовое размежевание цен разделяет танцующих, как железные решетки.
Движемся с Коллинзом через два зала в третий.
Я чувствую себя Вергилием, ведущим Данте по кольцам ада.
Босх, Гойя, Дике и Гросс6 бледнеют перед этим лепрозорием веселья!
Свет здесь слабее.
Музыка — издалека — глуше. Идет «дансон». Тот удивительный танец, где время от времени на самом резком движении пары внезапно на несколько тактов застывают друг перед другом в полной неподвижности и стоят как вкопаные, прежде чем снова продолжить томительную чувственность или быстрый темп ритмических телодвижений.
Так же неподвижно, чуть-чуть соприкасаясь телами, способны они стоять — долго и жадно — по темным улицам, под каждым деревом, вдоль бесконечной длинной стены городского госпиталя или в боковых аллеях «аламэды» — городского сада. Здесь они замирают в танце.
И в такие мгновения зал дансинга страшен: он кажется одним застывшим трупом, лишь изнутри вздрагивающим в такт кричащему ритму оркестра.
В полумраке оживающие фигуры поплыли дальше…
Обвислые бумажные цветы, белые зубы, рассекающие улыбкой черноту лиц. Подбитый глаз. Обнаженное плечо в синяках. Шея в укусах. Кровоподтек.
В углу — странный старик. Выводит тонкой кисточкой тушью на рубашке кавалера инициалы его дамы на том месте, где бьется его разгоряченное сердце.
Кисточка щекочет. Кругом острят.
Но бронзовый кавалер боится вздрогнуть: это единственная рубашка, нельзя сбивать рисунка.
Кругом хриплый смех.
Танцуют.
449 Но кружатся не все. Большинство осталось неподвижно. Большинство это — на скамьях.
И большинство это — спит.
Объяснение простое:
третий зал дансинга дешевле ночлежки.
До знакомства с этим дансингом я думал, что самый страшный заграничный эквивалент былой московской Ермаковке7 (с ее жутким отделением для калек!) я видел в Гамбурге.
Несколько квадратных метров пола. Стойка. И люди, спящие… стоя. Лишний пфенниг предоставляет им комфорт: роскошь его состоит в том, что они могут положить свой подбородок «auf die Leine»76* — облокотить его на подобие вожжей, крест-накрест протянутых сквозь это стойло. В Париже я видел немало кафе в округе Нотр-Дам, где до двух часов можно спать по углам. Но ночлежку дансинг я впервые увидел в Мексике!
И под хрип оркестра, под ритмическое вздрагивание пола от движений ритмически вздрагивающих в танце тел спят здесь кругом на скамейках десятки бездомных, безработных, бесперспективных людей.
Бесперспективность этих людей роднит их с моим спутником.
В глазах Коллинза — благодарность.
Я правильно выбрал аспект той Мексики, которую он хотел бы видеть.
Охваченные тяжелым впечатлением этих последних часов в Мексике, мы идем по улицам.
Мексика или не Мексика, — через месяц-два я буду дома — я снова буду творчески жить в атмосфере созидания величайших человеческих ценностей. Силы, темперамент, воля снова будут отданы великолепнейшим задачам создания коммунистического общества. Светочем сияет оно во все закоулки мира. Миллионы тянутся к нему…
А Коллинз?
Сегодня Мексика. А завтра Гонконг, Сингапур или Бомбей, куда забросит его каприз хозяина. Жизнь пестрая, бессмысленная. В неуверенности в завтрашнем дне. В отсутствии этого завтрашнего дня в перспективе.
Не этот хозяин — другой.
Тот предпочтет пить в Аляске, в Канаде или в Гренландии.
И когда не выдержит Коллинз этого ярма, тогда он бросится в другую область — в испытание машин — не для того, чтобы создавать и двигать их к новым задачам завоевания воздуха, а для того, чтобы прокормиться, — перед ним неустанно будет маячить ежеминутный призрак катастрофы и смерти. Смерти и катастрофы не как подвига на поле брани завоевания новых технических высот 450 для человечества — но бесславной гибели в интересах таких же хозяев, на этот раз держателей акций авиационных предприятий.
Больше с Коллинзом мы не виделись.
Описанием своей будущей собственной гибели завершил он свой тяжкий путь, прежде чем погибнуть именно так, как сам он предвидел и предугадал.
«Я умер» — озаглавлены последние страницы, вышедшие из-под его пера.
«… Я умер».
* * *
Судьба Коллинза и бесчисленных анонимных летчиков-испытателей легла в основу печатаемой записи по фильму «Летчик-испытатель».
Сценарий и картина захватывают.
Ибо в основу обоих легла живая страница живой действительности: страшная страница борьбы за существование в капиталистическом обществе, где труд не дело доблести и чести, не радость творчества и созидания, но только средство не умереть с голоду и прокормиться.
Пусть сглажены грани, пусть смягчен пессимизм безысходности судьбы бесчисленных Коллинзов, пусть конец картины оказывается благополучным — тем не менее через отдельные сцены, отдельные ситуации и кадры во весь рост сквозит величие трагической темы, освещенной памятью печальной судьбы одного из тысячей летчиков-испытателей — Джимми Коллинза.
451 ВАЛЯ КАДОЧНИКОВ*
Умер Валя Кадочников.
Кем он был для нас,
кем для студии,
кем среди молодых подрастающих творческих кадров
— мы все знаем.
Не об этом хочется говорить в связи с его смертью.
Не хочется говорить и общие фразы о том, что новая молодежь придет ему на смену.
Мы знаем, что у нас много молодых талантов и мы сумеем восполнить урон и заполнить зияющую трагическую брешь в рядах нашей киномолодежи.
Хочется говорить о том, что и гибель Величко1 и смерть Кадочникова — тяжелые показатели того невнимания и безразличия друг к другу, которыми все больше и больше начинают заболевать студия и наш коллектив.
Казалось бы, что обстановка войны; казалось бы, что обстановка эвакуации; казалось бы, что та особая обстановка и трудности работы, в которых мы сейчас трудимся, должны были бы больше сближать всех нас, заставлять больше думать друг о друге, чаще протягивать один другому руку помощи и участия.
Вместо этого мы видим годами больного талантливого молодого человека, на которого страна тратила годами деньги, чтобы воспитать и обучить его тонкому и сложному искусству режиссуры, — отправленным на работу, ни по здоровью, ни по складу, ни по способностям ему не пригодную.
452 Покойный Валя не был из крикунов или тех людей, которые зубами дерутся за свое благополучие или за свои интересы.
Я помню его с первых дней моей работы в институте после моего приезда из-за границы.
Более самоотверженного студента, работающего не только для себя, но и для созидания института в целом, трудно было найти.
Я помню его на первой картине. Помню его в борьбе за право молодежи ставить картины.
Помню его в пожарной охране дома на Потылихе.
Помню на крышах во время бомбежек родной столицы.
Помню — в неимоверных размеров рукавицах — за тушением бомб.
Помню его всегда деятельным, всегда активным, всегда борцом за дело института, студии, за дело отечества.
Не помню я его только в одной борьбе — в борьбе за свои личные интересы там, где они не являлись частью общего дела; в борьбе за личное благополучие там, где оно не было бы одновременно вопросом общего благополучия.
Не помню я Валю в борьбе рваческой или блатной.
Не помню его ловчилой или человеком, устраивающим свои делишки.
Безропотной дисциплинированности, всегда готовым исполнять предложенное, беззаветно отдающимся тому, что ему поручено, — вот каким он останется в памяти всех тех, кто знал этого милого, обаятельного, талантливого человека.
К таким людям, не умеющим кричать о себе; к таким людям предельной скромности и аскетической нетребовательности мы должны были бы относиться с удвоенной любовью и вниманием.
А между тем мы дали погибнуть одному из самых лучших наших товарищей.
Пусть же его смерть послужит окриком, чтобы мы вовремя опомнились, чтобы мы начали думать и заботиться о наших людях.
Чтобы мы наладили бытовую и медицинскую помощь,
чтобы мы не забывали, что самое драгоценное на свете — человек…
Валя — не один. Многие болеют.
Многие страдают.
Многим нужна помощь.
Многим нужно внимание и участие.
И сейчас, как никогда, священным долгом нашим должна быть забота о человеке.
Забота о людях, которых война поставила на дальнейшее продвижение и сохранение кинокультуры.
453 Вывести в сохранности и творческой мощи наши кадры кинематографистов из годов мировой бойни — такая же наша почетная и героическая задача, как задача полководца вывести из окружения свои полки.
Коллективная ответственность за сохранность каждого, кого воспитало советское кино, за сохранность каждой единицы нашего коллектива — это единственное, чем можем мы искупить гибель нашего товарища и друга — Вали Кадочникова…
454 ОБ ИВАНЕ ПЫРЬЕВЕ*
Он мне не сват и не брат. Даже, пожалуй, не то, что называется приятель, хотя и давнишний знакомый. Для меня он прежде всего явление — четырежды лауреат [Государственной] премии Иван Пырьев.
Двадцать пять лет тому назад я работал на великих традициями прошлого подмостках театра в Каретном ряду1, тогда носивших имя «Центральной арены Пролеткульта». Туда пришли держать экзамен в труппу два парня-фронтовика.
Два однокашника.
Два друга. Оба из Свердловска.
Один кудлатый с челкой. Другой посуше, поджарый и стриженый.
Оба с фронта. Оба в шинелях. Оба с рюкзаками за спиной.
Оба прочли мне и покойному В. Смышляеву2 какие-то стихи.
Что-то сымпровизировали. И с восторгом были приняты в труппу.
Один был голубоглаз, обходителен и мягок.
В дальнейшем безупречно балансировал на проволоке3.
Другой был груб и непримирим. Склонен к громовому скандированию строк Маяковского и к кулачному бою больше, чем к боксу, к прискорбию для него закованному в строго очерченные приемы и этические правила…
Сейчас оба они орденоносцы и лауреаты.
Один — Григорий Александров.
Другой — Иван Пырьев.
Оба играли в самых ранних моих постановках.
С первым мы проработали многие годы.
455 С другим расстались года через три.
В первой моей театральной постановке (совместно со Смышляевым), в «Мексиканце» по Джеку Лондону (весна 1921 года), спектакль кончался боксом на ринге. В спектакль был введен Иван Александрович Пырьев: его сухопарая фигура и злой, со вспышками темперамент вполне подходили к роли юного победителя, мексиканского революционера Риверы.
До ухода из Пролеткульта Пырьев заснялся в моей первой киноработе4 — маленьком комическом фильме, вставленном в постановку «На всякого мудреца довольно простоты» (1923).
Затем на некоторые годы я теряю его из виду.
И только хлесткая звонкость ударов доносит до меня издали, что Пырьев где-то и с кем-то сражается.
Но удары меняют свою звучность: это уже те удары, которыми выбиваются на дорогу.
И вскоре они становятся уже такими ударами, которыми экран бьет по темам, волнующим страну и народ.
Снобы и эстеты могут фыркать по поводу не всегда изысканных работ Пырьева. Но отрицать за ними качество попадания в цель и в точку, оспаривать их тематическую ударность, темпераментность и искреннюю вдохновенность даже им бывает трудно.
И факт налицо: Иван Пырьев четырежды лауреат [Государственной] премии.
Есть картины эффектнее, чем фильмы И. Пырьева «Трактористы» и «Богатая невеста», а в некоторых фильмах, возможно, больше вкуса и мастерства.
Но какие еще картины так широко песней и кадрами разнесли по стране и популяризировали идею экономического преимущества колхозного строя — базы будущих военных побед, одержанных на наших глазах?
Будем придирчивы, — немало кадров «Свинарки и пастуха» смахивают на лакированные табакерки и рисунки Соломко5;
но какая другая картина так же бодро, весело и жизнерадостно пропела о неразрывно слиянной дружбе народов нашей страны, как этот фильм?
Пусть местами небрежен почерк фильма «Секретарь райкома», несущего на себе все грехи и скидки на условия производства во время войны.
Но какой другой фильм в самой гуще войны, с огромным темпераментом, яркостью и взволнованной гневностью прокатил по экранам страны тезис о военной борьбе партийного руководителя?
Разве важно, что местами наивны студийные фейерверки рядом с куполом лучей цветных прожекторов, сиявших над Москвой в незабываемый вечер окончания войны? Важно, что фильм «В шесть часов вечера после войны» был первым фильмом, бросавшим на полотно экрана заветные думы, мечты и чаяния советских людей о 456 выходе из котла войны, о послевоенной радости и мирной жизни.
Народность четырежды лауреата [Государственной] премии Ивана Пырьева несомненна.
Из народа. И для народа.
И народ ему благодарен.
Много разных людей порождает народ.
Из себя.
И для себя.
И гениального Ленина.
И пламенного сокола — Горького.
И огненного трибуна — Маяковского.
И тот же народ родит тысячи колхозных невест, сотни тысяч трактористов, свинарок и пастухов. Родит секретарей райкомов и красноармейцев.
Родит и Ивана Пырьева — автора фильмов, в которых все они живут вдохновенной жизнью.
Сам автор рисуется потомком истинно русских предков, восходящих к одной из типичнейших фигур русского эпоса прошлого.
Есть что-то от породы Васьки Буслаева в слегка поджарой, худощавой его фигуре. Для кулачного бойца ему не хватает только чрезмерности мышц для соответствия с чрезмерностью его производственной ярости, убежденно ставшей под лозунг ударить во что бы то ни стало крепко.
И главное — своевременно.
Таков путь, такова тематика, таков метод Пырьева.
Таким ударом — первым, точным, звонким, целенаправленным и своевременным — был фильм Пырьева «Партийный билет». Фильм этот войдет в хрестоматию киноискусства ударностью темы.
Дело наше боевое.
Много предстоит битв впереди.
И бить надо крепко, точно и своевременно. Не беда, если удар не всегда изящен. Бывают случаи, когда важнее бить ударом сильным, чем элегантным.
От этой тематической ударности Пырьев никогда не отходит ни на шаг.
И широкое спасибо ему за это от народа.
Ибо народ знает, любит и ценит выходцев из недр своих.
457 ПРКФВ*
«В двенадцать часов дня вы будете иметь музыку».
Мы выходим из маленького просмотрового зала. И хотя сейчас двенадцать часов ночи, я совершенно спокоен. Ровно в одиннадцать часов пятьдесят пять минут в ворота киностудии въедет маленькая темно-синяя машина.
Из нее выйдет Сергей Прокофьев.
В руках у него будет очередной музыкальный номер к «Александру Невскому».
Новый кусок фильма мы смотрим ночью.
Утром будет готов к нему новый кусок музыки.
* * *
Прокофьев работает как часы.
Часы эти не спешат и не запаздывают.
Они, как снайпер, бьют в самую сердцевину точного времени, Прокофьевская точность во времени — не деловой педантизм. Точность во времени — это производная от точности в творчестве.
В абсолютной точности переложения образа в математически точные средства выразительности, которые Прокофьев держит в стальной узде.
Это точность лаконического стиля Стендаля, перешедшая в музыку.
По кристаллической чистоте образного языка Прокофьева только Стендаль равен ему.
«Меня поймут через сто лет», — писал непонимаемый современниками Стендаль, хотя нам сейчас трудно поверить, что была эпоха, не понимавшая прозрачности стендалевского стиля.
458 Прокофьев счастливее.
Его произведениям не надо ждать сто лет.
Прокофьев твердо вошел и у нас и на Западе на путь самого широкого признания.
Этот процесс ускорил его соприкосновение со стихией кино. Не потому, что оно популяризировало его творчество темой, тиражом или широкой общедоступностью киноэкрана.
Но потому, что стихия Прокофьева состоит в том, чтобы воплощать не столько явление как таковое, но нечто подобное тому, что претерпевает событие, преломляясь сквозь камеру киноаппарата.
Сперва через линзу объектива, с тем чтобы в виде киноизображения, пронзенного ослепительным лучом проекции,
жить новой своеобразной магической жизнью на белой поверхности экрана.
* * *
Меня всегда интересовала «тайна» становления музыкального образа, возникновения мелодий77* и рождения пленительной стройности, закономерности, которая возникает из хаоса временных длительностей и не связанных друг с другом звучаний, которыми полна окружающая композитора звуковая стихия действительности.
В этом отношении я вполне разделяю любопытство с шофером моим Григорием Журкиным.
Сей образцовый водитель машины по самому долгу своей службы естественно неизменно являлся «живым свидетелем» и съемок, и монтажа, и «прогона» кусков по экрану, и актерских репетиций.
— Все, — говорит он, — понимаю из того, как делаются картины. Все теперь знаю. Одного не пойму — как Сергей Сергеевич музыку пишет!
Меня этот вопрос тоже мучил долго, пока со временем не удалось кое-что «подсмотреть» из этого процесса.
Оставляя пока в стороне более широкие проблемы из этого процесса, остановимся на том, как у С. С. Прокофьева отчеканивается четкость композиционной закономерности из набора кажущейся безотносительности того, что предложено его вниманию.
Самое интересное в этом то, что подглядел я это у него даже не на музыкальной работе, а на том, как он… запоминает номера телефонов.
459 Это наблюдение так поразило меня, что я тут же записал его под типично детективным заголовком: «Телефон-изобличитель».
Записано оно в новогоднюю ночь 31 декабря 1944 года, между десятью и одиннадцатью часами, прежде чем уехать в Дом кино, и называется…
ТЕЛЕФОН-ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ
Через несколько часов — Новый год: 1945-й.
Звоню по телефону, чтобы поздравить С. С. Прокофьева.
Не заглядывая в книжечку, набираю телефон:
К 5-10-20, добавочный 35.
Память у меня неплохая.
Но, вероятно, именно потому, что я упорно стараюсь не засорять ее запоминанием телефонов.
Я нарочно вычеркиваю их из памяти и заношу в серенькую книжечку микроскопического размера.
Как же случилось, что я с такой легкостью, по памяти, набрал телефон новой квартиры С[ергея] С[ергеевича], куда он переехал вовсе недавно?
Цифры:
К 5-10-20, добавочный 35.
Почему вы засели в памяти?
… Рядом со мной в будке перезаписи сидит С[ергей] С[ергеевич].
Он только что сообщил мне, что наконец переехал из гостиницы на квартиру.
На Можайском шоссе.
Что там работает газ.
Есть телефон.
Надрываясь, оркестр добивается чеканной чистоты номера музыки, известной под рабочим названием «Иван умоляет бояр».
По экрану на коленях двигается Черкасов в образе Грозного, умоляющего бояр присягать законному наследнику — Дмитрию, дабы новыми распрями не подвергать Русь опасности новых вторжений и предотвратить распад единого государства на враждующие феодальные княжества.
Впрочем, если вы видели фильм, то, вероятно, помните этот эпизод, хотя бы по особенно отчетливому совпадению действия и музыки, решенной в основном на контрабасах.
О том, по каким закономерностям достигается само совпадение звука и изображения, я писал пространно и обстоятельно.
Разгадку этого дала мне работа с Прокофьевым по «Александру Невскому».
На «Иване Грозном» меня интересует не результат, а процесс, путем которого достигаются подобные совпадения.
Я с настойчивым любопытством стараюсь разгадать, как ухитряется С[ергей] С[ергеевич] с двух-трех пробегов фильма схватить 460 эмоциональность, ритм и строй сцены, с тем чтобы назавтра запечатлеть музыкальный эквивалент изображения в музыкальную партитуру.
В этой сцене, которая сейчас проходит в десятый раз по экрану для репетирующего оркестра, эффект был особенно поразителен.
Музыка писалась к начисто смонтированному эпизоду.
Композитору был дан только «секундаж» сцены в целом.
И тем не менее внутри этих шестидесяти метров не понадобилось ни единой «подтяжки» или «подрезки» монтажных кусков изображения, ибо все необходимые акцентные сочетания изображения и музыки «сами собой» легли абсолютно безупречно.
Мало того — они легли не грубо метрическим совпадением акцентов, но тем сложным ходом сплетения акцентов действия и музыки, где совпадение есть лишь редкое и исключительное явление, строго обусловленное монтажом и фразой развертывания действия.
Вновь и вновь задумываюсь я над этой поразительной чертой С. С. Прокофьева.
Однако оркестр наконец одолел партитуру. Дирижер Стасевич1 начинает вести его для записи.
Звукооператор Вольский в наушниках.
Аппарат записи пошел.
И мы как звери впиваемся в экран, следя за ходом осуществления звукозрительной «вязи» изображения и оркестра, предтеча которого — рояль — так монолитно сливал оба ряда.
Раз проиграли.
Два.
Три.
Четыре.
Пятый дубль безупречен.
Стремительный композитор уже обмотан клетчатым кашне.
Уже в пальто и в шляпе.
Поспешно жмет мне руку.
И, убегая, бросает мне номер телефона.
Номер телефона новой квартиры:
К 5-10-20, добавочный 35!
И… с головой выдает свой метод.
Искомую тайну.
Ибо телефонный номер он произносит:
— К 5! 10!! 20!!! доб. 30!!!! 5.
Я позволил себе такое начертание в манере раннего Хлебникова2, чтобы точно записать ход интонационного усиления, которым С[ергей] С[ергеевич] выкрикивал номер телефона…
«Ну и? — спросите вы. — Где же здесь ключ к таинству создания Прокофьевым музыки?»
461 Договоримся!
Я (дока) ищу не ключ к созданию музыки и к неисчерпаемому богатству образов и звукосочетаний, которые С[ергей] С[ергеевич] носит в голове и сердце (да-да, у этого самого мудрого из современных композиторов — горячее сердце). Пока что я ищу ключ лишь к поразительному феномену создания музыкального эквивалента к любому куску зрительного явления, брошенного на экран.
Мнемоника бывает самая разнообразная.
Очень часто просто ассоциативная.
Иногда — композитная (ряд слов, которые надо вспомнить, связываются друг с другом во взаимное действие и сюжет и таким образом входят в память конкретной картиной).
Мнемоническая манера человека во многом — ключ к особой направленности ходов его умственной деятельности.
У С[ергея] С[ергеевича] мнемонический прием поразительно близок тому, что смутно угадывается в манере его восприятия изображения, столь безошибочно перелагающегося в звукоряд.
Действительно: что делает Прокофьев?
Случайное чередование цифр — 5, 10, 20, 30 — он мгновенно прочитывает закономерностью.
Этот ряд цифр есть действительно та же последовательность, которую все мы знаем походкой формуле для условного обозначения нарастания количества:
«5-10-20-30…»
Такого же типа, как «сто — двести — триста».
Но мало этого — закономерность эта фиксируется Прокофьевым в памяти отнюдь не умозрительно, а еще с той самой эмоциональной предпосылкой, которая затем зачерчивается данной формулой. Это не просто нарастание громкости, отвечающей увеличению количества, и не просто автоматически запечатленный в памяти ритм самой фразы, обозначающей номер. Таков, кстати сказать, мнемонический способ запоминать телефоны у многих оркестрантов. Впрочем, я знал одного среди них, который запоминал мелодии… завязывая под них узелок!
Отличие композитора от оркестранта в том, вероятно, и состоит, что Прокофьев произносит этот ряд с нарастающим восторгом живой интонации, как 5! — 10!! — 20!!! — 30!!!! — выигранных тысяч или подстреленных вальдшнепов.
Интонация восторга вовсе не обязательна.
Она могла бы быть и интонацией испуга.
Характеристика эмоциональной «подстановки» под обнаруженную закономерность — дело автора и на таком примере, допускающем любую интерпретацию, может диктоваться любым привходящим мотивом.
«Радостная» интерпретация данного звукоряда у Прокофьева, вероятно, определилась… несказанной радостью — наконец, после 462 скитания по отелям, обрести собственную тихую обитель на Можайском шоссе…
Забудем Можайку и телефон.
И запомним основное из творческой мнемоники Прокофьева.
Нагромождение «как бы» случайного он умеет прочесть как отвечающее определенной закономерности.
Найденную закономерность он эмоционально интерпретирует.
Такое чувственное освоение формулы незабываемо.
Выкинуть из памяти его нельзя.
Номера телефонов запоминаются интонацией.
Но интонация — основа мелодии.
И из пробегающего перед глазами Прокофьева монтажного ряда кусков он тем же методом вычитывает интонацию.
Ибо интонация, то есть мелодия речевого «напева», лежит и в основе музыки!..
На этом новелла, по существу, заканчивается, и остается только добавить, что для такого писания музыки требуется, чтобы по этому же принципу была бы построена и «музыка глазная», то есть чтобы по тому же принципу было скомпоновано изображение.
И тут-то оказывает свою большую пользу опыт построения и монтажа немого фильма, который требовал, чтобы музыкальный ход был вписан в сочетание кадров наравне и неразрывно с повествовательным изложением событий.
И, собственно, только сейчас — в эпоху звукового кинематографа — видишь, насколько строгость подобного письма въелась в плоть и кровь за период монтажа немого.
Необходимая в музыке повторяемость выразительной группы сочетаний оказывается совершенно так же последовательно проходящей в ритмических и монтажных группах изображения.
И мы видим на неоднократных примерах, как законченный элемент музыки — «кусок фонограммы», написанный «под» определенный фрагмент сцены, — совершенно точно ложится и по другим ее фрагментам.
И что примечательно: не только «в общем и целом» соответствуя крупным сечениям и «общему настроению», но с совершенно такой же точностью совпадения звукозрительных «пазов» кусков изображения и музыки, как и в том пассаже сцены, по которому музыка исходно написана.
В другом месте для малых элементов членения я это показал на «Сцене рассвета» в «Александре Невском»3, и там же я подробно прослеживал, как по разнообразным областям пластических возможностей неизменно повторялась одна и та же композиционная схема.
В развернутом ходе это можно наблюдать в «Иване Грозном» в уже упомянутой сцене, когда Иван умоляет бояр присягать 463 Дмитрию. В этом случае фонограмма, написанная для первой половины сцены — до выхода Курбского, — легла с такой же непреклонной закономерностью и на всю вторую половину эпизода.
И не только по «общей длине», но и по всем совпадениям и предумышленным несовпадениям акцентов движения и акцентов музыки.
* * *
Мы с С. С. Прокофьевым всегда долго торгуемся, — «кто первый»: писать ли музыку по несмонтированным кускам изображения, с тем чтобы, исходя из нее, строить монтаж, или, законченно смонтировав сцену, под нее писать музыку.
И это потому, что на долю первого выпадает основная творческая трудность: сочинить ритмический ход сцены!
Второму — «уже легко».
На его долю «остается» возвести адекватное здание из средств, возможностей и элементов своей области.
Конечно, «легкость» и здесь весьма относительная, и я только сравниваю с трудностями первого этапа. Внутреннюю механику этого процесса знаю довольно хорошо по себе.
Это весьма лихорадочный, хотя и дико увлекательный процесс.
И для него прежде всего нужно очень отчетливо «видеть» перед собой в памяти весь пластический материал, которым располагаешь.
Затем нужно без конца «гонять» записанную фонограмму, терпеливо дожидаясь того момента, когда какие-то элементы из одного ряда внезапно начнут «соответствовать» каким-то элементам из другого ряда.
Фактура предмета или пейзажа и тембр какого-то музыкального пассажа; потенциальная ритмическая возможность, в которой можно сопоставить ряд крупных планов в соответствии с ритмическим рисунком другого музыкального пассажа; рационально невыразимая «внутренняя созвучность» какого-то куска музыки какому-то куску изображения и т. д.
Трудность, конечно, в том, что изобразительные куски пока что «в хаосе». И «дух сочетания», который витает над этим «первичным изобразительным хаосом», вынужден, подхлестываемый закономерностью течения музыки, все время прыгать из конца в начало, от куска к куску, чтобы разгадывать, какое сопоставление куска с куском будет соответствовать той или иной музыкальной фразе.
Не следует при этом забывать, что в основе каждого изобразительного куска лежат еще и свои закономерности, вне учета которых они не поддаются и чисто пластическому сочетанию между собой!
Строго говоря, здесь нет принципиальной разницы против того, что мы делаем сейчас в период звукозрительного монтажа.
464 Разница лишь в том, что тогда мы «подбирали» куски не под несравненную музыку С. С. Прокофьева, но под «партитуру» того, что внутренне «пело» в нас самих.
Ибо никакой монтаж не может построиться, если нет внутреннего «напева», по которому он слагается!
Напев этот бывает так силен, что иногда определяет собой весь ритм поведения в те дни, когда монтируешь сцены определенного звучания.
Я, например, совершенно отчетливо помню «поникший» ритм, в котором я проводил все бытовые операции в те дни, когда монтировались «туманы» и «траур» по Вакулинчуку — в отличие от дней, когда монтировалась «Одесская лестница»: тогда все летело кубарем в руках; походка была чеканной; обращение с домашними — суровым; разговор — резким и отрывистым.
Как этот процесс происходит «в душе» композитора, я во всех подробностях рассказать не сумею. Но кое-что в работе С. С. Прокофьева я подсмотрел.
* * *
Меня всегда поражало, как с двух (максимум с трех) беглых прогонов смонтированного материала (и данных о времени в секундах) Прокофьев так великолепно и безошибочно — уже на следующий день! — присылал музыку, во всех членениях и акцентах своих совершенно сплетавшуюся не только с общим ритмом действия эпизода, но и со всеми тонкостями и нюансами монтажного хода.
И при этом отнюдь не в «совпадении акцентов» — этом примитивнейшем способе установления «соответствий» между картинками и музыкой.
Поражал всегда замечательный контрапунктический ход музыки, органически сраставшейся воедино с изображением.
Об удивительной синэстетической синхронности природы самих звучаний с образом того, что изображено на экране, я здесь говорить не буду — это другая, самостоятельная тема и касается другой удивительно развитой у Прокофьева способности — в звуках «слышать» пластическое изображение, то есть та черта, которая дает ему возможность возводить поразительные звуковые эквиваленты к тем изображениям, которые попадаются в его поле зрения.
Наличие этой черты — хотя бы и не в таких масштабах, как у С. С. Прокофьева, — совершенно так же необходимо всякому композитору, берущемуся писать для экрана, как и всякому режиссеру, посягающему на то, чтобы работать в звуковом, а тем более хромофонном кинематографе (то есть кинематографе одновременно и музыкальном и цветовом).
Однако ограничим себя здесь рассмотрением того, каким путем Прокофьев устанавливает структурный и ритмический эквивалент 465 к смонтированному фрагменту фильма, который предлагается его вниманию.
Зал темен. Но не настолько, чтобы в отсветах экрана не уловить его рук на ручках кресла — этих громадных, сильных прокофьевских рук, стальными пальцами охватывающих клавиши, когда со всем стихийным бешенством своего темперамента он обрушивает их на стонущую под их исступлением клавиатуру…
По экрану бежит картина.
А по ручке кресла, нервно вздрагивая, словно приемник телеграфа Морзе, движутся беспощадно четкие, длинные пальцы Прокофьева.
Прокофьев «отбивает такт»?
Нет. Он «отбивает» гораздо большее.
Он в отстуке пальцев улавливает закон строения, по которому на экране в монтаже скрещены между собой длительности и темпы отдельных кусков, и то и другое вместе взятое сплетено с поступками и интонацией действующих лиц.
Я заключаю об этом по радостному его возгласу:
— Как здорово! —
по поводу куска, где в самой съемке хитроумно сплетен контрапункт из трех несовпадающих по ритму, темпу и направлению движений: протагониста, группового фона и столбов, первым планом пересекающих поле экрана движущейся мимо них камеры.
Назавтра он пришлет мне музыку, которая таким же лукавым контрапунктом будет пронизывать мою монтажную структуру, закон строения которой он уносит в той ритмической фактуре, которую отстукивали его пальцы.
Мне кажется, что кроме этого он еще не то шепчет, не то мурлычет про себя.
А может быть, это только такая концентрированность внимания.
Не дай бог заговорить с ним в это время!
Ответом будет или невнятное полумычание (если ваш вопрос не врезался в то, что он сам в себе выслушивает), или самое чудовищное «огрызание», если не брань (ежели вам удалось быть услышанным!).
Что в это время слышит и выслушивает Прокофьев?
Ответ здесь может быть более предположительным, чем в первом случае. И если здесь труднее уловить «наглядное» ему подтверждение, то тем не менее он мне кажется не менее убедительным.
В этом явственном или неявственном бормотании, по-моему, слагается мелодический эквивалент пробегающей по экрану сцены.
Из чего он слагается?
Я думаю, что помимо самой драмы и ситуации, которые, конечно, являются решающим впечатляющим фактором, определяющим собой главное — эмоционально-образное и смысловое ощущение 466 всего эпизода, — в данной частной мелодической области это будет интонационный ход актерского исполнения и тональное (а в цветовом кино — тонально-цветовое) разрешение и движение сцены.
Мне кажется, что именно здесь из тонального и тембрового разрешения изображения родится его мелодический и оркестровый эквивалент в музыке.
Недаром наиболее «музыкальными» образ[ц]ами монтажа периода немого кинематографа были пассажи, смонтированные прежде всего по признакам тонального порядка, преимущественно пейзажные, свободные даже от движения, как, например, «Сюита туманов» в «Потемкине»4.
Так или иначе, таково положение, когда наш композитор имеет дело с законченными, уже смонтированными фрагментами фильма.
Ему «остается» только расшифровать закон, по которому построен данный фрагмент, и включить его структурную формулу в свои музыкальные расчеты для достижения полноты звукозрительного контрапункта.
Не следует при этом забывать, что смонтированы у меня сцены обычно весьма структурно и композиционно строго и закономерности этих построений (хотя иногда и весьма сложные) могут прочитываться по ним достаточно четко и отчетливо.
Несколько иное положение имеет место, когда вниманию композитора предлагается материал в несмонтированном виде.
Тогда ему приходится вычитывать потенциально в нем заключенные возможности закономерной структуры.
Надо не забывать, что «строй» самих отдельных кусков, снятых для определенной сцены, отнюдь не случаен и что каждый кусок к определенной сцене, не только сюжетно-игровой, но и «симфонической» (пейзажно-лирической, батальной в тех ее частях, где не действуют протагонисты; или изображающей стихию: бурю, пожар, ураган и т. п.), отнюдь в себе не случаен.
Если это подлинно «монтажный» кусок, то есть кусок не безотносительный, но кусок, рассчитанный на то, чтобы в сочетании с другими прежде всего вызывать ощущение определенного образа, то уже в самый момент съемки он будет наполнен теми элементами, которые, характеризуя его внутреннее содержание, одновременно же будут содержать и черты той будущей конструкции, которая определит возможность наиболее полного выявления этого содержания в окончательно композиционной форме.
И если композитор встречается с хаотическим еще пока набором кусков подобной структурной потенциальности, то задача его сводится не к тому, чтобы обнажить для себя готовую наличную структуру целого, но расшифровать из отдельных элементов его те черты, из которых способна сложиться будущая структура, 467 и по ним предначертать ту самую композиционную форму, в которую органически уложатся отдельные куски78*.
А как поразительно «монтажен» Прокофьев в построении своих музыкальных образов!
Именно через монтаж в кинематографе получается ощущение «трехмерности».
Как пластически плоско ощущение человека, предмета, обстановки, пейзажа, снятых одним куском, с одной точки.
И как они сразу оживают округлостью, объемностью, пространственностью, как только начинаешь монтажно сопоставлять отдельные их облики, снятые с многих и разнообразных точек.
Как хочется повторить об отдельном кадре то, что в письме 1547 года, адресованном Бенедетто Варки, писал Бенвенуто Челлини5 о живописи и скульптуре:
«… Я утверждаю, что скульптура в восемь раз большее искусство, чем всякое иное из искусств, связанных с рисунком, ибо статуя имеет восемь точек, с которых ее следует рассматривать, и с каждой из них она должна быть одинаково совершенна…
… Живописная картина не что иное, как вид статуи, представленный всего лишь с одной из восьми главных точек зрения, которых требует рассмотрение произведения скульптуры…
… Таких точек не только восемь, но их более сорока, ибо если, вращая статую, перемещать ее обороты хотя бы на дюйм, непременно окажется, что какой-либо мускул слишком выделяется или недостаточно заметен, так что каждое произведение скульптуры представляет собой неисчерпаемое многообразие обликов…
… Трудности в этом направлении так велики, что нет на свете ни одной статуи, равно совершенной по виду со всех сторон…»
И если подлинное восприятие полной скульптурности статуи требует восьми главных точек, с которых ее надлежит рассматривать, то совершенно так же естественно из сопоставления «восьми» отдельных частных ее обликов в представлении будет возникать ощущение ее трехмерности и объемности.
Это ощущение будет бесконечно возрастать, если эти запечатленные облики предметов окажутся отдельными кинокадрами, а в сопоставлении их будет учтена последовательность, смена размеров и длительность показа, то есть если они будут разумно и целенаправленно смонтированы.
468 В другом месте Бенвенуто Челлини говорит, что «разница между живописью и скульптурой так же велика, как между тенью и предметом, который эту тень бросает».
И это сравнение вполне пригодно для определения разницы между ощущением человеком предмета, представленного объемом или пространством, снятого комплексно, монтажно-многоточечным путем, или в порядке съемки общим планом с одной точки79*.
Как «плоска» и пластически «не глубока» сцена, снятая с одной точки зрения, так же пошла и выразительно убога так называемая «изобразительная» музыка, когда и она строится с «одной точки зрения» — в порядке воспроизведения какого-то одного признака, одного «вида» того, что «изобразительно» присутствует в музыке.
И какой поразительно «рельефный» музыкальный образ океана, пожара, бури, дремучего леса, нагромождения гор и т. д. возникает в наших чувствах тогда, когда и здесь приложен тот же принцип единства через многообразие, на котором монтажно строится не только пластическая рельефность, но и комплексный монтажный образ.
В этом случае между отдельными «партиями», между отдельными участниками «голосоведения», между ходом отдельных инструментов или групп их также разверстаны отдельные изобразительные аспекты, а из гармонического или контрапунктического сочетания этих отдельных изобразительных аспектов родится всеобъемлющий, общий и единый образ целого.
И образ этот не плоский отпечаток, не «звуковой силуэт», подсмотренный с какой-то отдельной частной точки зрения, но полное глубинное, всестороннее отражение явления, воссозданного во всем своем многообразии, во всей своей полноте.
… Мы с Прокофьевым ходим по оркестру.
Идет оркестровая репетиция одной из самых прекрасных его песен для «Ивана Грозного» — песни «Океан-море, море синее»6, воплощающей мечты царя Ивана о выходе к морю.
Долговязая фигура Прокофьева, по пояс скрытая плавными движениями смычков оркестрантов, кажется движущейся сквозь колышущийся ковыль.
Он наклоняется к отдельным из них и вслушивается в правильность ходов отдельных партий.
Попутно он мне шепчет, указывая то на одного из оркестрантов, то на другого, и я узнаю, что «вот этот играет струящийся по волнам свет… вот этот — перекаты волн… вот этот — простор… а этот — таинственную глубину…».
469 Каждый инструмент, каждая группа их берет в движении тот или иной отдельный аспект стихии океана, и все вместе воссоздают, а не копируют, вызывают к жизни, а не списывают с нее — и коллективно творят поразительный образ океана, необъятно разливающегося вширь и, словно конь копытами, бьющего прибоями, перекатывающегося валами бурь или безмятежно голубого, [с] невозмутимостью дремлющего в солнечных бликах, таким, каким он рисуется в мечте собирателю русской земли.
Ибо голубизна его вод — это не только цвет неба, отразившегося в его просторах, но прежде всего мечта.
А дремлющие водные глубины не только скованные до времени силы природы, откуда в бурю вздымаются водяные массивы, но говорящая через них глубина чувств, также мощно подымающихся из недр народной души к чудесам подвигов на путях свершения этой мечты.
И перед нами не олеографическая плоская «марина», не только стихийный и динамический образ подлинного океана, но образ гораздо более величественный, лиричный в своей детской мечте и угрожающий в гневе своем — образ человека и ведомого им государства к необходимым им водным рубежам80*.
* * *
Прокофьев экранен в том особенном смысле, который дает экрану раскрывать не только видимость и сущность явлений, но еще и особый их внутренний строй.
Логику их бытия. Динамику их становления.
Мы видели, как десятилетиями «левые» искания живописи ценой неимоверных усилий старались разрешить те трудности, которые экран решает с легкостью ребенка: динамику движения, светопись, переход форм друг от друга, ритм, пластический поворот и т. п.
Не достигая этого в совершенстве, живописцы тем не менее расплачивались за это ценой изобразительности и предметности изображаемого.
И из всех пластических искусств одно лишь кино, не утрачивая изобразительной предметности, с легкостью разрешает все эти проблемы живописи, и вместе с тем оно одно способно передать еще большее: только оно одно способно так глубоко и полно воссоздать внутренний ход явлений, как мы это видим на экране.
470 Ракурс съемки раскрывает сокровенное в природе.
Сопоставление разнообразных точек съемок раскрывает точку зрения художника на явление.
Монтажный строй объединяет объективное бытие явления с субъективным отношением творца произведения.
Ничто не пропадает от суровой строгости, которую ставила перед собой левая живопись. И вместе с тем все живет, полное предметной жизненности.
И в этом особенном смысле музыка Прокофьева удивительно пластична, нигде не становится иллюстрацией, но всюду, сверкая торжествующей образностью, она поразительно раскрывает внутренний ход явления, его динамическую структуру, в которых воплощается эмоция и смысл события.
Марш ли это из сказочных «Трех апельсинов», поединок ли Меркуцио и Тибальда, скок ли рыцарских коней в «Александре Невском» или выход Кутузова в финале «Войны и мира»…7.
В самой природе явлений Прокофьев умеет ухватить ту структурную тайну, которая эмоционально выражает прежде всего именно широкий смысл явления.
Раз ухватив структурную тайну явления, он облекает ее звуковыми ракурсами инструментовки, заставляет ее сверкать тембровыми сдвигами и вынуждает непреклонную суровость структуры расцветать эмоциональной полнотой оркестровки.
Так возникший подвижный график очертаний своих музыкальных образов он бросает в наше сознание, подобно тому как ослепительный луч проекции чертит подвижные изображения по белому полю экрана. Это не запечатленный отпечаток явления в живописи, но световая пронзенность явлений средствами звуковой светописи.
Я говорю не о музыкальной технике Прокофьева. Я вычитываю стальной скок дроби согласных, выстукивающих ясность мысли там, где у многих других смутные переливы нюансов стихии гласных.
Если Прокофьев писал бы статьи, он посвящал бы их разумным опорам речи — согласным.
Подобно тому как оперы он пишет, опираясь не на мелодичность стиха, а на костлявую угловатость неритмизованной прозы.
Он писал бы стансы согласными…
… Что это перед нами?
Под хитроумными клаузулами контрактов, в любезных подписях на фотографиях друзьям и поклонникам,
в правом верхнем углу нотных листов новой вещи — перед нами одна и та же — жесткая дробь чечетки согласных букв:
— П-Р-К-Ф-В.
Это привычная подпись композитора!
471 Даже имя свое он ставит одними согласными.
Когда-то Бах в самом начертании букв своего имени усматривал божественное мелодическое предначертание; оно стало мелодической основой одного из его произведений.
Согласные, в которых запечатлелось имя Прокофьева, кажутся символом неуклонной последовательности его таланта.
Из творчества композитора, как из подписи, откуда исчезли гласные, изгнано все зыбкое, преходящее, случайно-капризное, лабильное.
Так писалось на древних иконах, где
«господь» — писался «Гдь», «царь» — «Црь» и «ржство Бцы» стояло за «рождество богородицы».
Строгий дух канона отражался в изъятии случайного, преходящего, земного.
В учении он опирался на вечное сквозь преходящее.
В живописи — на существенное взамен мимолетного.
В подписях через согласные, казавшиеся символом вечного наперекор случайному.
Такова же аскетическая дробь пяти согласных — П, Р, К, Ф, В — сквозь ослепительную белизну музыкальной светописи Прокофьева.
Так тусклым золотом горят буквы на фресках Спаса-Нередицы.
Или звучат строгим игуменским окриком через лиризм потоков сепии и небесной лазури кобальта в росписях Феофана Грека в церкви Федора Стратилата в Новгороде. Ибо наравне с непреклонной строгостью письма столь же великолепен лиризм Прокофьева, которым расцветает в чуде прокофьевской оркестровки неумолимый жезл Аарона его структурной логики.
Прокофьев глубоко национален.
Но национален он не квасом и щами условно русского псевдореализма.
Национален он и не «водой и духом» детали быта и кисти Перова или Репина.
Прокофьев национален строгостью традиций, восходящих к первобытному скифу и неповторимой чеканности резного камня XIII века на соборах Владимира и Суздаля.
Национален восхождением к истокам формирования национального самосознания русского народа, отложившегося в великой народной мудрости фрески или иконописного мастерства Рублева.
Вот почему так прекрасно звучит в Прокофьеве древность — не через архаизм или стилизацию, но сквозь самые крайние и рискованные изломы ультрасовременного музыкального письма.
Тут внутри самого Прокофьева такой же парадокс совпадения, какой мы видим, сталкивая икону с полотнами кубистов или живопись Пикассо с фресками Спаса-Нередицы.
472 И через «гегелевскую» оригинальность — первичность — глубоко национальный Прокофьев интернационален.
Но не только этим интернационален Прокофьев.
Он интернационален еще и протеевской видоизменяемостью своей образной речи.
Здесь канон его музыкального мышления снова подобен канону древности, канону византийской традиции, способной в любом окружении сверкать по-своему и вместе с тем по-новому.
На итальянской почве он загорается мадоннами Чимабуэ8.
На испанской — творениями Доменико Теотокопули, именуемого Эль Греко9.
В бывшей Новгородской губернии — настенными росписями неизвестных мастеров, ныне варварски растоптанными тупыми ордами захватчиков — тевтонов…
Так и творчество Прокофьева способно возгораться темами не только национальными, историческими, народно-патриотическими: отечественными войнами XIX, XVI или XIII века (периода «Войны и мира», «Ивана Грозного» и «Александра Невского»).
Так терпкий талант Прокофьева, попав в страстное окружение шекспировской Италии Возрождения, вспыхивает балетом лиричнейшей из трагедий великого драматурга.
В магическом окружении фантасмагорий Гоцци10 — он родит поразительный каскад фантастической квинтэссенции Италии конца XVIII века.
В обстановке зверств фашистов XIII века — незабываемым образом железной тупорылой свиньи из рыцарей Тевтонского ордена, скачущей с неумолимостью танковой колонны их омерзительных потомков.
И везде — искание: строгое, методическое. Роднящее Прокофьева с мастерами раннего Возрождения, где живописец одновременно и философ, а скульптор — неразрывно — математик.
Везде свобода от импрессионистического «вообще» и приблизительности мазка или размазанного цветового «пятна».
Не произвол кисти, но ответственность объектива чудится в его руках.
Место его не среди декораций, иллюзорных пейзажей и «головокружительной покатости сцены», но прежде всего в среде микрофонов, вспышек фотоэлементов, целлулоидной спирали пленки, безошибочной точности хода зубчаток киносъемочной камеры, миллиметровой точности, синхронности и математической выверенности длин и метража фильма…
* * *
… Погас ослепительный луч кинопроектора.
Зал вспыхивает ровным светом с потолка.
Прокофьев кутается в шарф.
473 Я могу спать спокойно.
Ровно в одиннадцать часов пятьдесят пять минут завтра утром в ворота киностудии въедет его маленькая синяя автомашина. Через пять минут у меня на столе будет лежать партитура.
В ней символические буквы:
ПРКФВ.
Ничего мимолетного.
Ничего случайного.
Все отчетливо, точно, совершенно.
Вот почему Прокофьев не только один из великолепных композиторов современности, но, на мой взгляд, еще и самый прекрасный кинокомпозитор.
474 НЕПОВТОРИМОСТЬ ГАЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ УЛАНОВОЙ*
О способности жестом прочерчивать мелодию.
(Способность «обегать рисунок мелодии» — эта способность раздваивается в полюсы: мизансцен — максимальная экспансия этого обегания и жест — максимальная свернутость, в смысле перемещения. Танцевальное движение — на пересечении обоих.)
Где искать материал для изучения и обучения?
Казалось бы, там, где музыка наиболее непосредственно переливается в движение, — в балете.
В балете сверкает Уланова.
Уланова — диво.
Уланова — чудо.
Уланова — несличима и несравнима с другими танцовщиками.
По признаку самого сокровенного.
По природе тайны.
По магии слияния измерений:
стихии движения звуков в мелодии
со стихией движения тела в танце.
В соизмеримом совпадении этого — чудо.
Магия.
Ибо воссоздание первичного синкретизма1, первичной недифференцированной синэстетики — атрибут магического периода мышления.
Пралогического2.
Логически предположить, что Уланова лишь prima inter pares81*.
Лишь наиболее совершенная из себе подобных.
475 Носительница этого признака лишь в большей дозе совершенства.
— Не так.
Количество этой способности ставит ее по другую сторону водораздела качества.
Она принадлежит другому измерению.
Замечаю это на «Ромео».
Лавровский3 прелестно поставил подход Ромео и Джульетты, этих двух чистых сердец, под венчающее их благословение.
Короткие мерные шаги, распластывающиеся в конце в парный арабеск4.
По лазурной прозрачности рисунка и мысли достойно Боттичелли5.
Правда, в версии театра им. Кирова6 на фоне триптиха арок профилем двигались под благословение Ромео и Джульетта.
Здесь — по диагонали: от суфлерской будки к левому углу (считая от зрителя).
Профильная выразительность стыдливых шагов и распластанность арабеска пропали.
Но кристальный рисунок замысла тонет не только в этом.
Его топят еще бессмысленно пышные три арки такой высоты и размеров, что идея условного триптиха с фреской — вписанной в нее парой — уступает место «поддельному» бытовому помещению кельи, в которой действительно надо двигаться как в почтовом отделении или вокзальном буфете.
Но не в этом еще смертельный грех против музыкальности.
Наиболее тяжкий грех — в ногах партнера Улановой7.
Точнее — в движении их.
Еще точнее — в траектории их перемещения.
Носки ног Джульетты и Ромео одновременно отделяются от пола.
Прочерчивают дугу шага по воздуху.
Одновременно касаются пола.
Становятся опорой для нового шага — другой ногой.
Новый слиянный шаг обоих возлюбленных.
И так далее вплоть до финального арабеска82*.
476 Слиянный шаг!
Как прекрасно в нем воплощена мысль об эмоциональной слиянности двух этих молодых побегов семейств, разъединенных непримиримым раздором.
Но в исполнении — разве перед нами слиянность?
Посмотрим, что же происходит на сцене.
Вот — в музыке точка начала движения (шага).
И точно (по счету) нога рядом с ногой отделяются носки танцующих от пола.
Вот — в музыке точка окончания движения.
И с секундной точностью вновь опускаются к полу, прижавшись друг к другу, носки.
Казалось бы, все на месте.
Все точно.
Все в порядке.
Слиянно партнерами совершена одна из замкнутых фаз танца.
Вместе отделились от пола носки.
Вместе вернулись.
Вместе совершили аристотелевское условие единства художественной в себе цельности, имеющей начало — середину — конец.
Когда-то казалось странным, что Аристотелю понадобилось кроме начала и конца еще упомянуть… середину.
И вдруг с ослепительной ясностью видишь, как прав был Аристотель.
Как важна середина!
Действительно: конец и начало движения у исполнителей совпадают.
А середина — трагически врозь.
И не тем, что не совпадают по взлету контуры абриса дуг, которые прочерчивают по воздуху носки.
Мужчине, может быть, и положено вести носком ноги арку меньшего взлета.
(Хотя в идентичности — глубочайший смысл откровения через внешний образ мысли об единстве и слиянности, образ, в основных чертах очень тонко уловленный Лавровским.)
Хуже другое!
Если между точкой начала движения и точкой его конца — в пространственном росчерке ноги Галины Сергеевны раскрыто плавнейшее скольжение в тон движению мелодического рисунка музыки от точки до точки,
то у ее партнера перемещение от одной точки до другой — безотносительно произвольно.
Ни по общему контуру не вторит он характеру движения мелодии.
477 Ни по внутренней динамике этого хода.
Ни в тон эмоциональному ходу самого этого рисунка — эмоциональному ходу, который и выражается через изгиб линейного контура хода и трепещущих на этом пути скользящих ускорений и замедлений, не отстукиваемых ритмическими ударами клавиш, но как бы струящихся из-под смычка.
В упрощенной схеме это выражается так!
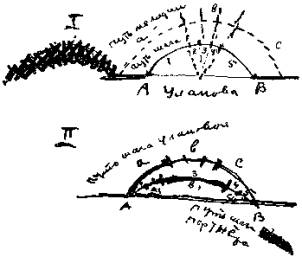
Схема I
1. Пространственный росчерк мелодии и абрис шага у Улановой совпадают с музыкой.
2. Совпадают и внутренние динамические:
a — проходится в одну единицу,
b — (короче чем a) — в три,
c — снова в одну.
То есть: быстро — медленно — быстро.
Схема II
Путь партнера не совпадает с Улановой (ходом мелодии):
1. Ни по абрису шага (дуга другого напряжения и рисунка).
2. Ни по времени:
a1 — быстро,
b1 — медленно,
c1 — опять быстро и даже не совпадая по граням с темповыми изменениями у Г[алины] С[ергеевны].
478 Меня тогда же на спектакле поразило это явление.
Тем более что танцоры имели дело с музыкальной манерой Прокофьева, где всегда поразительно пластичен — нет, точнее — графичен рисунок хода мелодии.
(Как не менее осязаемо красочен и колоритен — в дословном смысле соответствия цветовым эквивалентам — живописный ход оркестрово-тембровых его ходов в разработке партитуры.)
Я отнес это за счет возможной немузыкальности партнера Улановой и думал, что рядом с совершенной ее музыкальностью эта его черта просто режет глаз несколько более обычного.
Однако дело оказалось несколько глубже.
Начав работать с парой молодых солистов ГАБТ8 над тем, что вначале, казалось, должно было быть скромным очередным концертным номером, я убедился в том, что это не столько немузыкальность, но что это еще и порочность традиции и воспитания.
Подобно тому как звукозрительная грамотность на кино обычно ограничивается пределами совпадения грубо ритмических (а чаще даже метрических) дроблений музыки и нарезанных кусков, так же и в балете в основном, вообще говоря, учат тому же — совпадению танца и музыки по дроблениям счета.
И на эти «дробления» чаще всего навешивают традиционные иероглифы фигур и па, ритмические фрагменты, по счету «укладывающиеся» на тот или иной отрезок ритмического хода музыкального отрывка.
Это типичный «скелетный» танец.
Танец вовсе не достаточный для «тела».
И еще меньше — для… «души».
И если все трое неразрывны, как неразрывны между собой метр, ритм и мелодия в совершенном музыкальном произведении,
то из этого вовсе не следует, что линию каждого из них не ведет определенная часть единого нашего психофизического аппарата и что можно ограничиваться выражением одной стороны цельности музыкального произведения, игнорируя остальные.
Очевидно, что «совпадение» рисунков — это только частный случай.
Чаще — контрапунктическое сочетание абриса движения мелодии и движения тела, но и в этом случае возможен линейный контрапункт, сочетающий ход мелодии с некиим ходом тела только при условии, если сам «ход мелодии» разгадан и усвоен как некая линия.
Ибо только тогда возможна соизмеримость этих двух областей и композиционный учет совпадений, расхождений, степеней и характера этих расхождений между движением мелодии и движением тела.
479 Ритмическую канву, видимо (в основном), «отбивает» грубейшая — несущая фигуру — часть, средства перемещения нашего тела, а «отдающиеся от них вверх» результаты двигательного импульса растекаются в мелодическое воспроизведение музыки.
Мелодический рисунок как бы надстроечен к ритмической базе.
Так он исторически и развивается: мелодия есть высшая фаза развития, идущего из низшей первичной ритмической.
![]()
Музыкальное целое сохраняет во взаимном проникновении и одновременности обе эволюционно последовательные фазы становления этапов музыки. (Как и во всем. Как и в творческом процессе как единстве пралогического и логического, неосознаваемо чувственного и осознанного.)
Естественно, что в основной схеме это распределяется в соответствующих сферах развития тела: между чернорабочей несущей основой и изощряющимися по мере освобождения от черной работы частями — освобождающимися в сторону более тонкого выражения, более тонких областей (ритмическая выразительность — мелодическая). От «обрубка» тела к конечностям (руки и лицо).
Сравним голос как более утонченное движение — настолько, что движение начинает «звучать» — результат степени тонкости вибрирующего движения. При обратной комбинации — электрозарядке воздуха — его заставляет вибрировать и звучать даже и «грубое» движение жеста (Термен-vox!9).
И оказывается, что особенность и неповторимость Улановой в том и состоит, что «шаг» ее к совершенству «вперед» от других в том, что она умеет двигаться по ходу рисунка мелодии, а не только по линии совпадения ритмических акцентов.
И еще то, что она движется по музыке скользяще и не темперированно, — подобно струящейся мелодии скрипки или хроматизму человеческой интонации.
480 ЛЮДИ ОДНОГО ФИЛЬМА*
ЛОМОВЫ И ГОРЮНОВ
Когда я прихожу к [Ломову] в цех, где пахнет клеем, лаком, политурой и теми еще невыразимыми запахами, которыми разит от бутафории в период ее становления,
когда я вижу его в окружении нелепых искусственных цветов для чьих-то съемок карнавала, нечеловеческих размеров горшков из папье-маше для чьей-то кинооперы, частей полу резного, полулепного иконостаса для собственной моей картины,
когда я говорю с ним о толщине слоя левкаса на идущую «под позолоту» утварь или договариваюсь об утяжелении восковых печатей для грамот, с которыми приедут иностранные посланцы ко двору Ивана или Сигизмунда,
когда я вижу его, прокрадывающегося после рабочих часов в звукоцех и сосредоточенно вслушивающегося в звукозапись церковных песнопений, от древности дошедших до нас, —
мне кажется, что я испытываю прикосновение к тем безыменным полчищам мастеров Древней Руси, как бы чудом перенесенным в наш быт и наше время, тех мастеров, которые годами, согнувшись, выводили венчики и лики под сводами наших храмов, золотили купола соборов, резали из слоновой кости кресты, извивали золотую проволоку и затейливые узоры отделки драгоценных сосудов.
Пусть в руках его не финифть, пусть фольга не золотая, а бумажная, пусть левкас слоями ложится не на иконописные доски и пусть он возится с негрозином в поисках искусственной «патины времени», а кругом на цепях висят поддельные лампады, но глаза его полны той же сосредоточенной строгости из-под 481 поднятых на лоб очков, а складки на лбу ложатся в те же задумчивые узоры, как сотни лет они прочерчивались на лбах тонких и умелых мастеров русского прикладного искусства, когда любовно и целеустремленно, фанатично и хитроумно они вынашивали свои замыслы, воплощая их в обаятельные деяния рук своих.
Под стать ему жена и сподвижница его Лидия Алексеевна. Вся в иголках, булавках, нитках, она острым взглядом из щелок глаз не упустит в кадре сбившуюся складку, вылезшую за пределы эпохи «служебную» пуговицу, небрежный узел завязок золотого нарукавника.
Только безумие темпов, ворох ненужных сторонних дел, до режиссуры не имеющих никакого касательства, на что мы обречены в административной неразберихе еще не устоявшегося после эвакуации быта гиганта нашего — Потылихи, не дают возможности побольше беседовать с ней.
Вернее: слушать ее.
В ее сказе, в оборотах ее речи, в образном строе ее говора перед вами проходит лукаво подмеченная или поэтичная картинность, в которую народная речь умеет облекать повседневное явление.
Что может быть прозаичнее соображений о том, что прошитая сквозь высокий ворс плюша или бархата нитка окажется незаметной?
Но Лидия Алексеевна скажет: «Бархат; он всякую нитку таит».
И в этой фразе ухвачено ощущение глубины бархатной фактуры, которая кажется дремлющим черным бором, таящим в могучих своих объятиях затерявшуюся стройную и тоненькую царевну, незаметно скользящую между могучими его стволами. Плюш, бархат и нитки свиваются в сказочный образ, и незримые нити тянутся к той манере сказа, котор[ой] окрашены ядовитые писания Берсеня1 или мудро иронические слова и мысли Ивана, сохранившиеся в решениях Стоглава о… художниках2. Этот гигант — строитель государства — находил время ронять на ходу такие исчерпывающе точные советы и пожелания: «Кому дано, тот бы писал, а кому нет — мало ли есть других занятий?»
И как работают на картине эти люди, которым «дано»!
Вот, часами не разгибаясь над гримировальным креслом, стоит Горюнов.
Черкасов, утомленный нескончаемой переклейкой носов, бород, усов, уже давно заснул, откинув голову. Сегодня он прибыл из Новосибирска в Алма-Ату.
Жара или холод. Зима ли или лето — всегда с корабля на бал: с поезда — прямо в кресло, в «пошивочную», на репетицию, в ателье.
Маска нашего великого трагического артиста (кто бы мог поверить, что комик и эксцентрик в душе и по призванию, Черкасов 482 будет создателем галереи ответственных образов русской истории?) неподвижна. Голова запрокинута назад на подпорку.
Отчаявшись получить подпорку по «наряду», «спущенному» в столярный цех три недели тому назад, Горюнов собственноручно сколотил и прибил ее сегодня к креслу. Также собственноручно он сколотил «балаган» — гримировальный барак под стенами фанерной Казани, раскинувшейся в палимых солнцем оврагах Каскелена.
«Царь» спит, и мы оба с Горюновым даже рады этому обстоятельству. Так легче, впившись двойной парой глаз в недвижимый царский лик, схватить правильный угол наклона брови «из всех возможных», уловить «ход» линии уса, поймать верный «бег» пряди волос, общую конфигурацию «движения» общей массы волос.
Ибо Горюнов, как мало кто из мастеров своего дела, остро чувствует, чтó решающее в парике и гриме, прическе и бороде, усах и бровях. Это прежде всего динамический образ движения, вытекающий из облика лица и образа поведения персонажа. Как бы излучение внутренней динамики характера, перебрасывающееся в извивы пряди, в завитки наклейки, в излом гуммоза, пластически договаривающий заложенный в лице мотив, из всего многообразия возможностей лица выбранный для данной роли. И поэтому, вероятно, такие горячие дифирамбы поют шведские газеты бородам и гримам Горюнова в нашей картине.
Килограммы гуммоза, леса волос и крэпе3 проходят через ловкие и подвижные пальцы Горюнова в нескончаемые часы поисков грима. А в нескончаемые дни и ночи съемок ночь за ночью, день за днем повторяется до миллиметра выверенная, в таких трудах найденная лепка обликов действующих лиц. Спуска в этом деле не дается.
Я хорошо помню тот день «разноса», которому подвергся Горюнов, когда вкупе с Серафимой Бирман они позволили себе слегка ослабить наклейки «оттяжки» век к вискам в гриме Ефросиньи Старицкой.
Моральным оправданием этому могли служить кровавые подтеки, до которых были доведены виски Серафимы Германовны в результате многодневной непрерывной съемки. Однако художественно никакие кровавые стигматы актерского подвижничества оправданием служить не могут.
Не тот градус воспаленности взора горит из-под иначе спущенных век.
«Переделать грим!»
Сейчас, пробегая пальцами еще и еще раз по гуммозному носу царя, выискивая анатомически верное размещение горбинки и боковых вмятин около окончания носового хряща в соответствии с пропорцией и ритмом лица дремлющего Черкасова, Горюнов 483 язвит. Он цитирует мои давнишние статьи, статьи периода моего увлечения исключительно «натуральным» типажом, статьи, полные огненных филиппик против гуммоза, клееных бород, париков…
А вечером («вечер» для нас начинается на рассвете после ночной съемки) мы будем сидеть с ним и внимательно листать фоторепродукции с надгробия работы Микеланджело или менее известных мастеров, стараясь разгадать кривую бега извивов бороды Моисея, схему произрастания бород на портретах Эль Греко: через несколько часов прибудет народный артист Амвросий Бучма, и мы будем «искать» бороду Басманова-отца, а позже придется пересоздавать одного безвестного алма-атинского частника-мясника в ганзейского купца для «западноевропейского комплекса» нашего фильма.
Я. РАЙЗМАН И Н. ЛАМАНОВА4
Я вспоминал полные стонов письма Буонарроти, в которых он жалуется на согбенную спину и слепнущие глаза, работая под потолком Сикстинской капеллы.
Я в памяти цитировал эти письма, глядя на согбенные спины этих двух неутомимых старцев, часами способных ползать вдоль подола платья, одергивая складки, выискивая линию естественного падения материи или задуманной кривой капризного пробега оборки.
А наивный блеск восторга, когда мечта ухвачена и стала реальностью?!
— Коровин5 мне говорил, — звучит настоятельный голос, — произведение никогда не должно быть до конца завершенным…
Незаконченность — это не только прихоть Коровина.
Здесь, на востоке, вокруг нас в Алма-Ате, дальше в Ташкенте и Ашхабаде — это традиция.
Везде этот обычай:
ни одного узора на сюзане, ни одного рисунка ковра, ни одной вышивки, обегающей тюбетейку, ни одной голубой затейливой кафельной мозаики на гигантских мечетях — здесь в Средней Азии вы не найдете законченными. Обычай порожден тяжелым и зловещим суеверием: до конца законченная вещь роком отзывается на судьбе создателя ее.
— Серов мне говорил…
Репин. Левитан (и не радиодиктор, а тот — «Чехов от живописи» — Левитан живописец).
Это говорится в затхлой, темной, душной, жалкой проходной комнатке.
На девять десятых она заполнена громадным столом для кройки.
484 Сквозь оставшуюся одну десятую продирается нескончаемый поток ведер с глиной, кирпича, жестяных печных труб. Опять перестройка. Где-то течет вода.
Характерным движением плеч, острыми углами поднимающихся вверх, Яков Ильич выражает безмолвную стоическую иронию в отношении хаоса вокруг.
Хаоса, гордо именуемого костюмерно-пошивочным цехом Центральной объединенной киностудии в гор. Алма-Ата.
Цокающая вывеска этого учреждения (сокращенно оно читается ЦОКС) объединила под крышей бывшего оперного театра две крупнейшие киностудии Союза — «Мосфильм» и «Ленфильм», из-под бомбежки вывезенные в Среднюю Азию.
И среди этих обломков первозданного хаоса сидит передо мной, попивая из зеленой эмалированной кружки «пустой» кипяток, сам Яков Ильич Райзман.
Величайший волшебник художественного покроя костюмов и пальто, лучший мастер фрака, глава лучшей портняжной фирмы Москвы в течение многих десятилетий.
Таким взором на окружение глядел, вероятно, Бонапарт в часы прогулок по острову Святой Елены — на палисадники плантаций после зал Тюильрийского дворца.
Таким же взором вдаль глядит старый лев из-за решеток передвижного зверинца, бесцельно раскинувшего свои повозки и изодранное Шапито в самом центре толкучего рынка Алма-Аты.
Моросит дождь. С ним смешиваются первые снежинки. Нахохлившись, в пустых клетках сидят степные орлы. Дремотно мигают круглые глаза. В этом зловонном загоне, где затерялись в тусклом свете керосиновой лампы барс и цесарка, степной орел, облезлый кенгуру и три обезьяны, — пусто и тихо. Только прибоем вокруг кипит толкучий рынок, пронзительными выкриками врывающийся в державную тишину облезлой клетки, приютившей царя зверей. О взгляде этого льва можно было бы слагать поэмы.
[Его глаза] бездонны. Покорны. Но полны той нечеловеческой тоски, какой может тосковать лишь зверь, вырванный из огненных песков родной пустыни и хворающий бронхитом в пронизывающих сквозняках осени убийственного климата Алма-Аты.
Яков Ильич в безупречного покроя пиджаке, в галстуке бабочкой зябко кутает шею в клетчатое кашне и также глядит вдаль.
— Коровин мне говорил…
Чудодейственным сплетением обстоятельств, сколоченных из аттиловской алчности Гитлера, смертоносных изобретений Мессершмидта, недолговечных успехов Гудериана и заботы нашей страны о сохранении кадров кинематографии, — Яков Ильич вместе с нами заброшен сюда в эвакуацию.
485 Старик не может жить без дела.
И вот его талант, время, мастерство отданы созданию костюмов для продукции объединенных киностудий Москвы и Ленинграда.
Судьба соблаговолила приурочить производство «Ивана Грозного» в те именно недолгие сроки, пока, перейдя от фраков к ферязям и от смокингов к фелоням и охабням, этим делом правит Яков Ильич.
Мало людей за свою жизнь я любил так, как любил и уважал я Якова Ильича, которого унес из нашей среды обострившийся процесс туберкулеза в новогоднюю ночь 1944 года.
Память о нем неразрывна с памятью другого поэта и мастера костюма — тети Нади — Надежды Петровны Ламановой.
Работать с ними обоими было величайшим художественным наслаждением.
Острота глаза, предельное чувство линии и формы, пропорции и воплощения рисунка в реальность фактур, движений и спадов материи, динамики складки, скульптурная лепка фигуры.
Неутомимая рьяность. Нескончаемый звук разрываемых первоначальных наметок, бледные, как математические формулы, первоначальные «патроны» из коленкора и холста, но и, как эти формулы, ответственные, точные и строгие на путях к тому, чтобы из стадии исканий «формы» (Надежда Петровна никогда не говорила «покрой»), как бабочка от стадии куколки в сверкание крылатого существа, — затем воплотиться глухим басом бархата, игривыми переливами ламэ или тяжелыми аккордами золотой парчи. Нескончаемы переколки, перекройки, подрезки, перестановки, костюмы на глазах распадаются обратно в половинки грудок и спинок, рукавов и воротов и вновь срастаются в новом дивном нюансе целого…
Кто опишет вас! Кто перескажет эти томительные и упоительные часы!
Когда смутное очертание замысла или капризная линия наброска под меткими ударами стальных челюстей ножниц, опытного прикосновения утюгов, армии булавок и вереницы бега нитки и прежде всего пластического таланта становится трехмерной подвижной скульптурой костюма?
Бальзак любил так называть своих героев: «эта Венера от прилавка», «этот Франц Хальс среди рестораторов», «этот Бенвенуто Челлини среди гурманов», «этот Сальватор Роза от бухгалтерии».
Встретив великих старцев Райзмана и Ламанову, Бальзак вспомнил бы Микеланджело, Тициана и Калло, так строга лепка их костюма, так поразительно сбалансированы в них живописные массивы, так ответственно призван каждый штрих говорить о желаемом образе носителя. Ибо мастера эти не только облекают фигуры тех, кто счастлив попасться им в руки.
486 Они создают и пересоздают его облик, исправляют дефекты, убирают аномалию или, ухватив ее, не замалчивают, но возводят ее средствами искусства в завершенный образ характерности. Именно поэтому так давно пришла Ламанова от «светского» костюма к костюму театральному, где еще больший простор игре подчеркнутых или тщательно скрываемых черт индивидуальностей, чем в комедии салонов и гостиных.
Вот почему, внезапно столкнувшись с историческим костюмом, так упоителен в покрое и шитье их был покойный Яков Ильич.
Мне как-то понадобилась толщинка для «кособрюхого» боярина. Идти с этим к Якову Ильичу?.. И надо было видеть его восторг, когда я, решившись, обратился к нему с этой просьбой.
— Приходите завтра. Увидите!
Сквозь кирпич и глину, утюги и спрыскивающие материю мелкие капли, с характерным звуком вылетающие водяным облаком из раздутых щек, через неутомимые крикливые споры львовских портняжных подмастерий, которых занесла судьба сюда же, продираюсь на следующий день в святилище Якова Ильича.
В углу стоит страшный голый человек. Он страшен тем, что абсолютно живой. Пузатый. Кособрюхий. И… без головы. Это на манекен нацеплена толщинка. Более страшного в своем обнаженном натурализме зрелища, чем это голое боярское брюхо, висящее над слабосильными ногами, я в жизни не видал. Оно кажется розовым, лоснящимся, дышащим и сопящим. Здесь такой же ироничный натурализм, как экстатически натуралистичны страдающие Христы католического Запада. Рваные раны. Кожа, содранная с ребер, сквозь которые, как сквозь решетку, видно окровавленное сердце. Подлинные женские волосы, спадающие Христовыми космами из-под терновых венцов. Стеклянные глаза. Они впиваются в ваше сознание из темных ниш пустынных храмов Испании или Мексики и пугающим призраком следуют за вами в течение долгих часов, что вы блуждаете потом по солнцепеку городских площадей и пустынных улиц. Но там — воск, краска, волосы, иногда зубы за полуоткрытыми запекшимися губами, стеклянные глаза.
В произведении Якова Ильича — одна форма, одна линия кривизны чудовищного коленкорового брюха. Один, набитый дешевой ватой, объем. Да две лямки, чтобы через плечи удержать это сооружение на живом человеке.
Яков Ильич, пронзительно закашливаясь, смеется из другого угла комнаты.
Оказывается, это портрет.
Яков Ильич вспомнил «одного бывшего клиента».
А было это в… 1911 году!
Клиент был купцом.
Таким именно «кособрюхим», как я чертил желаемого боярина 487 Якову Ильичу на какой-то из вышедших из употребления выкроек. Какая память! Какое владение анатомией! Какое воплощение такого урода в жизнь, достойное пресловутой серии парижских купален бессмертного литографического карандаша Домье!
ВОЛЬСКИЙ6
Ошибка думать, что только протопоп Аввакум7 способен на призывы к самосожжению во имя идеи.
Напрасно думать, что во имя принципа одни лишь бородатые Досифеи в кругу единоверцев способны на подмостках оперных театров сгорать в декоративных избах последнего акта «Хованщины».
Это свойственно русскому человеку и без бороды.
И значительно позже эпох, примыкающих к прежде именуемым Смутными временам.
Блестящий пианист.
Концертант.
Тончайшего слуха.
И той особой тонкости проникновения в недра музыкальной формы и дух исполняемого произведения, которые характеризуют только деликатнейшего исполнителя.
Он не мог не любить Рахманинова.
А любить он может только фанатично.
Но судьба прошлась беспощадным ножом истории между композитором и его родиной.
Лишь на склоне лет голос родины и крови призвал блудного сына к примирению с родиной.
И родина простила своего гениального сына за временное потемнение, за временный отход.
И добрым словом светлой памяти хранит его имя в рядах своих славных детищ.
Но в свое время был конфликт.
Разрыв.
И я понимаю драму — нет, трагедию — юного пианиста-виртуоза в тот момент, когда кумир помрачен, когда кумир в орбите враждебных сил, когда кумир отторгнут от почитателя непроходимостью социального противоречия.
Бывают мгновения в жизни, когда опускаются руки.
Бывают случаи, когда рука не подымается.
Бывают мгновения, когда роняешь руки.
И самое трагическое мгновение, когда бросаешь руки.
А иногда бросить руки — это бросить целый путь жизни.
Для пианиста-виртуоза бросить руки — это не только оставить профессию: это зачеркнуть весь абрис когда-то предначертанного себе горизонта.
488 Так брошены — из принципа — в ответ на великую обиду измены кумира — руки нашего пианиста.
Так социальная трагедия временного отхода Рахманинова от нас стала личной трагедией пианиста Бориса Вольского, бросившего путь виртуоза.
Так мир музыки теряет пианиста Вольского.
Но столь популярный закон сохранения энергии, кажется, и здесь находится в силе:
мир кинематографа приобретает неоценимого звукооформителя etc.8
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ9
Ненаписанная страница «Метаморфоз» Овидия.
Муравей, ставший человеком.
Я думаю, муравей, ставший человеком, должен был бы стать очень страшным человеком.
Человеком с шорами.
Withont any ontlook83*.
Движется по раз установленным дорогам.
Только протоптанными путями.
В столкновении с моральной проблемой чудовищной ригористичности.
Очень тонко сделали баснописцы, дав в партнеры гулящей стрекозе именно хозяйственного муравья.
Из обоих всегда отрицательным считалась стрекоза.
Но насколько вреднее облик муравья — праведника, верного исполнителя прописных истин и тошнотворно добродетельного в трудах своих.
Не курить… Не плевать. Не пить сырой воды. Сходить с передней площадки.
Влезать с задней.
Переходить улицу только на углу.
Ни одного отступления от начертанного во имя буйства права.
Ни одного нарушения правил во имя разбега фантазии.
И самоупоение правотой своей.
Этот тип людей — гроза на производственных совещаниях.
Чума — на открытых докладах — хозяйственных и общественных организаций.
И не дай их бог в контингентах народных судов или в составе присяжных заседателей.
Но, кстати, именно они-то неизбежно оказываются в ревизионных комиссиях и в составе народных судов.
489 Родственные им фигуры на противоположном полушарии — те армии вдохновенных женщин, которые молотками разбивали дьявола в образе винных бутылок по питейным заведениям Америки, прежде чем добиться «сухого закона».
И самое, конечно, в них ужасное — это их правота. Бесчеловечно формальная правота.
Нет страшнее, недоступнее и бесчеловечнее образа, чем [образ] абсолютно формально правого человека, исполнителя всех добродетелей, рыцарей буквы закона без страха и упрека…
Взвыть можно от сожительства с подобным воплощением муравья в человека.
Но вовсе не обязательно сожительствовать. И то, что можно с трудом переносить в человеке и спутнике жизни, может быть незаменимы[ми] качествами сотрудника в работе.
Ведь бывает и хуже.
Вот Эжен Сю взял семь смертных грехов и накатал семь романов. И все романы построены на том, что разгул каждого из грехов становится основанием для торжества добра над злом.
Не будь графиня X преданной тщеславию, не будь господин Y преданным чревоугодию или мсье Z — прелюбодеянию, не совершилось бы столько и столько благих дел, описанных на страницах соответствующих повествований.
Если таково положение с семью смертными грехами, то тем более это возможно здесь.
Здесь, где речь идет о… семи смертных добродетелях!84*
Так или иначе, Фира Тобак включает в своем маленьком хрупком тельце все пороки муравья-человека, чудодейственным образом ставшие добродетелями человека-монтажера.
Даже рост.
Даже способность — волочить из этажа в этаж коробки пленки, иногда стопкой своей превышающие ее рост.
Моральный ригоризм ее здесь, среди фильмостатов, становится кропотливой системой рационального размещения «срезков» в отличие от «обрезков» и обоих, противопоставленных систематизированным «вырезкам».
Бытово невыносимый педантизм приводит здесь к тому, что в любое мгновение, как по мановению волшебного жезла, из хаоса кусков пленки, свернувшихся в клубки словно затаившийся змей, вылетает именно нужный кусок, как кролик из цилиндра фокусника.
Проторенные пути рутинерства в мышлении обеспечивают систематизацию всего этого многотысячного поголовья монтажных 490 кусков, ютящихся в круглых шкафах, прямоугольных ящиках, около стенных шкафов.
«Любой кусок в любой момент!» — не фраза, не бахвальство, — это страшный бич, ежесекундно занесенный над монтажером, имеющим горе сотрудничать с режиссером вроде того, [кого] недобрые силы бросили поперек пути маленькой беззащитной Мегеры — Фиры.
Надо иметь дьявольскую память, чтобы мгновенно сообразить, где, когда, куда положен срезок фонограммы вступительных тактов такого-то музыкального пассажа; в какую сторону повернута голова в продолжение срезанного куска такого-то второстепенного персонажа из материала предыдущей серии.
Подойдет ли по размеру давно забракованный дубль в той его части, в которой актер уже перестал играть, но случайно замер в подходящем ракурсе. Все это в обстановке дикого нетерпения, злобного шипения, ядовитых комментариев, если не сразу схвачена нужная коробка или, что хуже, если на мгновение изменяет сообразительность или память!
Тяжелый хлеб у Фиры Тобак!
Но муравьиные черты нрава, вплоть до редких ответных обжигающих брызг муравьиного яда, выдерживают ее на этом тяжком и неблагодарном посту.
«Любой кусок в любой момент!» — этот лозунг над армией жестяных коробок обеспечен вредными чертами человека-муравья, ставшими добродетелями человека-монтажера.
Но не только за это терплю я уже одиннадцать лет вредный нрав самого низкорослого и драгоценного моего сподвижника.
Режиссер, с которым работает Тобак, еще очень давно провозгласил подозрительную программу математического расчета в кинопроизведениях, расчета, столь же строгого и априорного, как в конструкциях мостов или заранее заведомо работающих станков.
Выкрикнутым в эпоху общего увлечения машинизмом, урбанизмом, конструктивизмом и инженеризмом — эти[м] программным лозунгам сейчас же поверили.
И поверив, почти сразу же стали брать под обстрел этот принцип инженеризма, машинизма, конструктивизма, усматривавшийся в каждом творческом проявлении прокричавшего их.
В его творениях находили холодность расчета, сухость математической предвзятости, угловатые бока конструкции, торчащей сквозь ткань живого действия.
Многим приходило в голову брать под сомнение программные пункты тезисов.
Но почему-то никто не брал под сомнение приверженность автора этих тезисов… к самым тезисам.
Уж больно часто, больно подчеркнуто, больно крикливо он выставлял их и расписывался под ними…
491 [ВАЛЯ КУЗНЕЦОВА]10
У нее странная манера во время разговора на полслове останавливаться и глядеть широко раскрытыми глазами чуть-чуть навыкат.
Вероятно, гарпии, сфинксы и прочая нечисть древности так же останавливали взгляд, намечая жертву, парализуя ее взором. Поворачиваешь голову.
Так и есть.
В поле зрения Вали попала странная долговязая фигура.
Почти что хочется сказать, что остановившийся взгляд Вали Кузнецовой щелкнул затвором.
В сознании отложился силуэт. Силуэт занумеровался и зарегистрировался в памяти.
Глаз ожил и забегал, и Валя восторженно объясняет, что этот странный силуэт — «вылитый… фон Паулюс».
Черепная коробка Вали полна до отказа подобными тенями «двойников».
Иногда это двойники именуемых лиц: три двойника Паулюса, пять Герингов, один Менделеев, два Чкаловых (у одного немного подгуляла нижняя челюсть), один Репин (не только в профиль!), сколько угодно Гоголей, Лермонтовых.
Иногда безыменные «типы». Придворные. Рыцари. Стрельцы. Дамы. Палачи. Монахи.
Кузнецы. Шуты. Китайцы.
Правда, был случай, когда одного эстонца в наклеенных усах эта хитрая Валя попробовала мне «подсунуть» и продать «за китайца» в «Александре Невском», прежде чем я довел ее до того, что она разыскала нам подлинного — профессора китайского языка на роль посланца Золотой Орды. Но это было на порах первого знакомства. И дальше не повторялось.
В Голливуде сложная карточная система и американизированная справочная картотека для этих же целей.
На Потылихе довольно беспорядочные ворохи записей, описей и пожелтевших фотографий.
Валя носит свое подобие Скотланд-Ярда в голове.
Она знает адреса каких-то странных людей сверхчеловеческого роста; ею выслежены где-то логовища, в которых ютятся особо зловещие старухи; она знает, где живет старик-тряпичник с головой редкого святого XVI века, и точный адрес скромного бухгалтера, пригодного на роль юродивого.
Но страсть ее — двойники.
Двойники для иногородних артистов, часто затруднительно вызываемых; двойники к известным портретам, наконец, двойники к двойникам на случай, если и двойник где-нибудь загуляет…
492 ЛУКИНА11
Оркестр. Хор.
Хор! Оркестр!
Это звучит как нечто цельное, органическое. Как что-то нераздельно телесное.
Как Иван, Петр, собор, мост, монумент.
А точнее это было бы определить муравейником.
Сколько здесь самолюбий, индивидуальностей, обид, частных интересов, внемузыкальных забот, бытовых отношений, человеческих судеб и жизней, на отдельные мгновения сливающихся воедино в магические моменты исполнения музыки.
Тогда — организм. Тело. Больше того: единая коллективная душа.
В остальное время — хаос.
Сколько людей — столько характеров. Сколько характеров — столько линий поведения.
Иногда кажется, что инструмент перерастает в человека, играющего на нем. Разве не с ног до головы трубач мой долголетний друг Юрьев?
Разве смех его, повадки, фанфаронада, демагогически острое слово, перед которым робеют все кругом, — не тот же бешеный ревущий звук его несравненной трубы, который так беспощадно, с таким блеском разрывает массивную звуковую ткань других инструментов в увертюре к «Грозному»?
И разве Иосиф Францевич Гертович глубокой человечностью и музыкальной проникновенностью не кажется плотью от плоти тех трагически рыдающих ходов мелодии, которую ведут контрабасы в удивительной музыке Прокофьева к сцене болезни Ивана?
Всех этих людей объединяет один оркестр.
Не оркестр, а люди.
И прежде чем произойдет слияние всех их в коллективном действии под водительством магической палочки дирижера, их надо собрать, согласовать, пригласить, часто — уговорить.
Индивидуальность анархически топырится — не хочется ей в слияние.
Твердость характера и мягкость обращения, мелодический ход убеждения и стаккато дисциплинарного «призыва к порядку» нужны для того, чтобы свести в единый контрапункт весь этот сонм отдельных единиц, своим творчеством слагающих коллективного творца — оркестр, хор.
Кажется, что руки блестящего музыканта Лукиной продолжают виртуозно пробегать по клавишам, когда бесконечно тактично и вместе с тем непреклонно волево она сплетает оркестрантов между собой, оркестр с хором, оркестр и хор с микрофоном, исполнителей произведения с теми, кто вековечит его на пленку, 493 дирижера со звукооператором, композитора с теми, кто его воплощает, и всех их в конце концов с режиссером, взвинченным и нервным, непримиримым и придирчиво требовательным до каприза, терзающимся каждой секундой осуществления и своих конечных замыслов в слиянии стихии музыки и изображения. С таким же умением и легкостью она умеет уловить желаемый нюанс режиссерского замысла и пересказать — додумать и досказать — его армии музыкантов на «их языке» в образном ряде их представлений. То, что режиссер, не музыкант и часто не владеющий даже азбучным музыкальным «жаргоном», бессвязно и раздраженно косноязычно описательно мычит как «творческое указание».
494 CHARLIE THE KID85* *
Charlie the Kid. Мне кажется, что название этого наиболее популярного произведения Чаплина вполне достойно стать рядом с его именем: оно помогает раскрытию его образа совершенно так же, как приставки «Завоеватель», «Львиное сердце» или «Грозный» определяют собой внутренний облик Вильгельма, завоевавшего острова будущей Великобритании, легендарно храброго Ричарда эпохи крестовых походов или мудрого московского царя Ивана Васильевича Четвертого.
Не режиссура.
Не приемы.
Не трюки.
Не техника комического.
Не это меня волнует.
Не в это хочется проникнуть.
Когда думаешь о Чаплине, то прежде всего хочется вникнуть в тот странный строй мышления, который видит явления таким странным образом и отвечает на них образами такой странности. И внутри этого строя — ту его часть, которая, прежде чем сложиться в воззрение на жизнь, существует в стадии созерцания окружающего мира.
Одним словом, мы займемся не мировоззрением Чаплина, а его жизневосприятием, которое родит неповторимые и неподражаемые концепции так называемого чаплиновского юмора.
495 * * *
Поля зрения двух заячьих глаз пересекаются за его затылком. Он видит позади себя. Обреченный больше убегать, чем преследовать, он на это не жалуется. Но поля зрения его не пересекают друг друга спереди. Впереди у зайца — невидимый для него кусок пространства. И заяц с разбегу может налететь на встречное препятствие.
Заяц видит мир иначе, чем мы.
У овцы глаза посажены так, что поля зрения вовсе друг друга не перекрывают. Овца видит два мира — правый и левый, зрительно не совпадающие в единство.
Иное ви́дение влечет за собой и иные картинно-образные результаты этого ви́дения. Не говоря уже о высшей переработке этого видения во взгляд и далее в воззрение с того момента, когда мы от овец и зайчиков подымаемся до человека во всем окружении социальных факторов, окончательно сводящих все это в мировоззрение.
Как посажен глаз — в данном случае глаз мысли,
как смотрит этот глаз — в данном случае глаз образа мысли;
как видит этот глаз,
глаз необычайный,
глаз Чаплина,
глаз, способный увидеть Дантов ад или гойевское каприччио темы «Новых времен» в формах беззаботной веселости?
Вот что волнует,
вот что интересует,
вот что хочется разгадать:
чьими глазами глядит на жизнь Чарли Чаплин?
* * *
Особенность Чаплина состоит в том, что при седых волосах он сохранил «детский взгляд» и непосредственность восприятия любых явлений.
Отсюда его свобода от «оков морали» и возможность видеть в комическом аспекте такое, отчего у других дерет мороз по коже.
Подобная черта во взрослом человеке именуется «инфантильностью».
И отсюда — комизм чаплиновских построений базируется «в основном» на инфантильном приеме.
К этому пункту понадобились бы две оговорки:
это не единственный прием Чаплина;
и приемы эти не только Чаплину свойственны.
Правда, мы меньше всего искали его приемы, а старались разгадать «тайну его глаз» — тайну его взглядов, как колыбели, из которой могут расти любые приемы.
496 Но прежде всего поговорим о том, почему из всех доступных человеку путей и средств достижения комического эффекта Чаплин оперирует именно этими и через этот ход служит наиболее представительной фигурой американского юмора.
И это в особенности потому, что именно чертой инфантильности юмора он оказывается наиболее американским из американских юмористов. При этом отнюдь не потому, что, как говорят, развитие среднего американца никогда не подымалось выше умственного развития четырнадцатилетнего возраста!
В свой «список прописных истин» Флобер не успел занести слово «инфантильность».
Иначе он писал бы, как о Дидро:
«… Дидро — за ним всегда следует д’Аламбер…»
Инфантильность — за ней всегда следует «уход» от действительности.
В данном случае это особенно к месту, ибо самый стимул к бегству, гнавший Рембо из Парижа в Абиссинию или Гогена на Таити1, конечно, способен гнать человека из сегодняшнего Нью-Йорка гораздо дальше.
Оковы «цивилизации» сейчас раскинулись так далеко, что размеренность одинаковых Ритц-отелей (да разве только отелей!) вы встретите сегодня как в любом крупном центре Европы и Соединенных Штатов, так и в самых сокровенных уголках острова Бали, в Аддис-Абебе, в тропиках или среди вечных снегов.
Географическому бегству оживленное авиасообщение подрезало крылья. Остается бегство эволюционное: вниз по линии собственного развития. Остается возврат в круг представлений и чувствований «золотого детства», обозначенный иностранными словами — «регресс в инфантильное» — уход в лично-детское.
В особенно размеренном и разграфленном обществе этот уход в свободу от оков «однажды и навсегда строго заведенного» должен быть особенно сильным.
Вспоминая Америку, я неминуемо вспоминаю две вещи: экзамен на право водить машину и рассказик из студенческого журнала какого-то колледжа об экзамене по гуманитарным предметам. Экзамен — тут. Экзамен — там.
На первом — вам подают листок. На нем вопросы.
Вопросы сведены к необходимости отвечать только «да» или «нет».
Вопрос ставится не так: «С какой предельной скоростью можно проезжать мимо школы?» Но так: «Можно ли мимо школы ездить со скоростью, превышающей тридцать километров?»
Ожидаемый ответ: «Нет».
«Можно ли, пересекая большую дорогу по малой, переезжать большую, не задерживаясь на перекрестке?»
497 Ожидаемый ответ: «Нет».
Такого же типа вопросы будут составлены и на «да».
Но нигде на листке вы не найдете вопроса: «Что делать, выезжая малой дорогой на перекресток большой?»
Нигде экзаменуемому не предлагается самостоятельно думать или делать самостоятельное умозаключение.
Все сводится к автоматизму памяти, к ответам «да» и «нет».
Не менее интересна автоматизация, с которой принимается листок.
На его графы накладывается первая сетка: в ней прорезы на все квадратики, где должно стоять «да».
Затем вторая сетка: все ее прорезы должны показывать «нет».
Двух взглядов экзаменатора достаточно.
Из одних ли «да» состоит неприкрытое пространство первой сетки? Из одних ли «нет» — второе?
Чудесное, думаешь, изобретение для стандартизации получения прав на вождение машины!
Но…
Вот в студенческом журнале веселый рассказ о том, как экзаменуется группа в университете.
Затаив дыхание, все слушают.
Слушают стук пишущей машинки… слепого студента.
Вот — два удара. Вот — три.
Лихорадочно списывает вся аудитория.
В первом случае две буквы — значит «по» (нет).
Во втором случае три буквы «yes» (да).
Тут та же автомобильная система. Такая же сетка. Такая же игра в «да» и «нет».
Механическая сетка и слепой студент — поводырь зрячих — сливаются в общий символ.
Символ стоит знаком целой механической и автоматической интеллектуальной системы.
Что-то вроде интеллектуального конвейера.
Понятно, что хочется из него выскочить.
Если Чаплин физического выхода из пут машинизма достигает своим прыгающим изображением в «Новых временах», то интеллектуально и эмоционально он достигнет того же методом инфантильного приема, дающего такой же освободительный скачок за пределы машинизма интеллектуального.
И в этом Чаплин — стопроцентный американец.
Общая система философии и прикладное истолкование отдельных ее областей всегда отражают основную эмоциональную ностальгию, которая таится в груди народа или нации, существующей в определенной социальной системе.
«По теориям их познаете их» — можно сказать с таким же правом, как это говорится о поступках.
498 Взглянем на типично американское истолкование секретов комического. При этом заранее оговорим, что, как все теории и объяснения комического, они локальны и относительны. Но в данном случае нас как раз интересует совсем не степень объективной истинности этого истолкования «тайны смешного».
Нас интересует специфическая американская позиция в вопросе комического, совершенно так же как интересны толкования Канта и Бергсона, прежде всего как лично и социально обоснованные «документы эпохи», а не всеобъемлющие истины и теории смешного, объективно объемлющие до смешного малые области истолкования2.
Поэтому для нашей цели станем подыскивать наиболее американский тип источника теоретического изложения основ комического.
В поисках «немецкого» подхода к смешному мы кинулись бы к метафизикам. В поисках «английского» подхода мы обратились бы к эссеистам, устами Мередита3 полагающим юмор привилегией избранных умов. И т. д. И т. д.
Подыскивая «американский» подход и наиболее «американское» понимание юмора, мы пойдем не к метафизикам, не к иронистам, не к философам или эссеистам.
Мы пойдем к… практикам.
Американский прагматизм в философии отразил это жадное искание прежде всего прикладно полезного — во всем, что интересует американца.
Отсюда бесчисленное количество книг по методике «обработки людей посредством юмора».
Я прочел не один десяток страниц о том, как можно посредством остроумия поднять интерес к докладу или проповеди; о том, как посредством юмора увеличить сумму пожертвований в пользу церкви во время обхода верующих с блюдом в руках; о том, как серией умелых шуток хороший коммивояжер вовлекает покупателя в приобретение вовсе ему не нужного пылесоса или стиральной машины.
Рецептура крепка, безошибочна, действенна.
Все сводится к той или иной форме подкупающей лести, если не просто к более примитивным формам обыкновенного подкупа!
Иногда рецептура снабжена кратким теоретическим обоснованием.
Именно из такой чисто американской книги я и процитирую, вероятно, наиболее американское понимание основ привлекательности юмора.
Мы увидим, что наиболее американский, несмотря на все свое международное значение, комик своей методикой целиком подпадает под это толкование.
499 Я не буду стесняться количеством цитат. Помимо самого их содержания сам факт издания подобной книги и подобных книг — ярчайший документ «американизма», который ответно порождает ту особенную форму комической методики, помогающей бегству от природы «американизма» именно подобного типа.
Книга написана в 1925 году проф. Х. Э. Оверстритом, главой отделения философии колледжа города Нью-Йорка.
Она называется «Воздействие на человеческое поведение».
Книга составлена из цикла лекций в ответ на точно сформулированный конкретный запрос группы слушателей, обращенный к автору.
Как отмечает сам автор в предисловии, уже сам по себе запрос был «необычным и знаменательным».
И действительно, запрос был поставлен отчетливо, деловито и сводился к тому, чтобы прослушать «курс лекций на тему, как можно практически воздействовать на человеческое поведение, пользуясь новыми данными, которыми располагает психология». У авторов запроса «… есть желание понять и улучшить существующие порядки. Но помимо этого и, пожалуй, прежде всего, — пишут они, — мы хотим использовать в интересах нашей повседневной оперативной деятельности те данные, которые нам может предоставить знание современной психологии. Наш интерес не академичен. Мы хотим практически действовать, пользуясь познаниями, которые мы можем приобрести».
В своем «Введении» психолог-практик дает ответ, достойный техницизма самого запроса:
«Целью этих глав является изложить, в какой мере данные современной психологии могут быть использованы каждым из нас в интересах того, что является действительно центральной заботой наших жизней. Забота у всех одна, независимо от того, кто мы такие — учителя, писатели, родители, торговцы, государственные деятели или проповедники, или принадлежим к представителям тысячи и одного типа других деятельностей, на которые расчленила нас цивилизация… В чем эта центральная проблема? Очевидно, в том, чтобы быть в должной степени преуспевающим в условиях нашего человеческого окружения.
Мы — писатели? В таком случае перед нами мир издателей, часть которых мы вынуждены убедить в наших способностях… Если это нам удается, то еще остается читающая публика. Сентиментально и глупо утверждать, что писателю достаточно “выражать” себя, хотя бы ни одна душа его при этом не понимала. Мы слишком снисходительны к так называемым непризнанным гениям. Правда — мир наш варварский, и тонкой душе в нем нелегко… Однако, если рукописи писателя возвращаются обратно, он может не только терять время, обвиняя в филистерстве издателей и читающею публику: ему не вредно спросить себя, нет ли у него 500 недостатков в самом элементарном искусстве излагать свои подлинно стоящие мысли действительно познаваемым способом.
Мы — деловые люди? Тогда перед нами тысячи потенциальных потребителей, которых мы должны вовлечь в покупку наших товаров. Если они отказываются, нас ждет банкротство.
… Мы — родители? Может показаться несколько неожиданным, если утверждать, что главная задача родителей — быть признанными своими детьми. “Что? — кричим мы в ответ. — Разве это не наши дети; и разве дети не обязаны чтить своих родителей?” Это — старая философия; старая этика; и к тому же старая психология, тянущаяся от тех дней, когда дети, подобно нашим женам, были нашей собственностью. Нынче дети — самостоятельные люди, и в задачи родителей входит быть настолько убедительными, чтобы оказаться добровольно приемлемыми для детей в качестве руководителей их судеб.
… Мы не будем продолжать. В жизни главная наша задача как индивидов состоит в том, чтобы стать индивидуальностями; разработать то, что способна дать эта индивидуальность, и преуспевать в нашем особом человеческом окружении…
… Жизнь состоит из многих вещей; это и добыча еды, и добыча крова, игра, борьба, достижения, надежды, горести. Но в центре всего стоит одно: заставить других нам верить и нас понимать…
… Как достигнуть этого? … Конечно, не путем туманных рассуждений о целях и идеалах! Но нахождением совершенно специфических методов, посредством которых индивиду удается “привлечь” своих окружающих, завоевывая их внимание и уважение, заставляя их думать и действовать в одном с ним направлении — кем бы эти люди ни были: потребителями, или клиентами, или учениками, или детьми, или женой; и независимо от того, к чему он желает приковать их внимание и уважение — к его товарам, к его идеям, к его искусству или к великой гуманитарной задаче.
… Стать опытным мастером в искусстве жизненной антрепризы — вряд ли можно найти что-либо более необходимое для нас. И к этой проблеме мы и обращаемся…»
Мне стоит безграничных усилий удержаться от того, чтобы не рассечь системой восклицательных знаков каждый перл этой литании практицизма, сближающей писателя, торговца и родителя, объединяющей потребителя с женой или товары с идеями!
Однако дальше и вперед по страницам руководства профессора Оверстрита, которые местами читаются как лучшие страницы Лабиша или Скриба4. Вот, например, глава «Yes-response technique» — «Техника утвердительных ответов»:
«Агент по распространению книг звонит у подъезда.
Дверь открывает недоверчивая домохозяйка.
Агент приподнимает шляпу:
501 — Не купите ли вы иллюстрированную Всемирную историю?
— Нет!
И дверь захлопывается.
… В приведенной сцене — целый психологический урок. Ответ “нет” — чрезвычайно трудно преодолимое препятствие. Если человек сказал “нет”, все его личное самолюбие направлено к тому, чтобы держаться раз выраженного отношения.
Позже он может сознаваться себе в том, что это “нет” было ошибочным; тем не менее на первом месте — его самолюбие!
Раз высказавшись, он твердо будет за него держаться. Поэтому так важно сразу же направить нужного нам человека по линии положительных утверждений.
Более мудрый агент звонит у подъезда.
Столь же недоверчивая домохозяйка открывает ему дверь.
Агент приподнимает шляпу:
— Миссис Армстронг?
Ответ из-под нахмуренных бровей: “Да”.
— Насколько мне известно, миссис Армстронг, у вас несколько ребятишек учатся в школе?
Недоверчиво: “Да”.
— И им, конечно, приходится выполнять много заданий на дому?
Ответ со вздохом: “Да”.
— Это, конечно, всегда требует работы с целым рядом справочников, не правда ли, — приходится разыскивать данные и т. д. И, конечно, нам очень неприятно, когда наши дети постоянно вынуждены вечерами бегать по библиотекам… Не лучше ли иметь весь этот справочный материал дома. И т. д. и т. д.
Я не ручаюсь за покупку. Но второй агент далеко пойдет! Он уловил секрет, как заручиться с самого начала разговора целой полосой утвердительных ответов. Тем самым включил в своем собеседнике психологический процесс, который движется в сторону положительных ответов…»
* * *
На странице 257 этого «руководства» деловито изложен ключ не к абстрактному пониманию принципов юмора вообще, но к американскому пониманию секрета юмора, вернее, к тому пониманию природы юмора, которое наиболее эффективно в приложении к американцу.
Профессор Оверстрит начинает с правильного наблюдения: «Нет более обидного замечания для человека, чем сказать о нем, что он лишен чувства юмора». Обвините его в беспорядочности, мелочности, нелепости, нечистоплотности — он все способен снести. Скажите ему, что он лишен чувства юмора, — он встанет на дыбы.
502 «Люди удивительно чувствительны в этом отношении».
Могу подтвердить правдивость этого наблюдения на самом совершенном образце в области юмора — на самом Чаплине.
Меньше всего меня увлекает задача писать теоретический реферат, а потому я рад любому поводу из области рассуждений перескальзывать в сферу личных воспоминаний.
Вечер в Беверли-Хиллс. В Голливуде.
Чаплин у нас в гостях.
Играем в популярную голливудскую игру.
Жестокую.
Игра эта характерна для места, где на сравнительно небольшом количестве квадратных километров сконцентрировано столько самолюбий, самолюбования и самовлюбленности — заслуженных, незаслуженных, обоснованных и необоснованных, перевоспетых и недооцененных, но во всех случаях настолько болезненно перенапряженных, что их хватило бы, вероятно, на три четверти земного шара.
Игра эта — вариант небезызвестной игры в «мнения».
С той лишь разницей, что здесь мнения высказываются по определенной «анкете», на которой выставляются «отметки»: например, «ум» — 5, «остроумие» — 3, «обаяние» — 4 и т. д.
Такую же анкету уносит с собой и тот, на кого ее заполняют оставшиеся. Он обязан ее заполнить сам и поставить себе отметки по личному усмотрению…
«Самокритичная игра», — сказали бы мы в Москве.
Тем более что весь эффект игры не в каких-либо отгадках, а только в степени… несовпадения отметок общего мнения с самомнением того, кто вышел.
Жестокая игра!
Тем более что графа «чувство юмора» в ней занимает почетное место.
«Король юмора» покорно уходит на кухню и, надев очки, где-то около рефрижератора заполняет листок анкетки.
Между тем ему готовится сюрприз.
«Королю юмора» общественное мнение выставляет по «чувству юмора»… четверку.
Дойдет ли до него юмор этого положения?..
Не доходит!
Гость обижается!
У знатного гостя не хватает юмора на самоиронию: четверка оказывается заслуженной!..
Почему же, спрашивает профессор Оверстрит, люди так чувствительны по части сомнения в наличии в них чувства юмора?
«По-видимому, — отвечает он, — это происходит оттого, что наличие чувства юмора предполагает ряд неминуемо ему сопутствующих типичных черт поведения и привычек.
503 Первая из них — чисто эмоциональна: привычка играть (резвиться). Но почему бы человеку гордиться тем, что он игрив? По двум причинам! Во-первых, игривая резвость неразрывна с детством и молодостью. Если человек игрив и резв, это значит, что в нем все еще сохранилось нечто от мощи и радости молодости. И если кто перестал быть резвым и игривым, то тем самым он вписал себя в разряд стариков. Несмотря на ревматизм во всех суставах, никому не хочется признаться себе в том, что он старик не только телом, но и духом! И вот старик гордится резвостью ума, убеждающей его в том, что в нем еще не угасла молодость!
Но есть еще и более глубокий смысл. Быть игривым и резвым вместе с тем в известной степени означает быть свободным. Если человек игрив, он на это мгновение высвобождается от оков связывающих его необходимостей — деловых, моральных, домашних или общественных…
… Жизнь — это сплошное ограничение. В игре мы свободны! Мы делаем, что нам нравится…
И, по-видимому, нет более дорогой для человека мечты, чем быть свободным.
Но это не просто жажда быть свободным от чего-то: это еще и гораздо глубже, желание быть свободным для чего-то. Нам отравляет жизнь сознание того, что установленные порядки мешают нам создавать жизнь такой, какой бы нам хотелось ее увидеть. И мы больше всего желаем создавать свою жизнь для себя такой, какой мы ее хотим. Как только нам это удается хотя бы в самой малой степени — мы счастливы. В игре мы создаем свой собственный мир…
… Из этого следует, что признать за человеком чувство юмора — значит одновременно признать за ним способность к игре, что в свою очередь свидетельствует о том, что он проникнут духом свободы и творческой непосредственности…».
Вся дальнейшая практическая рецептура вытекает целиком из этих предпосылок.
Для специфически американского положения с юмором соображения профессора Оверстрита очень уместны и очень правильно вычитаны из основ именно американской психологии.
Легион американских комиков укладывается в абрис начертанных им рамок.
И самый совершенный из них — в наиболее совершенной степени, ибо служение этому принципу у него не только в инфантильности гэга и трюка как такового, но и в тонкостях самого метода, который посредством инфантильной «прописи» для подражания психологически погружает заражаемого инфантильностью зрителя в золотой век инфантильного рая детского возраста.
Прыжок в инфантильность служит и самому Чаплину средством психологического выхода за пределы размеренного, расчерченного 504 и рассчитанного мира окружающей его действительности. Недостаточно. Паллиативно. Но в меру, доступную ему и его возможностям.
Тоскуя по свободе, единственно полное средство выхода художника через свое искусство из всех ограничений Чаплин определяет в одном из своих высказываний. В высказывании о… мультипликации.
«Мультипликация является единственным подлинным искусством в настоящее время потому, что в ней, и только в ней, художник абсолютно свободен в своей фантазии и может делать в картине все, что ему угодно»5.
Это, конечно, стон.
Стон о наиболее совершенном выходе за пределы оков тех условностей и тех необходимостей реального бытия, которые выше так любезно перечислил профессор Оверстрит.
Частичное удовлетворение этой ностальгии по свободе Чаплин для самого себя находит психологически в «нырке» в золотой век инфантильности.
Это же находят и те из его зрителей, которых он вовлекает в свое волшебное путешествие в область фикций, беззаботности и безмятежности, господствовавших лишь в колыбельной их стадии.
Деловитый формализм Америки — во многом младший брат чопорности диккенсовского мистера Домби. И не удивительно, что и в Англии была неизбежная по-своему инфантильная реакция. С одной стороны, она выражается в том, что ребенок входит в сюжет и тему: именно в Англии впервые ввели ребенка в область литературы и именно в Англии в первую очередь появляются целые романы или значительные части, целиком посвященные изображению душевных состояний маленьких детей. Переходя на страницы романа, мистер Домби становится «Домби и сын», и много страниц отводится маленькому Полю, Дэвиду Копперфильду, крошке Доррит, Николасу Никкльби у Диккенса, чтобы ограничиться именем самого популярного английского автора.
С другой стороны, именно Англия является почвой самого буйного расцвета инфантилизма в литературе, идущей под знаком «нонсенса». В бессмертной «Алисе» Льюиса Кэрролла и в «Book of nonsense» Эдварда Лира сохранились самые роскошные образцы этого стиля, хотя известно, что и Свинберн, Данте, Габриель Россетти и даже Рёскин оставили не менее забавные образцы поэтического нонсенса, известного в форме так называемых «Лимерикс»6.
«Уход от действительности»…
«Возврат в детство»…
«Инфантилизм»…
У нас в Советском Союзе мы не любим этих слов. Не любим этих понятий. И очень не сочувствуем самому факту.
505 Почему?
Потому что самой практикой Советского государства мы подошли к проблеме освобождения человека и человеческого духа с совсем другой стороны.
На другом же конце земного шара людям оставалось одно: психологически, фиктивно убегать обратно в беззаботную прелесть самопогружения в детство.
Мы на нашем конце земного шара не убегаем в сказку от реальности, но делаем сказку реальностью.
Не взрослого погружать в детство, но детский рай былого поднять до общедоступности для взрослого человека, для каждого гражданина Советского Союза — вот наша задача.
Ибо действительно, какой бы параграф Конституции мы бы ни взяли, везде нас поразит то, что, по существу, перед нами планомерно изложенные и государственно узаконенные черты того самого, из чего складывается идеал золотого века.
«Право на труд».
Сколько неожиданного принесла в свое время эта, казалось бы, парадоксальная формулировка о труде всем тем, у кого труд неизбежно связан с представлением о тяжелой обязанности и тяжкой необходимости.
Как ново и неожиданно зазвучало слово «труд» в окружении слов «право», «доблесть» и «честь»!
А между тем этот тезис, отражающий существующее у нас положение о полном отсутствии безработицы и обеспечении трудом всякого гражданина нашей страны, в психологическом отношении есть великолепное возрождение на новой, совершенной — наиболее совершенной — фазе человеческого развития именно того положения, которое на самой заре… детства человечества… в былом золотом веке прошлого рисовалось человеку в его первичном естественном, непосредственном понимании явления труда и связанных с ним прав и обязанностей.
У нас впервые до конца расчищена дорога всякому творческому устремлению двинуться по тому пути, которого жаждет его душа.
На пути дипломатической карьеры не стоит необходимость принадлежать к определенным слоям аристократии.
Для занятия государственной должности не нужно быть с даты рождения приписанным к привилегированному учебному заведению, вне сети которых доступ к определенной политической карьере неизбежно закрыт.
Чтобы служить на командных должностях в армии, не нужны ни кастовые, ни сословные привилегии и т. д. и т. д. В такой мере, в таком объеме этого еще никогда и нигде прежде не было.
И поэтому у человечества с самых древних времен эта мечта о «всевозможности» того, чем можешь стать, могла отложиться лишь в чаяниях, мифах, легендах и песнях.
506 * * *
В нашей стране сделано еще больше: мудрые мероприятия по обеспечению старости снимают с нашего человека еще один страшный груз — груз вечного беспокойства о будущем, груз тех чувств, которых не знают ни звери, ни птицы, ни цветы, ни маленькие дети возраста полной беззаботности первых лет своей жизни.
С нашего человека снят груз тех забот о пресловутой «Security» — обеспеченности, под тяжестью которого томится любой американец независимо от имущественного различия и положения, занимаемого на ступенях социальной лестницы.
И вот почему гений Чаплина должен был зародиться и расцвести на другом конце земного шара, а не в стране, где сделано все для того, чтобы золотой рай детства мог бы стать действительностью.
Вот почему его гений должен был воссиять там, где метод и тип его комизма был необходимостью, там, где осуществление детской мечты в жизни взрослого человека вынуждено наталкиваться на одни разочарования.
* * *
«Тайна его глаз», несомненно, раскрыта «Новыми временами». Пока дело шло о веренице прекрасных его комедий, о столкновениях добрых и злых, маленьких и больших, — как бы случайно распадавшихся одновременно и на бедных и на богатых, — глаз его смеялся и плакал в унисон его темам. Когда же в новейших временах американской депрессии внезапно добрые и злые «дяди» оказались реальными представителями непримиримых социальных групп, глаз Чаплина сперва замигал, затем зажмурился, но упрямо продолжал глядеть на новые времена и явления по-прежнему, он, видимо, пошел вразрез с собственной темой. В стилистике вещи это привело к надлому. В тематической трактовке — к чудовищному и коробящему. Во внутреннем облике самого Чаплина — к полному раскрытию тайны его глаз.
В последующих соображениях я вовсе не хочу сказать, что Чаплин безучастен к совершающемуся вокруг него или что Чарли не понимает (хотя бы частично) всего, что происходит вокруг него. Меня не интересует, что он понимает. Меня интересует как он ощущает. Как смотрит и видит, когда он погружается «во вдохновение». Когда на него находит серия образов явлений, над которыми он смеется, и когда смехом воспринятое переплавляется в форму комических ситуаций и трюков; и какими глазами надо глядеть на мир, чтобы увидеть его так, как он видится Чаплину.
Смеется группа очаровательных китайских ребят.
Одним планом. Другим. Крупно. Средне. Опять крупно.
Над чем они смеются?
507 Видимо, над сценой, происходящей в глубине комнаты.
Что же там происходит?
На кровать повалился мужчина. Видимо, пьян. И его неистово хлещет по лицу маленькая женщина китаянка. Дети заливаются безудержным смехом.
Хотя мужчина — их отец. А маленькая китаянка — их мать. И большой мужчина вовсе не пьян. И не за пьянство бьет его по лицу маленькая жена.
Мужчина мертв.
И она бьет покойника по лицу именно за то, что он умер и бросил на голодную смерть и ее и вот этих маленьких ребят, которые так звонко смеются.
Это, конечно, не из фильма Чаплина.
Это из материала мимолетной строчки замечательного романа Андре Мальро7 «Условия человеческого существования».
Думая о Чаплине, я его всегда вижу в образе этого весело смеющегося китайчонка, глядящего на то, как смешно качается голова большого мужчины от ударов руки маленькой женщины.
Не важно, что китаянка — мать. Что мужчина — безработный отец. И уже вовсе не важно, что он вообще мертв.
В этом секрет Чаплина. В этом тайна его глаз. В этом он неподражаем. В этом его величие.
… Видеть явления самые страшные, самые жалкие, самые трагические глазами смешливого ребенка.
Быть в состоянии видеть образ этих явлений непосредственно и внезапно — вне морально-этического их осмысления, вне оценки и вне суждения и осуждения, так, как на них смотрит во взрыве смеха ребенок, — вот в чем он отличен, неподражаем и единствен.
Эта внезапная непосредственность взгляда родит смешное ощущение. Ощущение разрабатывается в концепцию.
Концепция бывает троякая.
Явление подлинно безобидно — и чаплиновское восприятие облекает его неподражаемым чаплиновским буффом.
Явление персонально драматично — и чаплиновское восприятие родит юмористическую мелодраматичность лучших образцов его индивидуального стиля — сочетание улыбки со слезой.
Слепая девушка может вызывать улыбку, когда она, не замечая, обливает Чаплина водой.
Прозревшая девушка может оказаться мелодраматичной, когда в касании рукой она не до конца догадывается, что перед ней тот, кто любит ее и вернул ей зрение.
И тут же этот мелодраматизм внутри той же самой вещи может быть буффонно поставлен на голову — слепой девушке вторят эпизоды с «бонвиваном», спасенным Чаплином от самоубийства; в них бонвиван узнает своего спасителя и друга лишь в «ослеплении» винными парами.
508 Наконец, явление социально трагическое — уже не детская забава, не детского ума проблема, не детские игрушки, — и смешливо-детский взгляд порождает серии страшных кадров «Новых времен».
Пьяная встреча с безработными грабителями в магазине…
Сцена с красным флажком…
Эпизод невольной провокации у ворот бастующей фабрики…
Сцена бунта в тюрьме…
Взгляд Чаплина родит искру смешного ви́дения.
Оно опосредствуется этической тенденцией «Малыша» или «Огней», сентиментальной аранжировкой сочельника в «Золотой лихорадке», обличением в «Собачьей жизни».
Удачно в «Пилигриме», гениально в «Огнях большого города», неуместно в «Новых временах».
Но сама эта способность внезапного видения детскими глазами. Видения непосредственного. Видения первичного, без морально-этического осознавания и изъяснения.
Вот что потрясает.
Приложение и применение.
Разработка и аранжировка.
Сознательная или бессознательная.
Отделимая или неотделимая от первичного «запала».
Целенаправленная или безотносительная.
Одновременная или последующая…
Все это — вторичное. Доступное. Изучимое. Достижимое. Профессиональное. Ремесленное. Общее для всего комического эпоса американского кино.
Способность детски видеть — неподражаема, неповторима, лично Чаплину присуща.
Так видит только Чаплин.
Через все ухищрения профессиональной разработки неизменно пронзительно смотрит и поражает именно это свойство чаплиповского зрачка.
Всегда и во всем: от пустяка — «Ночь в театре»8 — до трагедии современности в «Новых временах».
* * *
Так видеть мир и иметь мужество так его показывать с экрана присуще только гению.
Впрочем, ему даже не нужно мужества.
Ведь так, и только так, он видит.
Может быть, я слишком настаиваю на этом пункте?
Возможно!
Мы люди «сознательной задачи».
И неизбежно — «взрослые».
509 Мы взрослые, утерявшие способность смеяться смешному без учета его, быть может, трагического смысла и содержания.
Мы взрослые, потерявшие пору «беззаконного» детства, когда еще нет этики, морали, высшего критерия оценки и пр., пр., пр.
Чаплину подыгрывает сама действительность.
Кровавая нелепость войны для Чаплина — в фильме «Shoulder Arms»86*.
Для «Новых времен» — новая эра новейших времен.
Партнер Чаплина — вовсе не рослый, страшный, сильный и беспощадный толстяк, в свободное от съемок время управляющий рестораном в Голливуде.
Партнер у Чаплина, через весь его репертуар, — другой.
Еще более рослый, еще более страшный, сильный и беспощадный. Чаплин и сама действительность, вдвоем, «на пару», играют перед нами нескончаемую вереницу цирковых антре. Действительность подобна серьезному «белому» клоуну. Она кажется умной, логичной. Осмотрительной и предусмотрительной. И в конечном счете именно она остается в дураках и осмеянной. Бесхитростный, ребячливый ее партнер Чаплин одерживает верх. Беззаботно смеется, сам не замечая того, что казнит ее смехом.
И, как юный химик в своих первых анализах снабжает лукаво подсунутую ему чистую воду всеми мыслимыми и немыслимыми ингредиентами, так и в этой чистой воде инфантильности непосредственного видения смешного всяк прочитывает свое.
В детстве я видел престидижитатора. В смутно фосфоресцирующем облике призрака двигался он по затемненной сцене.
— Думайте о том, кого вы хотите видеть, — кричал с подмостков этот ярмарочный Калиостро, — и вы увидите его!
И в этом маленьком веселящем человечке, который сам волшебник и маг, тоже «видят». Видят то, чего никогда он не вкладывал.
Вечер в Голливуде. Мы с Чарли собираемся в Санта-Монику на народное гулянье «Вэнис» вдоль берега моря. Сейчас мы будем стрелять по заводным свинкам. Сбивать шарами яблоки и бутылки. Чаплин, деловито надев очки, будет аккуратно заносить счет выигранных очков, чтобы вместо ряда мелких призов, вроде гипсовых портретов «Кота Феликса», взять один большой, например будильник. А мальчишки будут фамильярно хлопать его по плечу. «Хэлло, Чарли!»
Пока что садимся в машину. Он сует мне книжечку. Немецкую.
— Разберитесь, пожалуйста, в чем тут дело. — Немецкого языка он не знает. Но знает, что в книжке сказано о нем. — Объясните, пожалуйста.
Книжечка немца-экспрессиониста, и в финале ее — это пьеса, конечно, в космическом катаклизме: Чарли Чаплин, пронзая 510 вновь возрожденный хаос своей тросточкой, указывает выход за пределы мира и раскланивается котелком.
Сознаюсь, и я завяз в истолковании этого послевоенного бреда.
«Разберитесь, пожалуйста, в чем тут дело» — он мог бы сказать про многое и многое, сказанное о нем.
Удивительно, как льнет к Чарли Чаплину всякая метафизическая чертовщина!
Вспоминаю еще одно высказывание о нем.
Оно принадлежит покойному Эли Фору9, автору многотомной истории искусств.
Он писал о Чаплине:
«Он прыгает с ноги на ногу — такие грустные и столь нелепые ноги! — и тем представляет обе крайности мышления — одна именуется познанием, другая — вожделением. Прыгая с одной ноги на другую, он ищет равновесия души, которое находит, с тем чтобы немедленно вновь потерять его…».
Однако, безотносительно [к] воле автора, социальная судьба его окружения выносит безошибочно верное толкование.
И так или иначе, на Западе истина избирает этого смешно глядящего маленького человечка, чтобы под смешное для него подставить то, что само по себе часто даже вне категории осмеяния.
Чаплин работает «на пару» с действительностью.
И то, что сатирик обязан двупланно вводить внутрь самого произведения, то комик Чаплин делает однопланно. Он смеется непосредственно. Сатирическое опосредствование создается из наплыва гримасы Чаплина обратно на условия, ее создавшие.
* * *
— Вы помните сцену в «Малыше»10, где я детям бедной семьи рассыпаю корм из ящика, как цыплятам?
Это разговор на яхте Чаплина — мы три дня гостим у него на волнах возле острова Каталина в окружении морских львов, летающих рыб и подводных садов, на которые смотришь через стеклянное днище особых пароходиков.
— Ведь я это сделал из презрения к ним. Я не люблю детей.
Автор «Малыша», из-за которого над судьбой заброшенного ребенка плакали пять шестых земного шара, не любит детей. Он — «зверь»?!
Но кто же нормально не любит детей?
Только… сами же дети.
Яхта качается дальше. Ее качания напоминают Чарли качающуюся походку слона.
— Презираю слонов. Такая сила, и безропотно послушна.
— Кого вы любите из зверей?
— Волка. — Ответ без паузы. И его серые глаза и серая шерсть бровей и волос кажутся волчьими. Глаза устремлены в солнечные 511 блики тихоокеанского заката. По бликам проскальзывает миноносец тихоокеанской эскадры США.
Волк.
Принужденный жить в своре. И быть всегда одиноким. Как это похоже на Чаплина! Навсегда во вражде со своей сворой. Каждый враг каждому и враг всем.
Может быть, Чаплин думает не совсем так, как говорит. Может быть, это немного «поза»?
Но если это поза, то это, вероятно, та именно поза, в которой Чаплин озаряется своими неповторимыми и неподражаемыми концепциями.
Шесть месяцев спустя, в день моего отъезда в Мексику, Чаплин показывает мне еще не озвученные, еще начерно смонтированные «Огни большого города».
Я сижу в черном клеенчатом кресле самого Чаплина. Сам же Чаплин занят: на рояле, на губах он дополняет отсутствующий звукомонтаж картины. Чарли (на экране) спас жизнь хотевшему утопиться пьяному буржуа. Своего спасителя спасенный самоубийца признает лишь в пьяном виде.
Смешно? — Трагично.
Это Щедрин. Это Достоевский. Маленького бьет большой. Он избит. Сперва — человек человеком. Дальше больше — человек обществом. От единичного полисмена «Собачьей жизни» — к регулярно въезжающей лавине полицейских из «Новых времен». От беззаботной веселости «Ночи в театре» — к театру ужасов «Новых времен».
Конвейер, показанный в фильме, — это нескончаемая дыба, моторизированная Голгофа, а Чаплин танцует на дыбе менуэт, достойный Моцарта.
Мороз по коже дерет от ручки, одним поворотом меняющей темпы конвейера.
Здесь же — корчи смеха от игры на этой ручке!
Когда-то очень давно была широко популярна фотография не то из лондонского «Грэфика», не то из «Скетча»:
«Стоп! Его Величество Дитя!» — гласила под ней надпись.
А фотография изображала безудержный поток уличного движения на Бонд-стрите, Стрэнде или Пиккадили Серкесе, внезапно застывший по мановению руки «бобби» — английского полисмена.
Через улицу переходит ребенок, и потоки уличного движения покорно ждут, пока Его Величество Ребенок не перейдет с тротуара на тротуар.
«Стоп! Его величество дитя!» — хочется воскликнуть самому себе, когда пытаешься подойти к Чаплину с позиций социально-этических и моральных в широком и глубоком смысле слова.
«Стоп!»
Возьмем его величество таким, как оно есть!
512 * * *
Чаплиновские ситуации — ведь это то же самое, чем зачитываются дети в сказках, где набор мучительств, убиений, страхов и ужасов — непременный набор аксессуаров.
Излюбленный герой — страшный Бармалей («он ест маленьких детей»). Джеббервоки Кэрролла. Баба-Яга и Кащей Бессмертный.
Сказки читать долго. И квинтэссенция их для более легкого употребления дистиллируется в стишки.
Так испокон веков по детским комнатам Англии и Америки таскается веселый некролог десяти негритят, погибающих один за другим от двустишия к двустишию всем вообразимым разнообразием смертей («Ten Little Nigger Boys»87*).
И при этом без всякой вины и даже без намека на какое-либо основание вообще!

513 Из оставшихся семерых один разрубает себя пополам.
Остается шесть.
Из оставшихся трех одного… съел медведь, и осталось — двое.
Хуже всего досталось последнему: он женился!
И больше не осталось негритят…
Кстати сказать, быть может, в этой последней строке весь «смысл» стишков: женитьба — конец для детски инфантильного бытия — гибнет последний негритенок и возникает взрослый негр!
Так или иначе, еще более отчетлив по разбираемой тенденции сборник Хэрри Грэхема: «Безжалостные стихи для бессердечных домов»88*.
Предисловием служит такое посвящение:
С раскаянием, стыдясь до слез,
Я эти рифмы преподнес
Всем детям лет от двадцати
До девяноста девяти,
Чтоб с интересом бы читал
Их тот, кто снова в детство впал.
Сами же стишки, адресованные тем, кто впал во второе детство, сделаны по всем канонам того, что дорого… детству первому.
СТРОГИЙ
РОДИТЕЛЬ
Детей своих услышав крик,
Отец топил их в тот же миг,
И, утопив последних двух,
Сказал: «Как дети портят слух!»
МИСТЕР ДЖОНС
«Попал слуга ваш под вагон-с
И пополам разрезан был!»
«Пришлите, — просит мистер
Джонс, —
Ту часть, где он ключи хранил!»
НЕОБХОДИМОСТЬ
Я должен был убить жену
И труп забросить под кровать,
И все случилось потому,
Что храп жены мешал мне спать89*.
Можно было бы написать целую диссертацию об англосаксонском юморе в сопоставлении со «славянской душой», если здесь в связи с последним образчиком припомнить драматически трактованное «Спать хочется» Чехова. Там нянька-девочка — сама 514 ребенок — тоже душит ребенка, отданного ее попечению, за то, что ребенок ночью кричит и не дает ей спать. И все это под мирные теплые отсветы огонька из лампадки зеленого стекла.
Но так или иначе, в драматической зарисовке девушки-подростка, в фантастическом строе сказок братьев Гримм или в беззаботно смешливых «Безжалостных» стишках — везде ухвачено главное детской психологии и детской души, то, что давно еще заметил Лев Толстой.
Максим Горький записал его слова по этому поводу:
«Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть…»
Об этом же говорят знатоки детской души.
И интересно отметить, что именно это лежит в основе детских шуток и рассказов.
Про московских ребят записывает Е. Кононенко:
«“Дедка, а ты увидишь новую Москву? Как ты думаешь, ты еще проживешь до этого?” — жестоко спрашивает Владилен. И я вижу, что он сейчас же смущается, чутьем поняв, что не надо было задавать старику этот вопрос… Очевидно, ему немного стыдно и жалко деда. Вообще-то говоря, он стариков не жалеет, и когда во дворе ребята рассказывали, что из стариков будут делать клей, он хохотал до слез и спросил у меня лукаво, сколько клея выйдет из дедки…»
О детях — английских и американских — пишет Кимминс. В своих утверждениях автор опирается на громадный статистический материал. В разделе работы «Чему смеются малые дети» читаем:
«Несчастия другого как повод для смеха маленьких детей очень часто лежат в основе их смешных рассказов. У семилетних детей они составляют около 25 процентов для мальчиков и около 16 для девочек. К восьми годам процент падает соответственно до 18 и 10. Начиная с девяти и десяти лет падение еще более заметно…»
Однако это касается только рассказов. Описание же подобных фактов сохраняет свой смехотворный эффект и дальше:
«… они особенно популярны в период бурного роста между двенадцатым и четырнадцатым годами».
Тот же Кимминс в другой своей работе, касающейся отношения ребенка к жизни, на основе анализа детских рассказов приводит такой типичный детский рассказ, относящийся к среднему возрасту:
«Один мужчина брился, когда раздался неожиданный стук в дверь; это его испугало, и неловким движением он отрезал себе 515 нос. В волнении он уронил бритву, которая отрезала ему палец на ноге. Позвали доктора, и он перевязал раны. Через несколько дней сняли повязки, и оказалось, что нос был приставлен к ноге, а палец к лицу. Человек выздоровел, но был очень смешон, потому что, когда ему нужно было высморкаться, ему каждый раз приходилось снимать ботинки…»
Ситуация эта совершенно в духе пантомимы английского Пьеро (именно английского и типично английского), так поразившего Бодлера11, привыкшего к французу Дебюро12.
Но вот само описание.
«… Это был вихрь гипербол.
Пьеро проходит перед женщиной, которая моет пол у своего подъезда: обчистив ее карманы, он хочет засунуть в свои собственные и губку, и метлу, и ведро, и самую воду…
… Неизвестно, за какое из преступлений Пьеро в конце концов должен быть гильотинирован. Почему гильотина вместо повешения в английской стране?.. Не знаю; вероятно, для того, что будет дальше…
Пьеро борется и ревет подобно быку, который чует бойню, но в конце концов подвергается своей участи. Голова отделяется от туловища — громадная белая с красным голова — и с грохотом катится к суфлерской будке, демонстрируя кровавый диск перерезанного горла, перерубленный позвоночник и все детали мясной туши, только что разрубленной для продажи. Но вот внезапно укороченный торс, движимый непреодолимой манией стяжательства, распрямляется, победоносно похищает свою собственную голову и, поступая гораздо практичнее, чем великий Сен-Дени, запихивает ее в карман, подобно окороку или бутылке вина, все в тот же карман своих штанов!»
Для полноты «букета» можно было бы, пожалуй, припомнить еще и рассказ Амброза Бирса13.
Жестокие «юморески» этого автора здесь вполне к месту, ибо весьма характерны для англо-американского типа юмора, о котором здесь идет речь, и растут целиком из того же общего лона.
«… Человек и Гусь.
Человек ощипывал живого гуся, на что недовольная его жертва обратилась к нему со следующими словами:
— Предположим, что ты был бы гусем: неужели ты думаешь, что тебе была бы приятна подобная операция?
— Допустим, — ответил Человек. — Как ты думаешь, тебе бы доставило удовольствие ощипывать меня?
— Конечно! — был темпераментный, естественный, хотя и непредусмотрительный ответ.
— Ну вот, — закончил беседу мучитель, — это именно то, что я испытываю сейчас!»
516 Набор гэгов из «Новых времен» вполне в том же духе!
«Счастливы только дети бывают, да и те недолго», — говорит у Горького мудрая Васса Железнова.
И недолго, потому что суровое «нельзя» воспитателей и будущих норм поведения начинает налагать свои запреты на необузданность детского желания с самых ранних шагов.
Тот, кто не сумеет вовремя подчиниться этим узам и заставить эти ограничения служить себе, тот, кто, став мужчиной, будет продолжать оставаться ребенком, — тот неминуемо будет неприспособлен к жизни, будет везде в глупом положении, будет смехотворным, смешным.
Если методика детского глаза Чаплина решает выбор тем и трактовки его комедии, то в сюжетном плане — это почти всегда комизм положений, сталкивающий детски наивный подход к жизни с ее сурово взрослой отповедью.
Истинным и трогательным «простаком во Христе», об образе которого мечтал стареющий Вагнер, оказался именно Чаплин среди помоек и закоулков Ист-Сайда, а вовсе не вагнеровский «Парсифаль» в окружении байрейтской пышности и перед лицом священного Грааля!
Аморализм жестокости детского подхода к явлениям в точке зрения Чаплина, внутри характера самого персонажа его комедий, проступает всеми остальными подкупающими чертами детства.
Теми обаятельными чертами детства, которые, подобно потерянному раю, утрачены взрослыми навсегда.
Отсюда — подлинная трогательность Чаплина, почти всегда умеющая удержаться от придуманной сентиментальности.
Иногда эта трогательность способна достигнуть почти пафоса. Почти катарсисом звучит финал «Пилигрима», когда шериф, потеряв терпение, дает ногой под зад Чаплину, после того как Чаплин не понял доброго намерения шерифа — дать ему, беглому каторжнику, возможность удрать через границу в Мексику.
Узнав благородство детской души беглого каторжника Чаплина, обманным путем выдавшего себя за проповедника, но при этом спасшего деньги маленькой местной церкви, шериф не хотел уступить ему в благородстве.
Ведя Чаплина вдоль границы Мексики, по ту сторону которой свобода, шериф всячески хочет дать понять Чаплину, чтобы он воспользовался этим соседством для побега.
Чаплин этого никак не понимает.
Теряя терпение, шериф посылает его за… цветком — по ту сторону границы. Чарли покорно переходит канавку, отделяющую свободу от оков.
Довольный шериф отъезжает.
Но вот детски честный Чаплин догоняет его с принесенным цветком.
517 Удар под зад ногой разрешает драматический узел. Чаплину возвращена свобода.
И самый гениальный финал из всех его картин — Чаплин от аппарата убегает своей прыгающей походкой в диафрагму:
по линии границы — одной ногой в Америке, другой — в Мексике.
Как всегда, наиболее замечательной деталью, эпизодом или сценой в фильмах бывают те, которые, помимо всего прочего, служат образом или символом авторского метода, вытекающего из особенностей склада авторской индивидуальности.
Так и здесь.
Одной ногой — на территории шерифа, закона, ядра на ноге; другой ногой — на территории свободы от закона, ответственности, суда и полиции.
Последний кадр «Пилигрима» — почти что схема внутреннего характера героя: сквозная схема всех конфликтов всех его фильмов, сводимых к одной и той же ситуации: график метода, которым он достигает своих удивительных эффектов.
Убег в диафрагму — почти что символ безысходности для взрослого полуребенка в условиях и в обществе законченно взрослых.
Остановимся на этом!
Пусть тень Эли Фора станет на нашем пути грозным предупреждением против вписывания излишней метафизики в чечетку чаплиновских ботинок!
Тем более что мы прочитываем эту драму шире, как драму «маленького человека» в условиях современного общества.
«Маленький человек, куда?» Фаллады14 — как бы соединительный мостик этих обоих чтений.
Как бы ни читал собственного финала сам Чаплин, маленькому человечку в современном обществе — некуда.
Совершенно так же как маленькому ребенку невозможно оставаться таким навсегда.
Грустно, но приходится шаг за шагом отказываться как от привлекательных черт…
вот отпала наивность,
вот — доверчивость,
вот — беззаботность, так и от черт, в культурном обществе неуместных…
вот отпадает нежелание считаться с интересом соседа,
вот — нежелание подчиняться правилам общепринятого,
вот наложена узда на непосредственность детского эгоизма…
«Смеясь, мы расстаемся со своим прошлым»15 и здесь.
Смеясь и жалея.
Но вот вообразим на мгновение, что человек вырос и вместе 518 с тем сохранил в полном объеме необузданности весь комплекс инфантильных черт.
И первую, главную из них — совершенный эгоизм и полное отсутствие «оков морали».
Тогда перед нами — беззастенчивый агрессор, завоеватель Аттила. Чаплин, сейчас заклеймивший современного Аттилу — Гитлера, не мог в прошлом не захотеть сыграть… Наполеона.
Он очень долго носился с этой мыслью и с этим планом.
В этом сценарии Наполеон не умирает на острове Святой Елены. Он стал пацифистом, и ему удается бежать с острова и тайно возвратиться во Францию. Постепенно он поддается искушению и начинает подготовлять переворот.
Однако в момент, когда уже должен начаться переворот, с острова Святой Елены приходит известие о смерти Наполеона. Там, как вы помните, был его двойник. Но все верят, что умер настоящий Наполеон. Все планы Наполеона рушатся, и он умирает от горя. Последние его слова будут: «Это известие о моей смерти убило меня».
Эта реплика превосходит бессмертную твеновскую телеграмму: «Сообщение о моей смерти несколько преувеличено».
Самому Чаплину фильм рисуется трагическим.
Картина была задумана, но не была сделана.
Однако трактовка отчетлива.
Вернувшийся Наполеон оказывается Наполеоном непризнанным и ущемленным.
И в конце — трагически разбитым:
«… известие о моей смерти убило меня!»
Симптоматично!
В нормальном человеческом обществе безудержный и необузданный инфантилизм скован.
Его Величество Дитя за пределами определенного возраста обуздывается.
Обузданный Наполеон в руках Чаплина мог стать вторым скованным Прометеем инфантильной мечты.
Наполеон стал бы в галерее других чаплиновских образов образом разбитого идеала инфантильности.
В соответствии с новейшими временами фашизма, сменившими эпоху «Новых времен» Чаплина, в чаплиновском творчестве происходит заметный сдвиг.
Конечно, именно Чаплин должен был создать «Диктатора».
Чаплин не мог не увековечить подобную бредовую фигуру, которая встала во главе ослепленного государства и потерявшей голову страны.
Инфантильный маньяк во главе государства.
В этом фильме «инфантильный метод» Чаплина глядеть на жизнь и строить кинокомедии стал основой характера живого 519 человека (если прообраз Аденоида Хинкеля можно назвать человеком) и нормами реального управления реальным государством.
Метод комических эффектов Чаплина, безошибочно торжествовавших над средствами его инфантильного подхода к явлениям, перекочевывает в основы характера изображаемого лица («Диктатор»).
Уже не в подавленном виде, как прежде, но в торжествующем, безудержном и необузданном.
Авторский метод становится графиком черт характера его героя.
И к тому же героя, которого на экране собственной игрой воплощает сам же автор.
Вот он — «инфантильный» герой у полноты власти.
Хинкель просматривает предлагаемые ему изобретения неудачных изобретателей.
Вот «непростреливаемый» пиджак.
Пуля Хинкеля беспрепятственно проникает сквозь него.
Изобретатель убит наповал и падает, как негодная рухлядь.
Вот человек с забавной шляпой-парашютом прыгает с высот дворца.
Диктатор прислушивается.
Глядит вниз.
Изобретатель разбился.
Великолепна его реплика: «Опять вы мне подсовываете недоброкачественную дрянь!»
Разве это не сцена в детской?!
Детская свобода от морали, которая так поразительна в зрении Чаплина. Свобода от оков морали, которая дает автору неповторимую возможность представлять смешным любое явление, здесь становится чертой характера его героя, и детская черта, приложенная к взрослому, чудовищна, когда она — гитлеровская действительность, и сокрушительно сатирична, когда она приложена к пародии на Гитлера — к Хинкелю.
Раньше Чаплин всегда играл сторону страдающую, только маленького парикмахера из гетто, которого он играет второй ролью в «Диктаторе».
Хинкелями его других фильмов был сперва полицейский, потом гигант-партнер, хотевший съесть его под видом цыпленка в «Золотой лихорадке», затем много-много полицейских, конвейер в «Новых временах» и образ страшного окружения страшной действительности в этом фильме.
В «Диктаторе» он играет обоих. Он играет оба полярно разведенных полюса инфантилизма:
торжествующего и побежденного.
Кажется, что линия мексиканской границы из финального кадра «Пилигрима» разрезала Чаплина надвое. Хинкель здесь. Маленький парикмахер там.
520 И потому, вероятно, так поразителен эффект именно этого фильма.
И, вероятно, потому именно в этом фильме впервые Чаплин говорит живым голосом.
Ибо впервые не он во власти своего метода и зрения, но метод и целенаправленный волевой показ — в его взрослых руках.
А это потому, что здесь впервые до конца отчетливо, звучно и членораздельно говорит гражданское мужество не только взрослого, но Большого человека, большого с большой буквы.
Пусть это совершается через образ смешного, прыгающего маленького человека, но по-взрослому, по-большому — величественно несет здесь Чаплин свое взрослое, зрелое, клеймящее, обличающее, осуждающее слово фашизму.
Ибо здесь инфантильно не само отношение к этой язве человечества, но впервые инфантильна только форма изложения того клеймящего осуждения, которое лежит в основе этого отношения.
Речь финального призыва в конце «Диктатора» — это как бы символ перерастания Чаплина-ребенка в Чаплина-трибуна.
Когда-то в интервью по поводу «Новых времен» Чаплин высказывался:
«Многим показалось, что в картине содержится какая-то пропаганда, но это только осмеяние всеобщего замешательства, от которого мы все страдаем. Если же я бы попытался рассказать публике, что нужно предпринять в связи со всем этим, — я сомневаюсь, сумел ли бы я это сделать в развлекательной форме при помощи кинокартины. Я должен был бы делать это серьезно с ораторской трибуны»16.
И фильм Чаплина «Диктатор» к концу становится трибуной.
И на антифашистских митингах сам автор «Диктатора» становится трибуном, призывающим к тому единственному, что должно сейчас делать человечество, — к уничтожению фашизма.
Я начал писать свои заметки о Чаплине году в тридцать седьмом.
В 1937 году еще не было «Диктатора».
И прицел его — мерзостный лик фашизма — только-только из первой грязи и крови внутри собственной страны начинал подымать свои жадные кровавые лапы над Европой.
В том же тридцать седьмом году я и бросил писать о Чаплине. Статья не закруглялась, — как видно сейчас, не хватало «Диктатора» для завершения целостности образа Чаплина — творца и человека.
Сегодня мы по пояс в крови борьбы с фашизмом.
И сегодня мы бок о бок не только как друзья, но и как соратники и союзники деремся вместе с Чаплином против общего врага человечества.
521 И в этой борьбе нужны не только штык и пули, самолет и танк, граната и миномет, но и пламенное слово, могучий образ художественного произведения, сокрушительный темперамент художника и сатирика, убивающего смехом.
И вот сегодня —
тем методом или не тем,
тем средством или иным,
теми путями или другими —
именно Чарли, именно Чаплин своим не только наивным, но и по-детски мудрым взглядом, открытым на жизнь,
создает в «Диктаторе» великолепную и убийственную сатиру во славу победы Человеческого Духа над Бесчеловечностью.
Этим самым Чаплин равноправно и твердо становится в ряд величайших мастеров вековой борьбы Сатиры с Мраком — рядом с Аристофаном из Афин, Эразмом из Роттердама, Франсуа Рабле из Медона, Джонатаном Свифтом из Дублина, Франсуа-Мари Аруэ де Вольтером из Фернэ.
И даже, быть может, впереди других, если принять во внимание масштаб Голиафа фашистской Подлости, Злодейства и Мракобесия, которого сокрушает пращой смеха самый младший из плеяды Давидов —
Чарльз Спенсер Чаплин из Голливуда, отныне именуемый Charlie the Grown-up90*.
522 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ*
|
«… Глядь… (Оглядывается, все в вальсе кружатся…)» А. Грибоедов, Горе от ума. |
Сборник закончен. Я оглядываюсь и внезапно почувствовал себя как Чацкий в конце [третьего явления].
«Глядь… (Оглядывается, все в вальсе кружатся…)»
Я часто ловлю себя на таком ощущении.
Взглянешь etc.
А кругом хороводом танцуют не только «Закон жизни», «Бабы», «Моя любовь»1, но и многие более почтенные заглавия фильмов. Я не назову их — пусть сами подумают, причастны ли они к хороводу.
А хоровод этот — хоровод бездумья. Крутит его смена большей или меньшей удачи фильма. Хоровод этот — замедленное чертово колесо не до конца осознанной ответственности перед страной, перед историей культуры, перед своим искусством, перед кристальным воплощением идей нашей страны — перед задачей, требующей всего мозга и сердца нашего, мобилизации всего непосредственного энтузиазма и систематизации всего опыта и знания.
Создания теории и истории кинематографического искусства не только как великого подспорья, но и как средства перспективного охвата тех возможностей, куда способно расти наше искусство, цветущее на почве, где вообще нет пределов развития, — потенциальных возможностей качества предельных степеней для совершенствования.
А «кругом танцуют» и слишком просто думают о нашем сложнейшем искусстве.
Слишком мало у нас «маньяков», задумывающихся над природой нашего искусства, болеющих за художественное его качество, старающихся разгадать тайны.
523 ПРИЛОЖЕНИЯ
525 [ЛИТЕРАТУРА И КИНО]*
[Вопрос] не по специальности (о литературе).
С литературой, сознаюсь, знаком, в общем, очень мало.
Некогда знакомиться.
Для кино больше всего сделал Золя.
Насколько он считается за современную литературу, — не знаю.
Если да, то, вероятно, по классу попутчиков.
Направление советского кино, которое представляют мои работы, несомненно, сродни ему.
Его читал много.
Перечитываю.
Перед каждой новой работой соответствующий том из его энциклопедии.
Перед «Стачкой» — «Жерминаль».
Перед «Генеральной линией» — «Землю».
Перед «Октябрем» — «Разгром» для наступления 18 июня 1917 г. и «Счастье дам» — перед «разделкой»… Зимнего дворца.
Сколько могу, заражаю этим киносовременников. «Фэксы» ставят «Штурм неба» по «Брюху Парижа»1.
Пудовкина крыл за то, что не перечел «Деньги» перед съемкой биржи для «Конца Санкт-Петербурга».
Получилось бы еще лучше.
Молодняку рекомендую сугубо.
Многое сделает для кино Серафимович, когда будет заснят «Железный поток» — самое, на мой взгляд, замечательное произведение. (На этот раз, кажется, безусловно современное.)
Разгонялся ставить его дважды, включая в первый раздел «Конармии» (1924)2 и в послеоктябрьский раздел «Октября».
На третий раз все-таки, думаю, поставлю.
Если Золя — методологически величайшая школа для кинематографиста (его страницы читаются как совершенные монтажные листы), то из современных писателей кино полезны в этом смысле из немногих знакомых мне только 526 двое: Бабель и Федорченко3. Первый навсегда останется незаменимой подсобной «хрестоматией» для новой кинообразности. Понятие, только еще входящее в кино. О нем я вскользь писал как-то для «Кино-газеты»4 и скоро напишу об этом обстоятельнее. Пока прошу принять на веру.
Федорченко любопытна для нас в структурном отношении.
Новые киновещи «пишутся» в близкой ей манере.
На логически не мотивированном, ассоциативном переходе от темы к теме.
Например, корниловское «Во имя бога и родины», триада: присоединение самокатчиков ко II съезду, бомба в Зимнем и сдача казачьей артиллерии; или построение «мать вашу» — в «Октябре».
Сюда же случаи более грузные из «Стачки».
Желающим работать в подобном плане многим может помочь «Народ на войне».
В этом отношении Федорченко — более доступное, правда сказать, и менее богатое «издание» Джемса Джойса.
«Улисс», конечно, наиболее интересное для кинематографии явление на Западе5.
Не знаю, как в литературном [отношении], думаю, что тоже.
Во всяком случае, как ни странно, с писаниями Джойса я знаком.
Не придется ночью наспех читать, как Драйзера, накануне официальной встречи с ним6.
Федорченко и Джойс очень близки современной кинематографии. Правда, более чем наполовину еще «имеющей быть».
Та же «деанекдотизация» и непосредственное выявление темы через сильно действующий материал.
Совсем стороной от сюжета, только еще из добросовестности фигурирующего в произведении.
Та же «физиологичность» детали.
Крупным планом.
При чисто интеллектуальном эффекте — отвлеченном выводе через их физиологическое посредство.
Опять кино.
У Джойса, конечно, значительно больше.
По требованию обличительных, полемических и прочих многочисленных задач, которые ставят себе «Улисс» или «Молодость автора»7.
Федорченко больше фиксаторша, но в конструкции работает так же.
Остальная литература мне кажется с точки зрения полезности для кино только, хотя и этого за глаза довольно, неисчерпаемым фундусом, хранилищем материалов.
Наша литература — [материалов] фактических по преимуществу.
Тем более ценных.
Для меня большой склад бытовых, социальных и пр. — «вырезок».
Замечательна, например, киржацкая партизанщина Шишкова8, не говоря уже о «Чапаеве» и пр[очем] «общепризнанном».
Правда, чаще всего по этой линии их бьют газета, мемуары или специальные исследования.
Увлекательнее, экономнее и с большей пользой, чем любой роман, читается, например, Кондурушкин («Частный капитал перед советским судом»)9.
Даже не лишен своеобразного «изыска».
Чем плоха такая протокольная выписка?
527 Список ленинградских спекулянтов бр[атьев] Уша, привлекавшихся в 1924 году за систематическую дачу взяток по делу Сев[еро]-Зап[адной] ж[елезной] д[ороги].
(От суда бежали).
Уша, Григорий — торговец.
Уша, Любовь — студентка Первого Ленинградского госинститута.
Уша, Хая — студентка мединститута.
Уша, Александр — торговец.
Уша, Вульф — студент-политехник.
Уша, Меер — студент-торговец.
Уша, Зоя — студентка.
Квартира из четырех комнат с шикарной обстановкой, есть две прислуги, дача.
Это же почти Ругон-Маккары.
Совершенно исключительны и другие книги — полустатистика особенно, — когда они написаны еще в несколько большей патетичности, чем писания прокурора республики.
Здесь, конечно, на первом месте — «Маклочане» О. Давыдова и «Деревня на переломе» Бурова10.
Правда, в какой это мере считается за литературу с большой литеры «Л», я не знаю.
Во всяком случае, по линии социального «вспарывания» современных проблем и по линии накопления чистого материала — это ценнейшее в ней (в современной литературе).
«Цемент»11 же для кинематографии — даже не строительный материал.
Более всего, я думаю, он годился бы для металлопластики (с «бронзой» закатов и волос).
О «взаимоотношениях» могу сказать, что сейчас пройден последовательный путь очищения кинематографии от:
1) литературы (примитивной, оперирующей только сюжетом: авантюризм чистый — «Рокамболь», «813», «Нибелунги»12 или авантюризм психологический, например «Парижанка»13);
2) театра (игровой жанр);
3) живописи (немецкая «школа»)14;
4) Наркомпочтеля (работа киноков).
Начиная находить свои собственные пути, кинематография обнаруживает сейчас любопытный стык снова с литературой же, но, в отличие от первого периода, — с формальной ее стороной (см. выше).
В этом плане можно говорить о том, что несомненно чувствуется общий стиль развития, хотя «стиль» и сомнительное обозначение там, где более подходяща терминология из генетики или экспериментальной биологии.
В сегодняшних тенденциях по отысканию форм, действительно ей присущих, кинематография лучшую опору находит в том, что происходит в области обновления форм литературных.
Это помогает лучше разобраться в ряде проблем, возникших совершенно самостоятельно из киноматериала, пользуясь опытом и аналогиями из «соседней» сферы.
Здесь литература работает «на пару» с джаз-бандом.
По вопросу, что нужно кино от литературы, можно сказать с определенностью, во всяком случае, одно:
528 т[оварищи] литераторы, не пишите сценариев!
Производственные организации заставляйте покупать ваш товар романами.
Продавайте право на роман.
А режиссеров следует заставлять находить киноэквиваленты этим произведениям.
(Когда это требуется.)
Таким путем мыслимо и обновление и оплодотворение также и формальной стороны и возможностей кино, а не только тематически-сюжетной, что, в конце концов, с успехом выполняется и другими родами литературы (см. выше).
«Номерной» сценарий вносит столько же оживления в кинематографию, как номера на пятках мертвецов морга.
Писать сценарий — все равно что звать акушерку в брачную ночь. — Это золотые слова Бабеля периода, когда мы с ним делали сценарий «из» «Бени Крика»15.
Для «дирекции». Потому что строить я бы его стал все равно по полнокровной новелле, а не по рахитичному «расписанию кадров», лишенному установки, тенденции ритмов, темпов и физиологической ощутимости того, за что стоит платить деньги авторам.
Это, конечно, самостоятельная тема, которую давно следовало бы поставить на широкое обсуждение.
О связи же кино и литературы как таковой следует признать, что связи этой все же подлежит быть платонической.
Кино уже достаточно самостоятельно, чтобы непосредственно из своего материала и на семьдесят пять процентов минуя литературу выполнять директивные данные и возлагаемый на него социальный заказ.
Оно уже выросло из возраста второй производной — принимая литературу за первую — от бытовых предпосылок и положений по перестроению их.
Программа остается прежняя: «Мир хижинам — война дворцам».
Допуская всяческое взаимоотношение в настоящий период становления как советской литературы, так и кино, в перспективе все же держать надо кино, непосредственно работающее на агитпроп.
В заключение два слова о критике.
Здесь, по-моему, дело очень неблагополучно.
По крайней мере по киноделу.
Большинство из них [критиков] никак не посвящено в вопросы того, о чем они пишут.
Просто обидно за кино, когда видишь, до какай микроскопичности дорабатывается критика литературная.
О кино же судят только по «личному восприятию» или… пристегиваясь к очередному «ходкому» выражению, оброненному в политическом докладе совсем по другому вопросу.
Конечно, и личное восприятие не так уже скверно. Правда, это в первую очередь зависит от личности.
Скажем лучше о восприятии.
Дело в том, что с восприятием-то дело неблагополучно.
Восприятие критика-профессионала — восприятие, да простят мне выражение, — проституированное по сравнению с настоящим, «нетронутым», здоровым зрительным восприятием.
С другой же стороны, критик в области знания киноспециальности «недотронут».
529 Поэтому барахтается как в проруби.
От одних отстал — к другим не примкнул.
Лично очень уважаю Блюма16.
На всякое «фигли-мигли» он всегда в нужный момент умеет прикрикнуть (читать басом): «А что это дает рабоче-крестьянскому зрителю?»
Так было в недавней дискуссии о «Парижанке».
А эту формулу слишком часто забывают наши оценщики, особенно из тех, что поквалифицированнее.
Ведь согласитесь, трудно себе представить объективную положительную оценку киноявления, абсолютно правильного, но имеющего несчастье быть «не по душе» данному автору.
Сколько раз цитируется Ленин с показным пафосом в защиту культур-фильма17 нашими профессиональными в душе поклонниками межрабпомовского салона18.
И как за ними слышится скорбный вздох о том, почему же Ильич считал именно культур-фильм таким полезным…
530 [ЧТО МНЕ
ДАЛ В. И. ЛЕНИН]
Ответ на анкету*
[В. И. Ленина] не видел.
Желание видеть продиктовало — воспроизвести.
Не воссоздать. Образ Ильича невоссоздаваем1.
Портретов Ленина не видно.
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет2.
Воспроизводим. В картине юбилея Октября — «Октябрь».
Со всем бураном нападок талмудистов чистой киноформы и талмудистов «киноправды» документализма3.
Тех, кто задет показом вождя не только в героической позе, но и [в] подпольно[м] [облике] (Ильич с подвязанной щекой и в темных очках).
И тех, наконец, кто видел Ильича. Тех педантов, для которых [не важен] эмоцион[альный] подъем у масс [от] наличия Ильича в картине [и которые] предпочитали терзать его облик по пуговицам и деталям, не протокольно совпадавшим [с документальными].
Но сквозь сети колючей проволоки этой расчет прорвался и оказался верным: Ильич воспринялся не как бытовой персонаж, а [как] символ. На обоих полюсах: и наши рядовые массы зрителей и зрительские массы, напр[имер], Америки в равной мере электризовались, хотя и под противоположными знаками, наличием бледной тени вождя.
На большее, чем тень, мы не претендовали.
* * *
В те времена термин «марксизм-ленинизм» не был еще в обиходе.
Даже «диалектика» не была еще ходким термином — панацеей на любое затруднение теоретического порядка не только в лапах любого упрощенства, как в недобром близком прошлом, но даже в авангарде дравшихся за подлинное искусство.
531 Для тех времен вопрос исчерпывался диалектикой «вообще», еще не отточенной и [не] оформленной в теоретическую жесткость формулировок по марксизму-ленинизму, как мы видим ее на сей день.
Но это было уже то, что, базируясь на тех же принципах, служило базисом для достижений последних лет теоретической борьбы и достижений философии марксизма.
Я имею в виду ранние двадцатые годы.
* * *
Со зверской упорностью и педантизмом врезался и врывался я в самые корневища моей тогда[шней] работы. Законы выразительности человеческих проявлений стояли в центре моих исканий, творческих и теоретических.
Зайдя достаточно глубоко, не мог я [не] нарваться на обнаружение всеобщей законности, в равной мере принадлежащей всем [выразительным] проявлениям.
На диалектику природы.
На диалектику природы человека.
Кажется, в [19]22 году впервые произошел толчок и «встречный», то есть со стороны оформленных марксистских положений теории.
Почти что анекдот: мои ученики по Пролеткульту обращают мое внимание, что я твержу им что-то очень принципиально схожее [с тем], что им твердят в марксистском кружке. (Законченного курса марксистских дисциплин тогда при театрах не было. Да и даже так они лишь частью, боком входили в совсем иначе ставившийся тип занятий — «политчас».)
Оставалось лишь «назвать» своими именами ряд положений и доосознать их в «целокупности» единства принципов с другими явлениями и системами.
* * *
Впервые на кино вновь осознанные методы материализуются по отношению к «Стачке».
Характерно.
Снова не a priori91*, заранее или предвзято [продуманно], а к концу, к суммированию, к итогам.
Солидный экскурс в историю предреволюционного подполья и классовой борьбы против царизма ширит понимание вопросов марксистских дисциплин.
Делается даже отчаянный набег догнать, осознать и сформулировать в теоретические положения далеко их опередившую практику «Стачки». Ни методологического опыта, ни опыта анализа еще нет. Делаю статью [«К вопросу о материалистическом подходе к форме»] в журнале АРК4. Единственное достоинство ее, пожалуй, то, что впервые диалектика и выразительные средства кино так ставятся во взаимосвязь неразрывности. Статья делает попытку впервые, собственно, начать локализировать, куда, как и к чему может быть приложим диамат (тогда и этой агглютинированной формулы ведь даже не было в порядке обращения!). […] С высот диалектических завоеваний на сей день ее читать, быть может, и забавно. Но рассмотрение достоинств или недостатков не может быть вообще, а лишь в условиях того времени и той обстановки. Возьмите огулом то, что строчится ходким диаматическим «штилем» и легкостью крылатого критического пера сегодня, а не в двадцать втором, четвертом или третьем! Большинство [писаний] по-своему не менее смешны 532 и могли бы хорошими панданами служить к бессмертным цитатам о «диалектике рыбной промышленности», навсегда заклейменным тов. Стецким5 в статье его об упрощенцах («Правда»).
Два года [положения моей статьи] углубляются затем на практике.
В двух фильмах метод диамата глубоко входит в мозг костяка конструкций.
«Потемкин» и «Старое и новое».
И снова только через год-другой происходит сознательный учет [того], что сделано по этой линии.
За недостатком времени и места отмечу только один факт приемов конструирования в обоих фильмах и любопытную диалектику его развития от фильма к фильму.
С непреложной повторностью из акта в акт пяти частей «Потемкина» возобновляется прием контрастного строения.
Одно настроение, состояние, действие.
Цезура.
Перелом на 180 градусов. На резко и прямо противоположное.
Оцепенение на юте под угрозой командира.
Мертвая пауза дрогнувших винтовок.
«Братья!» — и бунт.
Мертвый матрос в порту. Все разрастающийся траур.
Сжимается кулак.
Призыв. Клокочет митинг. Красный флаг взлетел на мачту.
Белой стаей лодочек мчится энтузиазм Одесской лестницы в объятия восставшего броненосца.
Минута замешательства. И майская весенняя радость первой революции смята солдатским сапогом царизма. На смену белокрылым яликам — катящиеся массы человеческого мяса по окровавленным ступеням.
Ночь. Напряжение. Ожидание встречи с эскадрой. Опять оцепенение затаившихся как будто бы перед боем эскадры адмирала и встречного «Потемкина». Опять цезура поднятых дул. На этот раз многодюймовых орудий. Но дула падают. И снова «Братья!», «Ура!» и прочее.
Не для передачи содержания фильма я привожу это здесь. А для того чтобы показать, как часть за частью первая половина каждого акта из пяти, резко переламываясь, перебрасывается в противоположность. Но вопрос противоположностей, единства их еще представлен здесь в простейшей форме — в форме формального контраста внутри единой единицы акта. Пока что не конфликта, не становления конфликтного второй противоположности из первой в единстве, обусловленном не единством ролика, а тезисом единства тематической данности. Еще нет.
Судьба «Старого и нового» достаточно известна. По ней проехал гусеничный трактор времени вдоль, и трактор нового очередного поворота политики по линии колхозов и совхозов поперек. Картина, задуманная и частью снятая как вопль о недостаточности работы в деревне (1925 – 1926) — это идет в ногу с лозунгами тех дней, — становится картиной показа достижений работы на деревенском участке. Никто не виноват, что за три года [с] таким размахом шагает строительство социализма. «Не виноват» и фильм. Не виноваты и авторы, мимоходом снявшие за это время еще картину «Октябрь».
Но расплачивается фильм.
Расплачивается позвонками и переломанным хребтом.
533 От цельности первичной концепции остались первые три акта. И агитпропкартина второй части фильма…
Поэтому здесь речь только о первых актах.
И здесь уже принципиальное продление контрастной линии конструкции частей «Потемкина», [но] уже по линии конфликтной.
Тут противопоставление частей внутри единого ролика уже диктуется не внешним ритмом, не внешним темпом, [не] внешней динамикой.
Здесь даже, если хотите, пространственного формально внешнего противопоставления вовсе нет.
Действительно:
молебен в поле — сепаратор (вторая часть);
драка вокруг дележки денег — и образцовый скот (третья часть);
скотская жизнь старой деревни и группа крестьян на митинге (первая часть).
Зато противопоставление здесь внутреннее и противопоставление, идейно обусловленное и генетически-смыслово вырастающее одно из другого.
В «Потемкине» траурные «настроения», достигнув апогея, перебрасываются в эмоцию гнева.
И радость на лестнице сминается «из-за кадра» самого действия вступившим «залпом» солдатского сапога.
Здесь — безысходность «идиотизма деревенской жизни» (Маркс) взрывается возгласом «Так жить нельзя», и вторая половина ролика перемахивает не в противоположность контрастирующей киноформы другой динамики, а в сторону противоположной социальной идеологии и формы — колхозного строительства — органическим отрицанием, взрывающимся из ада форм бедняцкого житья индивидуальными хозяйствами.
Так же дождевые шлюзы, на откуп данные Илье-пророку богом, никак по зрительности экстаза крестного хода не могут внешне быть поставлены в противоположность любопытствующим крупным планам [крестьян, стоящих] вокруг «броненосцем» снятого сепаратора.
А между тем… Взаимосвязь, взаимоисключение, взаимоотрицание вчерашнего шаманства и техники сегодняшнего дня и явны и очевидны из этого сопоставления формально не контрастирующих элементов.
И то же в третьей части, где последний бой с собственничеством, «внутренним кулачеством» сошедшихся колхозников внезапно вырастает тучными коровами и «днепростроями» молочных водопадов — коллективными достижениями, опять-таки работая конфликтом пары без контраста внешностей…
Быть может, парадокс[альность] и аскетизм, в которых взяты эти противопоставления, [при] подчеркнутом пренебрежении формальным озолочением [их] для зрительского удобства и приятности потребления — одна из тех причин, что заставляла многих реагировать с меньшей интенсивностью непосредственности на «Старое и новое», чем на «Потемкина». Однако серьезной критикой отмечалось всюду превосходство концепции «Старого и нового» (частями) [над] «Потемкиным», побившим его единством формальной конструкции. Как будто для дальнейшего — напрашивается синтез метода обеих постановок.
* * *
Об «Октябре» и диалектических «предэлементах» в нем и перспективах из них. Достаточно отметить, что еще в кусках и на монтажном столе из ряда монтажных экспериментов «Октября» родилась мысль к созданию фильма о «Капитале» Маркса.
534 Вернее, фильма — о методе диалектики.
Ростки того, что было в «Октябре», давали уже повод взяться за изложение подобного в экранных формах.
Ряд нужных теоретических проработок перед тем, как приступить к такому «Магнитогорску» кинематографии, и личное указание по этому [поводу] со стороны тов. Сталина (в беседе с ним весною 1929 г.) о более первоочередных заданиях заставили пока отсрочить выполнение этой темы6.
А главное, что к ней невозможно будет подойти лишь во всеоружии всеовладенности звуковой техникой.
Звуковой техникой не в плане болтающегося микрофона звукового ателье, где мы имеем уже не одно очко успеха, а в плане микрофона правильного мышления материалом звука, звукообраза и сочетания зрительного со слуховым.
По этой линии пока что мы менее чем сосунки. И хорошо снятые результаты посредственного театра еще не делают весны в советской кинозвуковой погоде!
Экранизация теории марксизма-ленинизма придет тогда, когда экранный рупор твердо будет держаться на теории марксизма-ленинизма, легшей в основу осознания методики и методов советской звуковой кинематографии.
* * *
Еще спустя год, как ни странно сейчас подобное звучит, мне приходится драться за метод диалектики в… учебном заведении.
Включившись в дело ГТК в [19]28 году, на части знания ремесла уже вскрыв диалектику внутри его специфики, на других участках лихорадочно [до]рабатываясь до того же, нуждаясь в том, чтобы ученики владели этим же мышлением, языком и методом, нуждаясь сам в проверке и критике через коллектив, я внезапно нарываюсь на дикое явление.
Трехгодичен курс ГТК.
Марксистские дисциплины хотя и боком, а не в центре, но все же в плане присутствуют.
Но как!!!
Первый курс проходит историю партии
Второй — исторический материализм.
Третий, и то к концу учебного года, то есть когда мозги направлены [нa] дипломную работу, — немного на прощание снабжается диалектическим материализмом!
Сейчас это звучит невероятно.
Однако это факт, и вовсе не в средневековой, а в наивысшей киношколе [19]28 года.
Я подымаю бунт. Я вопию.
Мне кажется нелепым что обучению методу, [на котором должно основываться] прохождение всех дисциплин где-то на ходу в конце отводится два-три часа.
Сейчас это трюизм. Об этом неловко писать.
В те времена логику моего требования осаживают «так принятым порядком преподавания марксистских дисциплин согласно программ их обучению по совпартшколам».
Конечно, это не аргумент в обычном смысле слова, но бюрократический автоматизм всегда успешно замещал аргументацию.
Из аргументов же приводится
диалектический материализм — такая высокая далекая философия, что 535 смертного простого подпустить к ней сразу никак не полагается. Звучит курьезом. […]
И верх курьеза — мне самому приходится вступительные лекции отдать на то, чтоб плану поперек снабдить студенчество компилятивно собранными данными по диалектике как таковой.
По той простой причине, что вне ее я не могу перед ними излагать ни одного теоретически разобранного и обоснованного положения по моему предмету.
Затем я уезжаю за границу.
Еще из Мексики я шлю обеспокоенный запрос в партколлектив ГТК, преобразившегося в вуз ГИК, о том, что делается с диалектикой… И снова анекдот.
Я возвращаюсь, чтобы застать последних ракушек, козявок и обломки разрушений только-только отхлынувших потоков мутных вод разлива Миссисипи «диалектического» упрощенчества, сокрушивших и затоплявших словоблудием стены института, два года тому назад не находившего лазейки для диамата внутри своих программ.
Период море-океана этого внутри стен ГИКа для меня благополучно миновал.
Мы снова стоим у исходных позиций. Но только теперь уж с верным соратником — кафедрой диалектического материализма, работающей с первого курса насквозь.
Недолет: [19]28 — [19]29.
Перелет: [19]30 — [19]32.
В точку: вступающий год [19]33.
Вступающий год [19]33 должен стать решающим в деле внедрения марксизма-ленинизма в теорию кинематографии в неразрывности со школой, чтобы обеспечить методом практику, слепым котенком тычащуюся по линиям наименьшего сопротивления.
И здесь работа крупнейшей серьезности. И здесь придется вспомнить еще одно столкновение с марксизмом, еще не отлившимся в метод марксизма-ленинизма.
И здесь будет речь идти о Плеханове.
И отнюдь не вообще, а лишь потому, что это в тесной связи с одним поворотом, который необходим в марксистском овладении методом кинематографии.
Киношкола не знает пока и не выработала еще методик по диалектике составляющих ее дисциплин.
Если [в кинотеории применяется] марксизм, то в лучшем случае — историко-социологически.
К тому же достаточно поверхностно и «вообще».
С приближением к диалектике предмета специальные дисциплины пасуют.
То есть с приближением к тому, что определяет принципиальную сводку, общую диалектическую специфику данной дисциплины из опыта диалектического хода ее развития.
Не под знаком и [в целях] нахождения абсолютных и имманентных законов в себе и для себя, а в нахождении агрессивной диалектической методики дальнейшего поступательного развития кинематографии, взятой под учет марксистско-ленинской осознанности.
И тут вспоминается Плеханов.
Со всем блеском излагавший ретроспективный взгляд на экономическую обусловленность специфик Банвилей, Бодлеров, Сезаннов или ранних 536 Пикассо7, он метод исторического материализма совершенно неспособен обернуть вперед — по наступательным путям на будущие линии.
Хуже — он неспособен разглядеть поступательную диалектику в идущих рядом современниках, как и в событиях [не видит] заложенной в них гигантской потенции принципиальной классовости развития. Отметим лишь чудовищную ошибку Плеханова по отношению к Горькому (по «Матери»)8 в сопоставлении с ленинской оценкой.
И где же требовать, чтобы в его учении был бы еще свод методологических указаний, способных навести и повести к дальнейшему движению вперед, если даже в идущем рядом с ним поступательном движении вперед он неспособен разглядеть его, ибо очи его направлены лишь исторически обратным методом, лишь назад.
И если история есть политика, обернутая назад, то то, что я в данном месте понимаю под диалектикой [той или иной] дисциплины, в отличие [от] историко-социологического ее чтения, есть метод исторического материализма, направленный вперед.
Одним «истматом» дисциплины жив не будешь.
Под диалектикой учебного предмета здесь я понимаю сведенность опыта по изучению материалистической истории развития данной отрасли и дисциплины в ряд тех принципиальных положений, которые могут лечь в основу творчески поступательного развития данной дисциплины вперед. […]
Через ист[орический] мат[ериализм] предмета дисциплины вести к принципам диалектики предмета.
И повернуть ист[орический] мат[ериализм] из области, теряющейся в глубине веков, вперед и в сторону веков грядущих, истории, творимой пролетариатом, — не «творимой легенды» сдыхающей буржуазии, а [строящейся] реальности пролетарской культуры как элемента пролетарской победы в реализации бесклассового общества.
Не только марксистско-ленинскую историю предмета, но и подлинную марксистско-ленинскую теорию предмета кинематографии в [19]33 году должна реализовать советская кинематография.
И это будет подлинным отражением учения Ленина в кино, предшествующим отображению его учения на экране.
И вот один из пунктов по вузовскому соцсоревнованию, который на текущий год себе поставила кафедра режиссуры Гос[ударственного] института кинематографии.
537 КОММЕНТАРИИ
538 Комментарии составили:
Карягин А. А., Клейман Н. И., Козлов Л. К., Красовский Ю. А., Михайлов В. П., Юренев Р. Н.
539 Крупным планом
(Вместо предисловия)*
Публикуется впервые по сохранившемуся в архиве Эйзенштейна черновому наброску предисловия к сборнику «Крупным планом», который в 1940 г. подготавливался к печати, но впоследствии издан не был (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
История и теория кино
Будущее советского кино*
Печатается по тексту первой публикации (журнал «Красная панорама», Л., 1927, 1 октября, № 40, стр. 7 – 8) с уточнениями по авторизованному машинописному тексту (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 939).
Эта статья важна прежде всего как попытка Эйзенштейна соотнести свои собственные требования к искусству с объективной картиной взаимодействия различных направлений в кинематографе второй половины 20-х гг.
Эйзенштейн по-своему осмысливает уже определившееся в советском кино стремление пристально исследовать характер и судьбу индивидуального героя. Предлагаемый им путь — использование типажа — не оказался в этом отношении ни единственным, ни решающим, хотя и показал свою плодотворность в собственной практике Эйзенштейна: в фильме «Генеральная линия» («Старое и новое»), над которым автор работал как раз в эти годы, — а затем в незавершенном фильме «Да здравствует Мексика!».
Эйзенштейн выступает против актерского кинематографа, обращенного к «сопереживанию», против самоценности персонажа как такового. (Развитие и уточнение этой идеи можно найти в ряде его позднейших работ, вплоть до последней статьи «Цветовое кино», см. том III настоящего издания, стр. 579 – 580.) В своем зрителе Эйзенштейн хотел найти не бытовое сопереживание с тем или иным персонажем, а более широкое и глубокое «сопереживание» с общей авторской идеей. Вот и здесь он требует не сводить образ к персонажу и включать индивидуальные человеческие характеристики в единое построение, решающее задачу общеидейного воздействия на зрителя.
540 Важнейшие мысли этой статьи явились в тот момент как бы связующим звеном между теорией «монтажа аттракционов» и гипотезой об «интеллектуальном кино».
1 «Парижанка» — фильм Чарли Чаплина (1923), надолго ставший образцом психологического кинематографа и оказавший влияние на многих мастеров мирового кино.
2 «Варьете» — популярный в 20-е годы немецкий фильм по роману Ф. Холлендера (сценарий Карла Майера, постановка Эвальда А. Дюпона, 1925).
3 Первое Всесоюзное партийное совещание по вопросам кино проходило 15 – 21 марта 1928 г.
4 «… только рабочие могут играть рабочих» — формула, относящаяся к началу 20-х годов и выражавшая теоретические предрассудки некоторых руководителей художественных организаций Пролеткульта.
5 «Саламанкская пещера» — по-видимому, Эйзенштейн имеет в виду интермедию Сервантеса «Саламанкская пещера» («La cueva de Salamanca») («Восемь комедий и восемь интермедий», 1615), сюжет которой заимствован у Дж. Боккаччо.
Наш
«Октябрь»
По ту сторону игровой и неигровой*
Печатается по тексту первой публикации (газета «Кино», М., 1928, 13 марта, № 12) с дополнениями и исправлениями по автографу С. М. Эйзенштейна, датированному 8 марта 1928 г. (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 957).
Эта статья отразила попытку Эйзенштейна теоретически спроектировать возможный путь развития своего творчества (и советского кинематографа) после «Потемкина».
Опираясь на опыт создания фильма «Октябрь», Эйзенштейн утверждает подчинение кинематографического материала обобщающей авторской идее. По отношению к этой идее оказывается малозначащим разграничение кинематографа на «игровой» и «неигровой», развивавшееся (подчас догматически) в дискуссиях тех лет. Эйзенштейн стремится к тому, чтобы материал фильма стал гибкой и развитой «словесностью» для зримого высказывания социальных понятий, оценок, лозунгов, воздействующих в равной мере на чувство и интеллект зрителя. Перед нами первая по времени формулировка теории «интеллектуального кино» (см. исследование «Перспективы» в томе II настоящего издания). Эйзенштейн ссылается в этой связи на те эпизоды «Октября» (построенные на обнаженном монтажном обобщении), которые представлялись ему открытием новых и перспективных принципов строения фильма.
Путь, провозглашенный Эйзенштейном в этой статье, оказался недостаточно реальным, и гипотеза о «кинематографе понятий» подверглась критике. Осуществить и проводить теорию «интеллектуального кино» на практике Эйзенштейну не удалось: фильм «Капитал» не был поставлен. А в ближайшие последующие годы стало очевидным, что общее развитие советского кинематографа пошло по иному пути.
Тем не менее гипотеза об «интеллектуальном кино» стала необходимым этапом в развитии эйзенштейновской теории, и ее последующее переосмысление привело к плодотворным выводам (например, в теории «внутреннего монолога» — см. исследование «Одолжайтесь!» в томе II настоящего издания).
1 541 «Варьете» — см. прим. 2 к статье «Будущее советского кино».
2 «Шестая часть мира» (1926) и «Одиннадцатый» (1928) — поэтические документальные фильмы режиссера Дзиги Вертова.
3 … традиционными, как Рунич и Худолеев… — Речь идет об известных актерах русского дореволюционного кино; имена их взяты как условное обозначение старого, отошедшего.
4 Ефимов Алексей Владимирович (р. 1896) — советский историк.
Предисловие
[К книге Гвидо Зебера «Техника кинотрюка»]*
Публикуется по кн.: Гвидо Зебер, Техника кинотрюка, М., «Теакинопечать», 1929, стр. 3 – 8. Авторский подлинник не сохранился.
Это предисловие явилось одним из творческих манифестов Эйзенштейна и документом, важным для понимания его теоретических взглядов конца 20-х гг. Автор продолжает свои мысли о возможностях «интеллектуального кино», высказанные в статьях «Перспективы» (см. том II) и «Наш “Октябрь”. По ту сторону игровой и неигровой» (см. комментарии к этим статьям).
Исходя из новых задач социального и культурного развития, Эйзенштейн требует, чтобы кинематограф перешел от прямого лозунгового воздействия на зрителя к воздействию более сложному — к «включению углубленных мыслительных процессов». В этом и усматривается главная общественная функция «интеллектуального кино».
В статье очевидны полемические крайности — например, выпады против «подозрительного багажа драматического и психологического прошлого». Здесь нужно вспомнить высказывания Эйзенштейна, сделанные спустя несколько лет, — о том, что развитие советского кино пошло как раз «под знаком приближения к проблемам характера и драмы» (см. том II, стр. 95).
Вместе с тем за крайностями полемики необходимо видеть и глубокую теоретическую постановку проблемы «кино и литература». Заимствование у литературы способов сюжетного и фабульного построения Эйзенштейн рассматривает как уже решенную задачу — и высказывает мысль о необходимости идти дальше. В качестве назревшей и актуальной задачи он выдвигает более глубокое и детальное освоение представленных в литературе принципов и способов воплощения образной мысли автора («язык», «речь», «словесность»). Покамест это связывается автором с гипотезой об «интеллектуальном кино». Однако в дальнейшем эта постановка проблемы приведет Эйзенштейна к более широким и общезначимым результатам и породит, в частности, его классические исследования структуры прозаического и стихотворного текста с точки зрения кинематографа (см. во II и III томах: «Монтаж», «Монтаж 1938», «Пушкин и кино», «Неравнодушная природа»).
Исходным пунктом для оценки и использования любых технических возможностей кино Эйзенштейн считает монтажную мысль.
1 Зебер (Seeber) Гвидо (р. 1879) — немецкий кинооператор. Сотрудничал, в частности, с режиссерами Паулем Вегенером («Голем», «Как Голем пришел в мир») и Г.-В. Пабстом («Безрадостный переулок»). Первое издание его книги вышло под названием «Der Trückfilm» (Berlin, 1927).
2 … (система «старое» и «ведетт»)… — «Star» (англ.) — «звезда», «vedette» (франц.) — слово, обозначающее видную личность, знаменитость, ставшее синонимом «кинозвезды».
3 542 «Доктор Калигари» — «Кабинет доктора Калигари» (1920) — экспрессионистский фильм немецкого режиссера Роберта Вине.
4 Эйзенштейн пересказывает один из эпиграфов к «Египетским ночам» Пушкина: «Кто этот человек? — О, это большой талант; он делает из своего голоса все, что захочет. — Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны».
5 Картпостальный эффект — от франц. carte postale (открытка).
Письмо в ГИК*
Написано в 1931 г. Публикуется по фотокопии из архива Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1065).
Находясь за границей — в США и Мексике, — Эйзенштейн продолжал поддерживать связь со своими учениками. Данное письмо написано вскоре после того, как Гос. техникум кинематографии был преобразован (в августе 1930 г.) в Гос. институт кинематографии. Письмо характеризует те главнейшие требования, которые Эйзенштейн неизменно предъявлял делу подготовки молодых кинематографистов: «Обучать невозможно — можно только учиться. Нужно уметь брать и заставлять себя давать. Самое великое искусство — это умение ставить вопросы и добиваться ответов». В этих словах — кредо Эйзенштейна-педагога и одновременно точная характеристика тех его качеств, которые всегда проявлялись в его духовном общении с людьми.
1 … как ведется в ГИКе сейчас преподавание диамата… — См. в этом томе также анкету «Что мне дал В. И. Ленин».
2 АРРК — Ассоциация работников революционной кинематографии — объединение советских кинематографистов в 1924 – 1935 гг.
3 … с проектом будущей нашей картины «Пятилетка»… — проект документального фильма, в котором киноматериалы социалистического строительства в СССР должны были быть противопоставлены кинодокументам кризиса, потрясшего США. Замысел фильма осуществлен не был, так как Эйзенштейн должен был срочно покинуть США и вернуться на родину.
В интересах формы*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Кино», М., 1932, 12 ноября. Авторский подлинник не сохранился.
Статья относится к тому времени, когда в литературных и художественных организациях началась дискуссия о формализме. Формальный метод в теории искусства и проявления формализма в художественной практике подверглись широкой критике. Эйзенштейн имеет в виду тот неразборчивый и огульный характер, который зачастую принимала критика формализма, — и предостерегает от возникающей в связи с этим опасности: оторвать вопросы идейного содержания от вопросов формы. Мысли, высказанные в этой статье: о содержательности художественной формы, ее неразрывности с идеей, необходимости борьбы за совершенное воплощение нового содержания, — вскоре были развиты в исследовании «Э! О чистоте киноязыка» (см. том II).
1 Готье Теофиль (1811 – 1872) — французский поэт, прозаик и критик.
2 См.: Греческо-русский словарь, изд. 3, исправленное и дополненное. Обработал А. Ф. Поспишиль, Киев, 1901, стр. 467.
3 543 … болезнь второго и третьего пунктов триединой совокупности материализованной идейности… — Значения слова «идея» полагаются здесь в том порядке, в каком они поставлены Эйзенштейном (см. выше). Речь, стало быть, идет о «способе изложения» и «наружности — виде».
4 Здесь, по-видимому, приводится перевод самого Эйзенштейна. В сб. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» это письмо Ф. Энгельса Ф. Мерингу переводится так:
«Кроме того, опущен еще один только пункт, который, правда, и в работах Маркса и моих, как правило, недостаточно подчеркивался, и в этом отношении вина в равной мере ложится на всех нас. А именно — главный упор мы делаем сначала на выведении политических, правовых и прочих идеологических представлений и обусловленных ими действий из экономических фактов, лежащих в их основе, — и так мы должны были делать. При этом из-за содержания мы тогда пренебрегали вопросом о форме: какими путями идет образование этих представлений и т. п.
… Это старая история: вначале всегда из-за содержания не обращают внимания на форму. Повторяю, я сам это делал, и ошибка всегда бросалась мне в глаза уже после. Поэтому я не только далек от того, чтобы упрекать Вас за это, — наоборот, как виновный в том же еще раньше Вас, я даже не имею на это права, — я только хотел бы обратить Ваше внимание на этот пункт для будущего» («К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I, М., «Искусство», 1957, стр. 105, 106).
5 «Скучно на этом свете, господа!» — заключительная фраза гоголевской «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
6 «Лабардан! Лабардан!» — реплика Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор».
7 … как говорил не то Талейран, не то Меттерних. — Имеется в виду известное изречение Талейрана (1754 – 1838): «Слова даны человеку для сокрытия своих мыслей» — ироническая парафраза слов доктора Панкраса из комедии Мольера «Брак поневоле»: «Слово дано человеку для выражения своих мыслей…».
Наконец!*
Печатается по тексту первой публикации — «Литературная газета», М., 1934, 18 ноября. Авторский подлинник не сохранился.
Эта статья является необходимым дополнением к статье «Средняя из трех». Появление фильма «Чапаев» стало для Эйзенштейна сильнейшим аргументом в отстаивании его взгляда на развитие советского кино в 20 – 30-е годы, в утверждении необходимости синтеза всех художественных завоеваний, достигнутых за это время.
Большой интерес представляет то, как Эйзенштейн прилагает к развитию советского кино понятия «поэзия» и «проза». Это разграничение, выдвинутое В. Шкловским в 1928 г. по отношению к различным принципам структуры фильма (см.: В. Шкловский, За сорок лет, М., «Искусство», 1965, стр. 96 – 99), у Эйзенштейна приобретает историко-теоретический смысл как характеристика различных этапов художественного развития кинематографа.
Краткий анализ особенностей фильма «Чапаев» оказался как бы прологом к сравнительному исследованию «Потемкина» и «Чапаева» в будущей работе Эйзенштейна «Еще раз о строении вещей» (см. том III).
1 544 … из статьи моей к юбилею пятнадцатилетия советской кинематографии… — Речь идет о статье «Средняя из трех».
2 Зархи Натан Абрамович (1900 – 1935) — советский киносценарист и театральный драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР.
3 См.: В. Г. Белинский, Собрание сочинений в 3-х томах, т. I, М., Гослитиздат, 1948, стр. 75 и 76.
4 Там же, стр. 75.
Средняя из трех*
Статья написана в сентябре 1934 г. в Кисловодске. Автограф сохранился в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1112). Впервые опубликована в журнале «Советское кино», 1934, № 11 – 12, стр. 54 – 83. Печатается журнальный текст с небольшими дополнениями по рукописи.
Написанная в ознаменование юбилейной даты — 15-летия советского кино (1919 – 1934), она посвящена «средней» пятилетке (1924 – 1929), периоду наиболее значительному в истории советского немого кино, времени становления его основных эстетических принципов и выдающихся достижений.
Статья носит автобиографический характер, что не лишает ее общего историографического значения. В данном случае, как пишет сам Эйзенштейн, «личная история» действительно в значительной мере есть «кусок общей истории».
Автобиографический ракурс всегда в той или иной мере сужает общую панораму событий. Вместе с тем он дает возможность взглянуть на них изнутри, осветить мотивы и внутреннюю логику художественных поисков. Именно это составляет наиболее интересную и поучительную сторону теоретических размышлений и «воспоминаний» Эйзенштейна.
Так за логикой собственного перехода Эйзенштейна «из театра в кино» обнаруживаются попытки осуществить в рамках театрального искусства специфические для кино принципы «документальности» и «типажности». Эйзенштейн демонстрирует это, анализируя поставленные им в начале творческой деятельности спектакли «На всякого мудреца довольно простоты» (1923), в котором был воплощен провозглашенный им принцип «монтажа аттракционов», а также «Мексиканец» (1921) и «Противогазы» (1924) с проявившимся в них стремлением стереть границу между театром и реальностью.
Эйзенштейн сам подчеркивает бесперспективность этих попыток в рамках театра. Для него они знаменательны в ином смысле — с точки зрения генезиса тенденций, которые, реализуясь в кино, составят затем его специфику и художественную силу.
Оглядываясь назад, Эйзенштейн старается установить историческую логику развития киноискусства не только в формальном, но и ее содержательном плане. Она заключается, в частности, в том, что если на первоначальном этапе развития советского кино акцент стоял на изображении массы, коллектива, осознании их исторической роли, то теперь, «на рубеже четвертого пятилетия», с особенной остротой возникает проблема более глубокого раскрытия индивидуальности, существующей «внутри этого коллектива». Именно отсюда рождается подчеркнутое внимание кино к сюжету, фабуле, укрепляются его многообразные связи с литературой.
В соединении этой тенденции с достижениями прошедшего, «среднего из трех» периодов истории советского киноискусства Эйзенштейн видит путь 545 к тому синтезу, в котором кино обогащает свою специфику и утверждение которого составляет один из центральных мотивов теоретических взглядов и творческой практики самого Эйзенштейна.
1 «Мексиканец» — рассказ Дж. Лондона, инсценированный и поставленный С. Эйзенштейном совместно с В. Смышляевым в театре Пролеткульта в 1921 г.
2 «Красные дьяволята» (1923) — фильм режиссера И. Перестиани.
3 «Слышишь, Москва?» — пьеса С. Третьякова, поставлена С. Эйзенштейном в Первом рабочем театре Пролеткульта в 1923 г.
4 «Противогазы» — пьеса С. Третьякова, поставлена в 1924 г. в том же театре Пролеткульта. Премьера и несколько спектаклей шли в одном из цехов Московского газового завода.
5 … постановления от 23 апреля. — Имеется в виду постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» («Правда», 1932, 24 апреля).
6 «Страх» — пьеса А. Афиногенова (1930), впервые поставлена в Ленинградском академическом театре драмы и МХАТ (1931).
7 «Мой друг» — пьеса Н. Погодина. В Москве впервые поставлена А. Поповым в Театре Революции в 1932 г.
8 «Чужой ребенок» — комедия драматурга В. Шкваркина (1933).
9 Фореггер Николай Михайлович (? – 1939) — театральный режиссер. В 1922 г. под его руководством возникла «Вольная мастерская Фореггера» («Мастфор»), поиски которой были проникнуты мотивами футуризма.
10 «Над обрывом» — пьеса В. Плетнева, одного из руководителей Пролеткульта (1921).
11 «Трест Д. Е.» — инсценировка романа И. Эренбурга, поставленная Вс. Мейерхольдом в ГосТИМе (Гос. театр им. Вс. Мейерхольда) в 1924 г.
12 Белый Андрей (Бугаев Б. Н., 1860 – 1934) — поэт, писатель, один из теоретиков символизма, автор книги «Мастерство Гоголя» (1934).
Большевики
смеются
(Мысли о советской комедии)*
Печатается по автографу, хранящемуся в архиве С. М. Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1175). Впервые было опубликовано в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., «Искусство», 1956.
Эта статья в некоторых своих частях перекликается с «Автобиографическими записками» (эпизод в Сорбонне) и с работой «Charlie the Kid» (размышления о природе комического). Но, кроме того, она интересна тем, как Эйзенштейн ставит вопрос о возможностях советской кинокомедии. Проведя необходимую традицию от имен Чехова, Гоголя и Щедрина, Эйзенштейн утверждает «силу социального осмеяния» как главное содержательное качество советской кинокомедии и «комизм социальной маски» как важнейшее художественное средство. Здесь предполагается обязательная глубина и значимость общественной темы — без этого невозможен тот «сдвиг к пафосу», что видится Эйзенштейну. «Социальная инфантильность, застрявшая в век социальной взрослости», — эти слова точно формулируют ту тему, которая не раз становилась предметом саркастической разработки не только в замыслах Эйзенштейна, но и в тех фильмах, что были им поставлены.
1 Кутеповские дни — антисоветская кампания, поднятая белоэмигрантскими 546 газетами в связи с исчезновением весной 1930 года генерала Кутепова, одного из сподвижников Деникина, руководителя белоэмигрантских организаций во Франции.
2 Кьяпп Жан — в 30-е гг. префект парижской полиции.
3 Кашен Марсель (1869 – 1957) — один из основателей и старейший деятель Французской компартии.
4 Я работал над киносценарием комедии… — Речь идет о комедии «МММ» («Максим Максимович Максимов»), которую Эйзенштейн замышлял и готовил к постановке в 1933 г.
Гордость*
Впервые опубликовано в журнале «Искусство кино», 1940, № 1 – 2, стр. 17 – 25; в архиве Эйзенштейна хранится более поздний вариант этой статьи в виде машинописи с авторской правкой, с пометой «15 мая 1940 г.»; публикуется этот исправленный текст (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
Главная тема статьи — место кино в системе искусств, его эстетические возможности как синтетического искусства нашего времени.
В этой связи, говоря об огромном влиянии на мировой кинематограф советского кино 20 – 30-х гг., Эйзенштейн подчеркивает значение его социальных и идейных предпосылок, революционного опыта, на который опирались художники для наиболее полного и всестороннего выявления возможностей кино как искусства вообще. Эта чрезвычайно важная для общей теоретической концепции С. Эйзенштейна мысль в различных аспектах звучит и разрабатывается в целом ряде других его работ (см., например, «Диккенс, Гриффит и мы», «Средняя из трех» и др.).
Прослеживая на примере литературы, театра, скульптуры логику художественных поисков, характерных для различных искусств в начале XX в., Эйзенштейн убедительно показывает закономерность попыток этих искусств расширить границы своих возможностей и одновременно то «саморазрушение», которое при этом их постигает там, где они выходят за «собственные пределы», изменяя своей природе. Разрешение этого противоречия — миссия кино. В этом художественная необходимость его появления и оправдание его синтетичности.
Вместе с тем в статье дают себя знать следы своеобразного «киноцентризма», окрашивавшего взгляды Эйзенштейна раннего периода. Хотя сам Эйзенштейн иронизирует по поводу «приговора» другим искусствам, звучащего в ряде его прежних работ (см., например, «Два черепа Александра Македонского»), полемическая переоценка роли кино как синтетического искусства сказывается в какой-то мере и здесь.
Целиком разделяя «гордость» Эйзенштейна за кино, его мысль о том, что оно открывает новые горизонты в художественном осмыслении мира и опирается на опыт и достижения других искусств, органически их усваивая и развивая, едва ли можно согласиться с тем, что оно «на шаг впереди» всех других форм художественной культуры, или с тем, что именно кинематограф, как модель некоего универсального искусства, хранит в себе ключ к разгадке природы искусства вообще.
Точно так же требования особой реалистичности, естественности и органичности, которые предъявляет кино к искусству актера, не могут служить основанием для эстетической «дискриминации» театра. Здесь Эйзенштейн (так 547 же как и в другой, теоретически гораздо более развернутой работе «О стереокино») опускает «игровой» момент театра, обоюдный эстетический контакт зрителя и актера, который составляет особое обаяние и силу театрального представления.
1 Крэг Гордон (р. 1872) — английский режиссер, художник и теоретик театра, сторонник идей «чистой театральности», абстрактного или нейтрального декоративного оформления спектакля и режиссерского всевластия, рассматривающего актера на уровне других элементов театральной выразительности. Участвовал в качестве сорежиссера К. Станиславского и художника спектакля в постановке «Гамлета» в МХТ (1911).
2 Аппиа Адольф (1862 – 1928) — швейцарский музыкант, художник и теоретик театра, творческая практика которого была проникнута мотивами символизма.
3 «Бальзак» — одно из наиболее известных и значительных произведений французского скульптора Огюста Родена (1840 – 1917).
4 Джойс Джемс (1882 – 1941) — ирландский писатель, один из основоположников модернистской школы «потока сознания».
5 Фор Поль (р. 1872) — французский поэт-символист, автор ряда исторических драм, организатор Художественного театра в Париже (1890 – 1892).
6 Кийяр Пьер — французский драматург-символист.
7 Серрезье Поль (1864 – 1927) — французский художник, выступавший и как театральный декоратор.
8 Руаньяр Поль — французский драматург-символист.
9 Пиранделло Луиджи (1867 – 1936) — итальянский писатель и драматург.
10 «Последний миллиардер» (1934) — фильм французского режиссера Рене Клера.
Двадцать*
Публикуется по кн. «20 лет советской кинематографии», М., Госкиноиздат, 1940, стр. 18 – 31. Авторский подлинник не сохранился.
Написанная к 20-летнему юбилею советского кино (праздновавшемуся в 1939 г.), эта историко-публицистическая статья носит характер торжественно подводимого итога. Она в большой мере отразила ту идею нарастающего подъема, ту победную убежденность, под знаком которой развивалось советское искусство в 30-е гг.
Эта статья характерна еще и тем, что в ней автор не останавливается на своих индивидуальных творческих исканиях, а стремится привести их к общим «знаменателям» развития советского киноискусства. Полемичность, столь свойственная более ранним статьям Эйзенштейна, здесь как бы растворяется в картине общих «баталий», в пафосе объединения. Вместе с тем автор стремится найти в наступившем этапе советского кино подтверждение тех экскурсов в прошлое и прогнозов на будущее, которые высказывались им в статьях «Средняя из трех» и «Наконец!».
В социалистическом реализме Эйзенштейн видит силу всестороннего, всеохватывающего осмысления действительности, достигаемого суммой усилий различных художников, различных направлений советского кино.
1 Письмо Пушкина к Раевскому (июль 1825 г.) написано по-французски. С. М. Эйзенштейн цитирует его в собственном переводе. Ср.: А. С. Пушкин, 548 Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. X, Изд-во АН СССР, 1949, стр. 162 (французский текст) и стр. 775 (перевод).
2 Там же.
3 А. С. Пушкин, О трагедии. — Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, Изд-во АН СССР, 1949, стр. 38.
4 … медиевализмы, германизмы для Франции, экзотизмы для Европы… — Речь идет о словах и речевых оборотах, заимствованных из других языков и приобретших архаичность (медиевализмы — буквально средневековые слова; германизмы — слова, заимствованные из немецкого языка; экзотизмы — здесь слова, пришедшие из восточных языков).
5 Чиаурели Михаил Эдишерович (р. 1894) — советский кинорежиссер, народный артист СССР. Здесь речь идет об его фильме «Арсен» (1937). Шенгелая Николай Михайлович (1903 – 1943) — советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, постановщик фильмов «Элисо», «Двадцать шесть комиссаров», «Золотистая долина».
6 … наследие дореволюционной, «дранковской» кинематографии. — Фильмы, выпускавшиеся в дореволюционной России фирмой А. Дранкова, отличались небрежностью и примитивизмом.
7 … взятая напрокат «система реализма» американцев… — Имеется в виду увлечение сюжетными и жанровыми формами американских фильмов, которое было в первые послереволюционные годы у Л. В. Кулешова и некоторых других советских кинематографистов.
8 … удаляясь от лапидарной честности показа в «Киноправдах»… — Речь идет об экспериментальном фильме Дзиги Вертова «Киноглаз» («Жизнь врасплох», 1924); Эйзенштейн критиковал этот фильм за отсутствие смысловой организации хроникального материала (см. том I, стр. 113 – 114).
Проблемы советского исторического фильма*
Печатается по стенограмме выступления Эйзенштейна на творческом совещании по вопросам исторического и историко-революционного фильма 1940 г. (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1241); в тексте стенограммы имеются пропуски, сделанные стенографисткой. На основе своего выступления Эйзенштейн написал статью «Советский исторический фильм», опубликованную в «Правде» 8 февраля 1940 г.
Доклад С. Эйзенштейна отчетливо делится на две самостоятельные части. Пафос первой из них, рассматривающей проблему в общем плане, связан с осмыслением опыта исторического фильма, его значения для фильма о современности. Здесь в самой постановке вопроса выразилась одна из чрезвычайно характерных черт, которая в высокой степени свойственна и искусству и теоретическим работам С. Эйзенштейна, — историзм его мышления, понимание неразрывной связи истории с современностью и современности как истории.
Вторая часть, посвященная более конкретным и локальным проблемам, содержит много тонких и острых наблюдений, касающихся исторического пейзажа (в частности, интересное обращение к высказываниям раннего Ф. Энгельса о пейзаже), композиции батальных сцен и т. п.
Отдельные оценки фильмов, встречающиеся в статье, могут показаться сегодня спорными или устаревшими, несущими на себе печать времени, но в целом интересная и плодотворная постановка ряда принципиальных вопросов, 549 в том числе о диалектике движения масс и судьбы личности в истории, и ее отражении на разных этапах развития советского кино, о значении опыта литературы в разработке исторических характеров и др., равно как и ценность более частных замечаний, позволяют статье сохранить не только биографическое, но и теоретическое значение.
1 «Степан Разин» — фильм режиссеров О. Преображенской и И. Правова (1939), получивший разноречивую оценку в прессе того времени (см. «Правду», 1939, 4, 7 и 17 сентября, «Кино», 1939, 5, 11 и 17 сентября, «Литературную газету», 1939, 20 сентября).
2 «Вива Вилья» — фильм американского режиссера Д. Конвэя (1934).
3 Сапата Эмилиано (1869 – 1918) — вождь левого крыла революционного крестьянского движения в Мексике в 1911 – 1918 гг.
4 Мадеро Франсиско Индалесио (1873 – 1913) — деятель мексиканской революции, либерально-буржуазной ориентации. Президент Мексики с 1911 по 1913 г.
5 «Фридрих Рекс» — Эйзенштейн имеет в виду немецкий националистический фильм режиссера Арсена фон Черепи «Фридерикус Рекс».
6 Парнелл Чарльз Стюарт (1846 – 1891) — вождь ирландской буржуазной революции.
7 Карлейль Томас (1795 – 1881) — английский историк и писатель. Для его взглядов характерен «культ героев», которых он считал главной движущей силой истории.
8 «Минин и Пожарский» — фильм режиссеров Вс. Пудовкина и М. Доллера (1939).
9 «Хуарес» — фильм американского режиссера У. Дитерле (1939).
10 «Процесс Золя» — фильм (точное название «Жизнь Эмиля Золя») американского режиссера У. Дитерле (1937).
11 «Трус» — фильм американского режиссера Д. Крюзе.
12 «Волочаевские дни» — фильм режиссеров Г. и С. Васильевых (1937).
13 «Аэроград» — фильм режиссера А. Довженко (1935).
Диккенс, Гриффит и мы*
Статья написана в 1942 г. в Алма-Ате; впервые опубликована в сб. «Гриффит», М., Госкиноиздат, 1944, стр. 39 – 88; в 1946 г. Эйзенштейн переработал статью для предполагаемого сборника своих произведений. Публикуется эта редакция статьи по авторскому подлиннику (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
Она представляет собой чрезвычайно интересную и значительную в теоретическом смысле попытку раскрыть идейную и общественную обусловленность монтажных принципов кино и показать новаторскую природу достижений советской кинематографии 20-х гг., оказавшей огромное влияние на все дальнейшее развитие киноискусства.
В качестве отправного пункта исследования С. Эйзенштейну служит творчество выдающегося режиссера мирового кино — Дэвида Уорка Гриффита (1875 – 1948). Сложный и противоречивый художник, поставивший несколько сот фильмов самой различной идейной и художественной ценности, один из основоположников «монтажного кинематографа», Д. Гриффит впервые широко использовал возможности таких выразительных средств, как параллельный монтаж, крупный план и т. п.
550 На первый взгляд могут показаться несколько преувеличенными непосредственная связь, которую Эйзенштейн устанавливает между творческими принципами Гриффита и Диккенса, и прямое влияние великого английского романиста на основоположника американского кино, которое постоянно подчеркивается в статье (хотя на этот счет и существуют некоторые указания, см.: Fultan, Motion faicture, 1960, p. 79; Ж. Садуль, История киноискусства, М., 1957, стр. 122).
Однако в целом по мере развертывания мысли С. Эйзенштейна это сопоставление приобретает глубокий и плодотворный внутренний смысл.
Строго говоря, и «крупный план», и параллельный монтаж, и «наплыв» — такого рода формальные приемы мы встречаем не только у Диккенса, но и в искусстве крупнейших художников различных эпох и разных искусств, начиная с Леонардо да Винчи и Пушкина — об этом лучше всего свидетельствуют анализы самого Эйзенштейна (см., например, «Монтаж 1938», II том). То же может быть отнесено и к пластичности, «зримости» литературного стиля.
Но если рассматривать эти особенности формы в единстве с содержанием — а это для Эйзенштейна главное, — то близость художественного своеобразия романов Диккенса и творческих принципов Гриффита становится вполне закономерной и очевидной, как очевидна внутренняя связь сентиментального, морализующего пафоса искусства великого бытописателя викторианской Англии и нравственной атмосферы мира, в котором живут герои Лилиан Гиш и Ричарда Бартельмеса.
«Диккенс — Гриффит» — этот «параллельный план» статьи нужен Эйзенштейну прежде всего для утверждения чрезвычайно важной для него идеи «неотделимости» эстетических особенностей искусства от его содержания, социальных обстоятельств времени и тех задач, которые это искусство решает; идеи, которую с наибольшей убедительностью доказывает другой «параллельный план» работы — сопоставление искусства Диккенса и Гриффита с творческой практикой советского кино 20-х гг.
В статье заострено противопоставление дуализма и диалектики, «видения» и «оценки видимого», «показа» и «вскрытия значения» как качеств, характеризующих, с одной стороны, монтажные принципы искусства буржуазного художника Гриффита, с другой — советских режиссеров (прежде всего самого Эйзенштейна, Вс. Пудовкина и других), центральной темой творчества которых была революция. За всем этим стоят утверждение художественного новаторства советского киноискусства и очень важная мысль о том, что монтажное мышление в принципе неотделимо от общих основ мышления вообще.
Отдавая должное вкладу Гриффита в развитие искусства кино, следует отметить также, что Эйзенштейн несколько преувеличивает непосредственное влияние его творчества на режиссеров советского кино 20-х гг. — тем более что, в сущности, весь пафос статьи направлен на доказательство тех принципиальных отличий, которые здесь обнаруживаются.
Требует известного уточнения и одна из мыслей Эйзенштейна о природе монтажного синтеза, в которой можно расслышать глухие отголоски теории «интеллектуального кино». Из некоторых мест изложения может создаться впечатление, что результатом монтажного сопоставления «кадров-иероглифов» является прежде всего понятие, логическая идея, которая рождается в итоге синтеза изображений, несущих различное содержание (именно так и обстояло Дело в некоторых монтажных тропах в фильмах «Стачка», «Октябрь»).
Однако если понимать мысль Эйзенштейна в более широком контексте и учитывать опыт его творческой практики (особенно «Броненосца “Потемкин”»), 551 то становится ясным, что речь в конечном счете идет не об отвлеченной абстракции, всегда обедняющей образ, а о художественной идее, включающей в себя все богатство его и интеллектуального и эмоционального содержания.
Плодотворные методологические принципы, широта теоретического взгляда на проблему, меткость многих характеристик делают данную работу значительным и интересным явлением в его теоретическом наследстве.
1 «Далеко на востоке» (1930) — фильм Д. Гриффита по пьесе Л.-Б. Паркер (в советском прокате — «Водопады жизни»).
2 «Нетерпимость» (1916) (в советском прокате «Зло жизни») — один из наиболее известных фильмов Д. Гриффита, состоящий из четырех параллельных историй («Падение Вавилона», «Страсти Христовы», «Варфоломеевская ночь» и «Мать и закон»), объединенных весьма абстрактной идеей «борьбы нетерпимости с любовью и милосердием».
3 «Америка» (1924) — фильм Д. Гриффита по роману Р. Чемберса о войне за независимость в США.
4 «На западном фронте без перемен» (1930) — фильм американского режиссера Л. Майлстоуна по роману Э.-М. Ремарка.
5 «камины»… «позабудь про камин»… «навьи чары»… — «Позабудь про камин» (1917), фильм режиссера П. Чардынина, был продолжением его фильма «У камина», поставленного на сюжет популярного романса. Для Эйзенштейна это синоним пошлой дореволюционной кинематографии. «Навьи чары» — популярный в свое время бульварно-декадентский роман Ф. Сологуба, в кинематографе экранизирован не был.
6 «Носферату» («Симфония ужаса», 1922) — фильм немецкого режиссера Ф. Мурнау по роману «Дракула» американского писателя-мистика Б. Стокера.
7 «Улица» (1923) — фильм немецкого режиссера К. Грюне.
8 «Тени» (1923) — фильм американского режиссера А. Робинсона.
9 «Доктор Мабузо — игрок» (1922) — фильм немецкого режиссера Ф. Ланга по роману Н. Жака (в советском прокате — «Позолоченная гниль»); перемонтаж фильма — первая работа Эйзенштейна в кино.
10 «Мертвая петля» (1923) — фильм американского режиссера А. Робинсона.
11 «Тайны одной души» (1926) — фильм немецкого режиссера Г. Пабста, проникнутый мотивами фрейдизма.
12 «Кабинет доктора Калигари» (1920) — см. прим. 3 к статье «Предисловие [к книге Гвидо Зебера “Техника кинотрюка”]».
13 «Серая тень» («Серый дух», 1917), «Дом ненависти» (1918) — фильмы американского режиссера Дж. Сейча.
14 «Клеймо Зорро» (1920) (в советском прокате «Знак Зорро») — приключенческий фильм американского режиссера Ф. Нибло по роману «Проклятие Каллистрано» Д. Калли.
15 Видор Кинг Уоллес (р. 1894) — американский режиссер, продюсер.
16 «Сломанные побеги» (1919) (в советском прокате — «Сломанная лилия») — фильм Д. Гриффита по новелле Т. Бэрка.
17 «Сиротки бури» (1922) (в советском прокате — «Две сиротки») — фильм режиссера Д. Гриффита.
18 «Много лет спустя» — фильм, поставленный Д. Гриффитом в 1908 г.
19 «Ограбление поезда» («Большое ограбление поезда», 1903) — короткометражный художественный фильм американского режиссера Э. Портера, который один из первых использовал в кино параллельный план и монтаж.
20 552 «Вайтаграф» — одна из первых американских кинофирм, руководителем которой был Стюарт Блектон.
21 «Уединенная усадьба» — фильм Гриффита, поставленный в 1909 г. по рассказу Ш. Фале и пьесе А. де Лорда «У телефона». «Рождение нации» — фильм Гриффита, снятый в 1915 г. по мотивам расистских романов Т. Диксона «Леопардовы пятна» и «Ку-клукс-клановец».
22 «Разве жизнь не чудесна?» (1924) — пацифистский фильм Д. Гриффита, снятый в Германии.
23 «Борьба» (1931) — последний и единственный звуковой фильм Д. Гриффита.
24 «Дворец и крепость» (1923) — фильм режиссера А. Ивановского.
25 «Иван» (1932) — фильм режиссера А. Довженко.
26 «Три песни о Ленине» (1934) — документальный фильм режиссера Д. Вертова.
Тридцать лет советского кинематографа и традиции русской культуры*
Статья написана в 1947 г. к 30-летнему юбилею советской кинематографии. На рукописи сохранилась дата — 24 октября 1947 г. С. М. Эйзенштейн не успел закончить статью, которую он, очевидно, рассматривал как вступление к будущей работе о «значении и роли многообразного наследия русской культуры в становлении самостоятельной стилистики и стиля советского кино». Впервые статья была опубликована посмертно в журнале «Искусство кино», М., 1949, № 5. Печатается по авторскому подлиннику (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1380).
1 … вокруг «Лизина пруда» в Симоновке или «Кутузовской избы» на Филях. — Народная молва связывала находившийся в Пролетарском районе Москвы (бывш. Симоновка) пруд с именем Лизы, главной героини сентиментальной повести русского писателя и историка Николая Михайловича Карамзина (1766 – 1826) «Бедная Лиза» (1792). Так называемая «Кутузовская изба» расположена в одном из скверов на Кутузовском проспекте г. Москвы; это позднее воспроизведение дома, где проходил 1 сентября 1812 г. последний военный совет в ставке главнокомандующего Михаила Илларионовича Кутузова (1745 – 1813) перед оставлением русской армией Москвы.
2 Дом Нирензее — десятиэтажный дом в Большом Гнездниковском переулке в Москве.
3 «Сонька — Золотая ручка» — название серии картин о приключениях авантюристки Софьи Блювштейн (1914 – 1916 гг.). «Сильный человек» (1917) — фильм реж. Вс. Мейерхольда. «Дядя Пуд» — Эйзенштейн имеет в виду серию картин («Дядя Пуд в деревне», «Дядя Пуд — враг кормилиц», «Дядя Пуд на свидании» и т. д.), выпускавшихся в 1913 – 1916 гг.
4 Атмосфера романов Вербицкой и Нагродской, арцыбашевского «Санина» или уайльдовского «Дориана Грея»… — Вербицкая А. А. (1861 – 1928) — русская писательница, в ее поздних романах, написанных в годы реакции («Ключи счастья», 1909 – 1913; «Иго любви», 1914 – 1915, и др.) проблема женской эмансипации была подменена проповедью «свободной» любви. Нагродская Е. А. (1866 – 1930) — типичная выразительница идеологии мещанства начала века. Ее романы — «Гнев Дионисия» (1910) и другие — представляют собой бульварное чтиво с претензией на разрешение проблемы женской самостоятельности 553 в условиях буржуазно-капиталистического общества. Санин, главный герой одноименного романа (1907) русского писателя Арцыбашева Михаила Петровича (1878 – 1927), был воплощением циничного нигилизма, презрения к общественным идеалам. Фильм «Портрет Дориана Грея» был поставлен Вс. Мейерхольдом по роману Оскара Уайльда в 1915 г.
5 «Царь Федор Иоаннович» — трагедия А. К. Толстого, была поставлена МХТ в 1898 г.
6 … фильм его о личной и социальной трагедии Толстого… — В картине реж. А. Я. Протазанова была сделана попытка создать биографический фильм о последних годах жизни и о смерти Л. Н. Толстого с использованием наряду с игровыми сценами кадров кинохроники. Фильм, снятый в 1912 г., не был выпущен на экран по ходатайству С. А. Толстой, В. Черткова и других.
7 … запрос о недооценке в Германии военно-морской мощи Советского Союза… — Причиной запроса в рейхстаге о подлинной численности советского военно-морского флота в 1925 г. стали старые кадры кинохроники, изображавшие маневры английского флота. (Об истории включения этих кадров в фильм «Броненосец “Потемкин”» см. том I, стр. 135).
8 Потылиха… — бывшая слобода на окраине Москвы в районе Ленинских гор, где в 1931 г. была построена киностудия «Мосфильм».
Единая
(Мысли об истории советской кинематографии)*
Статья написана в ноябре 1947 г.; опубликована с сокращениями в журн. «Искусство кино», 1952, № 11, стр. 10 – 14; публикуется полный текст по авторизованной машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 1923, оп. 2).
Здесь мы видим продолжение основных идей статьи «Двадцать». Речь идет о единой устремленности исторического развития советского кино. Как один из отличительных признаков социалистического реализма автор подчеркивает историзм художественного мышления, «ощущение всемирно-исторического значения советской созидательной и творческой ежедневности».
Общая концепция этой статьи (и, в частности, мысль о трех основных направлениях советского кино) имеет прямое отношение к замыслу многотомной «Истории советского кино», который был предложен Эйзенштейном для коллективной разработки в секторе истории кино Института истории искусств АН СССР, организованном по его инициативе и под его руководством как раз в это время (1947).
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 406.
2 … национализация кинодела… — Имеется в виду подписанный Лениным «Декрет о переходе фотографической и кинематографической промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению» от 27 августа 1919 г.
Всегда
вперед!
(Вместо послесловия)*
Печатается по автографу С. М. Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1384). Впервые было опубликовано (в сокращенном виде) в журнале «Искусство кино», 1952, № 1, стр. 107 – 109.
554 Эта статья написана в 1947 г. Эйзенштейн предполагал отвести ей место послесловия в сборнике своих работ. В качестве послесловия она и была опубликована в сб. «Избранные статьи» (М., 1956).
1 Коллеони Бартоломео (1400 – 1475) — итальянский кондотьер, статуя которому была сооружена в Венеции на площади Сан-Джованни э Паоло.
Критика и публицистика
Даешь комсомольца в Дристаловку!*
Статья написана во время работы над фильмом «Генеральная линия» («Старое и новое») и опубликована в 1928 г. в однодневной газете ЦК ВЛКСМ «Культурный поход». Печатается по газетному тексту.
Статья примечательна публицистической постановкой в печати вопроса об общественной роли кинематографистов в Советской стране. Эйзенштейн призывал деятелей кино к активному вмешательству в жизнь, используя для этого как художественные выразительные средства кино, так и личные выступления в печати и общественных аудиториях для пропаганды идей коммунизма и пробуждения народного самосознания. Этой статьей он хотел привлечь внимание советской общественности, и прежде всего комсомольцев, к проблеме далеких «медвежьих углов», вековая культурная отсталость которых серьезно задерживала социалистическую перестройку деревни.
1 … контрактация… — Система контрактации широко применялась в доколхозной деревне. Путем заключения договоров с единоличными хозяйствами на производство крестьянами определенного вида, количества и качества сельскохозяйственной продукции Советское государство оказывало организующее влияние на стихийное мелкотоварное крестьянское хозяйство.
Земля наша обильна… Но порядка в ней нет*
Статья написана 23 – 24 сентября 1932 г. Публикуется впервые по черновому автографу (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1079).
Статья написана в связи с происходившими в первой половине 30-х гг. организационными перестройками в советской кинематографии. Эйзенштейн неоднократно выступал против администрирования и бюрократических методов руководства кинематографией, считая, что творческим процессом создания кинопроизведений более плодотворно смогут руководить признанные мастера кино. Впоследствии, в начале 40-х гг., ведущие деятели советского кино на короткое время возглавили крупнейшие киностудии страны. В 1940 – 1941 гг. Эйзенштейн был художественным руководителем киностудии «Мосфильм».
1 Диогенами с фонариками… — Здесь имеется в виду легенда о древнегреческом философе Диогене, который, желая показать, как мало на свете людей, достойных звания «человека», бродил днем с фонарем, говоря, что он «ищет человека».
2 Об этом я писал в связи с японским кино в 1929 году. — Эйзенштейн имеет в виду свою статью «За кадром». См. послесловие в кн.: Н. Кауфман, Японское кино, М., 1929, стр. 72 – 92 (см. II том настоящего издания, стр. 283).
3 Михин Борис Александрович (1881 – 1965) — кинорежиссер, в начале 20-х гг. был директором Московской кинофабрики.
555 О фашизме, германском киноискусстве
и подлинной жизни
Открытое письмо германскому министру пропаганды доктору Геббельсу*
Статья написана 9 марта 1934 г.; два черновика этой статьи — автографы Эйзенштейна — хранятся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1103). Опубликована в «Литературной газете», 1934, 22 марта. Печатается газетный текст.
1 … соорудили в Лейпциге? — Инсценированный германскими фашистами провокационный судебный процесс над деятелями компартии и рабочего движения Г. Димитровым, В. Таневым и Б. Поповым проходил в Лейпциге с 21 сентября по 23 декабря 1933 г. Широкое массовое движение протеста во всем мире заставило фашистский суд оправдать обвиняемых. Г. Димитров принял советское подданство и стал гражданином СССР.
2 … ледяного похода «Челюскина»… — В 1933 – 1934 гг., во время одного из первых сквозных рейсов по Северному морскому пути, пароход «Челюскин» был затерт и раздавлен льдами. В спасении экипажа «Челюскина» приняла участие вся Советская страна.
«Крестьяне»*
Статья написана в 1935 г. в связи с выходом на экран фильма «Крестьяне» и опубликована 11 февраля в газете «Известия», по тексту которой и воспроизводится. Авторский подлинник не сохранился.
1 … с названием бессмертного произведения Бальзака… — Имеется в виду роман «Крестьяне», опубликованный полностью после смерти писателя в 1855 г. Роман «Крестьяне» был включен в XVIII (второй дополнительный) том «Человеческой комедии».
2 «Крестьяне» Эрмлера? — Фильм «Крестьяне» был поставлен в 1934 г. (на экраны вышел в 1935 г.) на киностудии «Ленфильм» режиссером Ф. Эрмлером по сценарию М. Большинцова, В. Портнова и Ф. Эрмлера; в ролях снимались: Е. Юнгер (Варвара Нечаева), Б. Пославский (Егор Нечаев), А. Петров (Герасим Платонович), Е. Корчагина-Александровская (мать Герасима), Н. Боголюбов (начальник политотдела), В. Гардин (дед Анисим), И. Чувелев (Костя), В. Лукин (Матвеев), В. Сладкопевцев (Володька), П. Алейников (Петька), С. Каюков (колхозник), В. Соловцов (помощник начальника политотдела).
[«Стяжатели»]*
Статья написана в феврале 1935 г. и публикуется впервые по черновому автографу (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1114).
1 … второй раз внутри одной пятидневки не могу восторженно не откликнуться на очередное наше кинодостижение. — Очевидно, Эйзенштейн имеет в виду свою рецензию на фильм Ф. Эрмлера «Крестьяне», опубликованную 11 февраля 1935 г. в «Известиях».
2 … комедию «Стяжатели» Медведкина… — Фильм-комедия «Счастье» («Стяжатели») был поставлен в 1934 г. (на экран вышел в 1935 г.) на Москинокомбинате («Мосфильм») режиссером А. Медведкиным (он же автор сценария), оператором Г. Троянским и художником А. Уткиным; в ролях снимались: 556 П. Зиновьев (Хмырь), Е. Егорова (Анна, жена Хмыря), Л. Ненашева (монахиня), В. Успенский, Г. Миргорьян, Лавренев.
3 Брейгель, Питер старший (1525 – 1569) — нидерландский живописец, рисовальщик и гравер.
4 … из Фатти Арбекля… — Арбекль Роско (1881 – 1933) — американский комический актер, известный в ряде стран под именем Фатти.
Самое важное из искусств*
Статья написана в начале 1935 г. в связи с юбилеем — 15-летием советского кино; сокращенный вариант статьи под названием «Самое важное» был напечатан 6 января 1935 г. в газете «Известия». Впервые полностью статья была опубликована в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 89 – 94. Печатается по автографу Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
1 «Из всех искусств…» — слова В. И. Ленина, сказанные им в беседе с наркомом просвещения А. В. Луначарским в феврале 1922 г. (см. сб. «Самое важное из всех искусств», М., 1963, стр. 124).
2 … нашего оператора Шафрана… — Аркадий Менделевич Шафран (р. 1907), советский кинооператор-документалист; за съемки в экспедиции на ледоколе «Челюскин» награжден орденом Красной Звезды.
3 «Киноправда» и «Киноглаз»… — «Киноправда» — периодический киножурнал, выпускавшийся под руководством Д. Вертова в 1922 – 1925 гг. «Киноглаз» («Жизнь врасплох», 1924) — документальный фильм, в котором Д. Вертов пытался осуществить некоторые свои теоретические концепции: заснять «жизнь врасплох», не искажая ее придуманной фабулой, участием актеров и т. д.
4 Восстание в голландском флоте (на «Цевен провинсьен»)… — В феврале 1933 г. в индонезийском порту Сурабайя на голландском крейсере «Цевен провинсьен» вспыхнул мятеж; восставшие моряки на судебном процессе заявили, что они видели фильм «Броненосец “Потемкин”» и решили действовать по примеру русских моряков.
5 Я выступал в Серенг-ла-руж (Бельгия)… — В начале 1930 г. Эйзенштейн проездом из Германии во Францию посетил Бельгию; 30 января он выступил в Брюссельском университете с докладом «Интеллектуальное кино».
Можем!*
Статья написана в 1935 г. в связи с высказанными некоторыми киноработниками предположениями о невозможности работать на вновь отстроенной киностудии «Мосфильм». Впервые статья была опубликована в студийной многотиражной газете «За большевистский фильм» 9 сентября 1935 г., по тексту которой публиковалась в сб.: С. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 303 – 305, и воспроизводится в настоящем издании. Авторский подлинник не сохранился.
1 … системы «железного сценария»… — С. М. Эйзенштейн неоднократно возражал против механического заимствования из американского и немецкого кино практики создания фильмов по системе так называемых «железных сценариев», при которой постановщики картин должны были строго следовать утвержденным режиссерским сценариям, в которых указывались номера кадров, метраж, способы съемок и содержание каждого кадра.
557 Разумное мероприятие*
Статья написана в 1935 г. в связи с предполагаемой организационной перестройкой в системе советской кинематографии; впервые опубликована 17 ноября 1935 г. в газете «Кино», по тексту которой и воспроизводится. Авторский подлинник не сохранился.
1 ГУКФ — Главное управление кинофотопромышленности, 1933 – 1938.
2 … «самого веселого» в сезоне спектакля… — Имеется в виду спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» (1923).
В энтузиазме — основа творчества*
Статья впервые была опубликована в сб. «Молодые мастера искусства», М., 1938, стр. 56 – 57; с небольшими сокращениями печаталась в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 54 – 55. В настоящем издании воспроизводится по тексту первой публикации. В архиве Эйзенштейна сохранились только черновые наброски этой статьи (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1119).
1 Стаханов Алексей Григорьевич (р. 1905) — шахтер Донбасса, зачинатель массового движения за повышение производительности труда в 30-х гг.
2 Папанин и папанинцы… — Иван Дмитриевич Папанин (р. 1894), полярный исследователь, руководитель первой дрейфующей станции «Северный полюс» (1937 – 1938). Папанинцы — П. П. Ширшов (1905 – 1953), Е. К. Федоров (р. 1910), Э. Т. Кренкель (р. 1903) — участники полярной экспедиции.
Образ громадной исторической правды и реалистичности*
Статья написана в 1937 г. в связи с выходом на экран фильма «Ленин в Октябре» и опубликована 27 декабря 1937 г. в газете «За большевистский фильм», по тексту которой и воспроизводится. Авторский подлинник не сохранился.
1 Фильм прекрасен. — Фильм «Ленин в Октябре» («Восстание») был снят в 1937 г. на киностудии «Мосфильм» режиссером М. Роммом по сценарию А. Каплера. В постановке принимали участие: сорежиссер Д. Васильев, оператор Б. Волчек, художники Б. Дубровский-Эшке, Н. Соловьев, композитор А. Александров. В главных ролях снимались: Б. Щукин (В. И. Ленин), В. Покровский (Ф. Э. Дзержинский), С. Гольдштаб (И. В. Сталин), Н. Охлопков (Василий), В. Ванин (Матвеев) и другие.
Ленин в наших сердцах*
Статья написана в 1939 г. в связи с выходом на экран фильма «Ленин в 1918 году» и опубликована 6 апреля 1939 г. в газете «Известия», по тексту которой и воспроизводится. Авторский подлинник не сохранился.
1 Картина доходит до сердца… — Фильм «Ленин в 1918 году» был снят в 1939 г. на киностудии «Мосфильм» режиссером М. Роммом по сценарию А. Каплера и Т. Златогоровой. В постановке принимали участие: главный оператор 558 Б. Волчек, художники Б. Дубровский-Эшке и В. Иванов, композитор Н. Крюков. В главных ролях снимались: Б. Щукин (В. И. Ленин), Н. Боголюбов (К. Е. Ворошилов), Н. Черкасов (А. М. Горький), В. Марков (Ф. Э. Дзержинский), Л. Любашевский (Я. М. Свердлов), Г. Богатов (В. М. Молотов), З. Добина (Н. К. Крупская), Н. Охлопков (Василий), В. Ванин (Матвеев), Н. Эфрон (Каплан) и другие.
«Страну Советов» — Стране Советов*
Статья написана в 1938 г. в связи с выходом на экран фильма «Страна Советов» и опубликована 17 февраля 1938 г. в газете «Кино», по тексту которой и воспроизводится. Авторский подлинник не сохранился.
1 … поход бывшего руководства ГУКа [Главного управления кинематографии] против документального фильма… — В конце 20-х – начале 30-х гг. в печати проходила дискуссия об эстетической природе нового вида киноискусства — образного документального кино. Среди тех, кто упорно не признавал художественной самостоятельности документального кино, были некоторые руководители кинематографии. В споре с документалистами они нередко прибегали к администрированию, грубо вмешивались в творческий процесс создания фильмов. В итоге ведущие кинодокументалисты: Д. Вертов, Э. Шуб, М. Кауфман и другие — были вынуждены покинуть Московскую кинофабрику.
2 «Страна Советов» — документальный фильм, снятый в 1938 г. режиссером Э. Шуб по сценарному плану Б. Агапова и Э. Шуб; операторы: Э. Тиссэ (съемки на Украине и в Грузии), В. Крылов (Крым), Д. Фельдман (Москва), музыкальное оформление Л. Штейнберг и Н. Крюков; дикторский текст и песня М. Светлова.
О романе-фильме «Мы, русский народ»*
Статья написана в 1938 г. и опубликована посмертно в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 111 – 113. Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 123).
Эйзенштейн намеревался вместе с Вс. Вишневским поставить несколько картин (об Испании, «Мы, русский народ»), однако эти замыслы не были осуществлены; фильм «Мы, русский народ» был снят лишь в 1965 г. режиссером В. Строевой.
Нам двадцать лет*
Статья написана в 1940 г. для юбилейного фотоальбома «Советское киноискусство», М., 1940, стр. 5 – 7; в сокращенном виде публиковалась в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 105 – 107; в настоящем издании печатается по тексту первой публикации. Авторский подлинник не сохранился.
1 Листая страницу за страницей этот альбом… — Юбилейный фотоальбом «Советское киноискусство», выпущенный Госкиноиздатом в 1940 г. к 20-летию советского кино.
2 559 Студия Рахмановой… — Рахманова Ольга Владимировна (? – 1943) — актриса, режиссер, театральный педагог. В 1905 г. открыла в Одессе «Курсы художественного чтения и техники речи», преобразованные впоследствии в Школу сценического искусства.
«Диктатор»
Фильм Чарли Чаплина*
Статья опубликована 27 июня 1941 г. в газете «Кино», печаталась в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 236 – 239. В настоящем издании воспроизводится по тексту первой публикации. Авторский подлинник не сохранился.
1 … Чаплин создал «Великого диктатора»… — Фильм «Великий диктатор» был снят в 1940 г., сценарий, режиссура и музыка Ч. Чаплина; в главных ролях снимались: Чарли Чаплин (парикмахер из гетто и диктатор Аденоид Хинкель), Полетт Годдар (Ханна), Джек Оки (Напалони), Реджинальд Гардинер (Шульц) и другие.
2 Знак Двойного Креста… — В фильме этим знаком на петлицах Аденоида Хинкеля и его штурмовиков была заменена фашистская свастика.
3 «Огни большого города» (1931), «Новые времена» (1936) — фильмы Ч. Чаплина.
4 «Кид» — Фильм Ч. Чаплина «Малыш» («The kid», 1921) демонстрировался в СССР летом 1929 г. и осенью 1958 г. под названиями «Дитя» и «Малыш».
Молодые люди Америки!*
Публикуется по автографу С. М. Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1324). На машинописном тексте статьи имеется дата — 1 апреля 1941 г.
1 Ряд лет тому назад я посетил вашу страну. — С 12 мая 1930 по 5 декабря 1931 г. С. М. Эйзенштейн вместе с Г. Александровым и Э. Тиссэ находился в США по приглашению кинофирмы «Парамаунт».
Мистер Линкольн мистера Форда*
Статья написана в 1945 г. как первая глава для намечавшейся работы о режиссере Джоне Форде, которую предполагалось опубликовать в сборнике, посвященном Дж. Форду, в серии «Материалы по истории мирового кино». Впервые статья была опубликована в 1960 г. в журнале «Искусство кино», № 4, стр. 135 – 140. Печатается по машинописному тексту с редакторской правкой, сохранившемуся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
1 «Юный мистер Линкольн» (1939), «Осведомитель» (1935), «Дилижанс» (1939), «Гроздья гнева» (1940) — фильмы американского кинорежиссера Джона Форда.
2 … долговязый Эб едет мимо реки Потомак. — Эб, Дядя Эб, Долговязый Эб, Честный Эб — прозвища президента Линкольна; Потомак — река, протекающая около Вашингтона, — стала символом государственной власти в США.
3 560 Фонда Генри (р. 1905) — американский киноактер.
4 «Остров акул» — имеется в виду фильм Дж. Форда «Пленник острова акул» (1936).
5 «Ураган» (1937) — фильм американского режиссера Джона Форда.
6 … великих гуманистов современности… — Эйзенштейн имеет здесь в виду Горького и Рузвельта. Это подтверждается хранящимся в ЦГАЛИ ранним текстом данной статьи, в котором имеется несколько фразе сопоставлением Горького и Рузвельта. В окончательный текст статьи эти фразы не вошли.
Свершилось!*
Впервые публикуемая статья была написана в связи с окончанием Великой Отечественной войны и предназначалась для праздничного номера газеты «Известия». В архиве Эйзенштейна сохранился и другой вариант этой статьи под названием «Три печали» (ЦГАЛИ, ф. 1923. оп. 1, ед. хр. 1358).
«Освобожденная Франция»*
Статья написана в 1945 г. в связи с выходом на экран документального фильма режиссера С. Юткевича «Освобожденная Франция» и опубликована 19 апреля 1945 г. в газете «Советское искусство» и в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 114 – 117. Авторский подлинник не сохранился, печатается по тексту первой публикации.
1 Тегеранской конференции… — На конференции в Тегеране (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) руководители союзных держав — СССР, США и Великобритании — согласовали план разгрома вооруженных сил гитлеровской Германии и заключили соглашение об обеспечении прочного послевоенного мира.
2 Режиссеры художественного фильма идут работать в хронику… — В мае 1944 г. Центральный Комитет Коммунистической партии обсудил вопросы, связанные с характером отражения событий Великой Отечественной войны в кинохронике и документальном кино. По призыву партии в документальное кино пришли ведущие режиссеры художественной кинематографии: С. А. Герасимов стал художественным руководителем и директором Центральной студии документальных фильмов (Москва), А. П. Довженко совместно с Ю. И. Солнцевой создал документальные фильмы — «Битва за Советскую Украину» (1943) и «Победа на Правобережной Украине» (1944), Ю. Я. Райзман — «К вопросу о перемирии с Финляндией» (1944) и «Берлин» (1945), А. Зархи и И. Хейфиц — «Разгром Японии» (1945).
Крупным планом*
Статья написана в 1945 г. и опубликована в первом послевоенном номере журнала «Искусство кино» 1945 № 1 (стр. 6 – 8). Авторский подлинник не сохранился, печатается по тексту первой публикации.
Статья посвящалась вопросам кинокритики в печати. В те годы в газетах и журналах часто при оценке кинофильмов происходила подмена одних критериев другими, единственным и общим мерилом кинопроизведения стал не всесторонний объективный анализ всех составных компонентов фильма, а лишь общественная значимость темы кинокартины. Эйзенштейн на основе своих наблюдений пытался проанализировать и классифицировать различные формы и виды кинокритики. Он наметил три основных формы критики кинопроизведений 561 в печати, которые различались в зависимости от назначения, своей целенаправленности и аудитории. Однако в годы культа личности, когда кинопроизведения зачастую оценивались с догматических позиций, пафос статей Эйзенштейна, направленный в защиту киноведческой, профессиональной критики, не был понят. Статья подверглась критическим нападкам, хотя проблемы, поднятые в ней, оказались актуальными и поныне.
Единственная*
Статья написана в 1947 г. и публикуется впервые по автографу Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
Зритель-творец*
Статья написана 7 ноября 1947 г. и опубликована посмертно в журнале «Огонек», 1948, № 26, и в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 72 – 73. Публикуется по рукописи с редакторской правкой, сохранившейся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
1 … через сотни фильмов проповедуют хозяева буржуазных стран… — Здесь Эйзенштейн имеет в виду реакционную часть буржуазной кинематографии, не касаясь тех демократических прогрессивных течений, которые имеются в буржуазной культуре.
Статьи о театре
Нежданный стык*
Статья написана в 1928 г. и впервые опубликована в журнале «Жизнь искусства», Л., 1928, № 34, стр. 6 – 9, по тексту которого и воспроизводится. В ЦГАЛИ хранятся черновые варианты (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 970).
В августе 1928 г. в Москве гастролировала труппа Кабукидза (Токио) под руководством выдающегося японского актера Ицикава (Итикава) Садандзи II, во многом обновившего традиционную систему выразительных средств театра Кабуки. Эйзенштейн, с юношеских лет увлекавшийся японским искусством, с большим интересом отнесся к этим гастролям, подружившись не только с Садандзи, но и с Каварадзаки Цйодзюро, Ицикава Сйоцйо (иначе — Сётё) и другими ведущими актерами театра. Однако «Нежданный стык» не является в строгом смысле слова рецензией на спектакли Кабукидза — скорее, это теоретическая статья, посвященная некоторым общим проблемам театральной и кинематографической выразительности. Эйзенштейна интересует общечеловеческая значимость многовековых традиций театра Кабуки, существенные структурные принципы спектаклей японцев и возможность использования их в современном искусстве.
Опыт японского театра был использован Эйзенштейном как аргумент в дискуссии, разгоревшейся в 1927 – 1928 гг. вокруг проблемы звукового кино. В то время как многие ведущие мастера Великого немого выступили против введения звука в кино, Эйзенштейн (а также Вс. Пудовкин и Г. Александров, подписавшие вместе с ним статью «Будущее звукового фильма. Заявка») занимает прогрессивную и, как очевидно сейчас, дальновидную позицию.
В образной системе театра Кабуки Эйзенштейна как раз и взволновало использование разных выразительных средств (мизансцены, жеста, звука, 562 костюма и т. д.) как «равноправных», равнозначных для воплощения художественного замысла, идеи вещи и для более эффективного воздействия на зрителя. Кстати, это блестяще подтверждало на практике мысли, высказанные Эйзенштейном еще в 1923 г. в декларации «Монтаж аттракционов» (опубликован во II томе настоящего издания). Процитированный в «Нежданном стыке» отрывок из этого юношеского манифеста и был тем рациональным зерном, из которого выросла концепция звукозрительного контрапункта и развившая ее впоследствии теория полифонического кинематографа. (См. в томе III исследование «Неравнодушная природа».) «Нежданный стык» был важным этапом на пути к этой теоретической системе.
1 Но требовать от японцев «Любовь Яровую»… с «Жизнью за царя»… — «Любовь Яровая» (1926) — драма К. А. Тренева, одна из первых советских пьес, в которых психологически глубоко были преломлены классовые конфликты эпохи революции и гражданской войны. «Жизнь за царя» — официозное дореволюционное название оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин».
2 «Разлом» — драма Б. А. Лавренева о военном специалисте, переходящем на сторону Советской власти. «Бронепоезд 14-69» — драма Всеволода Иванова о гражданской войне в Сибири.
3 В первой картине «47 самураев» Сйоцйо играет замужнюю женщину… — «47 самураев» — одна из популярнейших пьес в репертуаре Кабуки, написанная в 1748 г. Такедо Идзумо. В труппе Кабукидза актер Ицикава Сйоцйо II исполнял роль Каойо, жены феодала Енья (в Кабуки женские роли исполняются мужчинами).
4 По моему крайнему убеждению, кино есть сегодняшняя стадия театра. Театр в старой форме умер и, если существует, то только по инерции. — Впоследствии сам Эйзенштейн отказался от этого явно ошибочного, максималистского убеждения. Плодотворной была лишь мысль о стадиальной связи между театром и кино, чему Эйзенштейн посвятил ряд исследований и лекций во ВГИКе (см., например, исследование «Монтаж» во II томе и учебник «Режиссура» в IV томе).
5 Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845 – 1929) — языковед, один из видных представителей общего и сравнительно-исторического языкознания.
6 См. № 32 [журнала] «Жизнь искусства» за тек[ущий] год. — Статья «Будущее звуковой фильмы. Заявка» помещена во II томе настоящего издания.
7 Бенкс Монти (псевдоним Марио Бианка, 1897 – 1950) — американский комический киноактер.
8 Клейст Генрих фон (1777 – 1811) — немецкий драматург и новеллист-романтик.
Чародею Грушевого Сада*
Статья написана в марте 1935 г. и опубликована в сб.: «Мэй Лань-фан и китайский театр», М.-Л., 1935, стр. 17 – 26. В архиве Эйзенштейна сохранился более полный машинописный текст 1939 г. с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2), который и воспроизводится.
Статья написана накануне приезда в СССР на гастроли популярного китайского актера Мэй Лань-фана (1894 – 1961), с которым Эйзенштейн впоследствии встретился и подружился. В статье основным предметом исследования является то соотношение изобразительного и образного начал, которому Эйзенштейн 563 посвятил такие основополагающие труды, как «Режиссура», «Монтаж», «Неравнодушная природа» (см. соответственно IV, II и III тома), а также незавершенный «Метод». В поисках решения этой проблемы Эйзенштейн обращался к древнейшим культурам мира, бережно сохраняющим традиции образного осмысления действительности. Любопытна эволюция интереса Эйзенштейна к культурам Востока. В архиве режиссера сохранился набросок «Einführung» («Введение») для задуманного им в 1940 г. сборника статей «Крупным планом»:
«В моих статьях я очень часто пользуюсь материалом Востока: то Японии, то Китая. Вначале — больше опытом Японии, в дальнейшем — китайского искусства.
Это не случайно — в “Волшебнике Грушевого Сада” я объясняю почему.
Но не случайна и сама последовательность: японцы и китайцы как бы повторяют соотношение: римляне — греки древности или американцы — европейцы современности.
Такое же соотношение рационализованного и иррационального, арифметически простого и неисчислимого, серийного и неповторимого, механического и эмоционального.
Там, где у греков тайна пропорций “золотого сечения”, у римлян — простая кратность и т. д.
Так же механически двухмерны концепции рационализаторов японцев.
И так же первичны, органичны, “оригинальны” (в гегелевском смысле) китайцы. На первых порах меня интересовала “механика” дела искусства, факт сопоставлений, его методика, его техника. Более вульгарные японцы помогали этой более примитивной стороне рассмотрения. Затем мы шли глубже — в вопросы образа, глубины образотворчества, — и здесь великую помощь оказывали китайцы.
Так от римской геометрии переходишь к метагеометрии греков.
От блестящей картотечности мастерства Золя — к органике Пушкина и Гоголя.
От формальной логики парков Версаля — к натуральному строю английского парка».
Еще о народно-героическом театре*
Статья, написанная в форме письма редактору журнала «Театр», была опубликована в 1938 г. в седьмом номере журнала (стр. 156 – 158), по тексту которого воспроизводится. Авторский подлинник не сохранился.
Проблематика статьи непосредственно связана с творчеством Эйзенштейна, работавшего в это время над фильмом «Александр Невский», а несколько месяцев спустя начавшего режиссерскую разработку революционной эпопеи «Перекоп». Оба эти сюжета названы в статье как возможные темы народно-героического театра. Есть, однако, связи и более существенные, а именно связь фильмов Эйзенштейна с опытом массовых народных празднеств, которые разыгрывались в 1919 – 1921 гг. в Петрограде и других городах. Решительно отказавшись от наивной символики этих «мистерий» и «действ», Эйзенштейн новаторски переосмыслил и развил наиболее жизнеспособные их элементы — участие наряду с профессиональными актерами огромных масс, вовлечение в комплекс зрелищ подлинных мест событий и реальной архитектуры города, восстановление «драматургии истории». Программа народно-героического театра, 564 выдвинутая Эйзенштейном в данной статье, несомненно, учитывает достижения киноэпопей 20-х гг.
Показательно, что в ней называются не только исторические и историко-революционные темы, но и героические события современности — борьба с фашизмом в Испании, освободительная война в Китае. Следует отметить, что выдвинутая Эйзенштейном концепция народно-героического театра перекликается с предложениями многих деятелей мировой литературы и театра, в частности с мечтами Ромена Роллана о народном театре, где могли бы быть поставлены его «Драмы революции».
Особый интерес представляет замысел инсценировки романа Л. Фейхтвангера «Лже-Нерон», которая могла бы стать новаторской по сплаву массовых действий с психологическими актерскими сценами. Разговор, начатый Эйзенштейном на страницах журнала «Театр», не был, к сожалению, продолжен, а проблема массовых зрелищ и народных театров была надолго предана забвению.
Воплощение мифа*
Первый вариант статьи был закончен 12 марта 1940 г. (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1251). В архиве Эйзенштейна сохранилось пять вариантов этой работы, написанной в марте — октябре 1940 г. Статья опубликована в журнале «Театр», М., 1940, № 10, стр. 13 – 38. Печатается журнальный текст с уточнениями и дополнениями по последней авторской редакции.
Написана С. Эйзенштейном в связи с его постановкой оперы Р. Вагнера «Валькирия» в Большом театре (премьера состоялась 21 ноября 1940 г.). Статья представляет собой не столько изложение режиссерского замысла или впечатлений от спектакля, сколько широкий круг размышлений над творческими проблемами, возникающими при сценическом «воплощении мифа».
В этом смысле представляет интерес сама трактовка С. Эйзенштейном древнего немецкого мифа, лежащего в основе оперы; трактовка, опирающаяся на широкий, исторический подход и диалектическую методологию. Подчеркивая «переходный» характер периода общественных отношений, который нашел свое отражение в древнем предании о Зигфриде, Зиглинде, боге Вотане, его супруге Фрикке и валькирии Брунгильде, С. Эйзенштейн развертывает более глубокую интерпретацию мифа, чем Р. Вагнер, которого К. Маркс в данной связи упрекнул в «искажении первобытной эпохи» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, примечание к стр. 22).
При всей условности аналогии между принципами, которые одерживают победу в мифе, и идеями свободного развития личности в нашем, современном, марксистском понимании гуманистический мотив освобождения человека от сковывающих его сил — будь то власть золота или устаревших моральных норм, — прежде всего дорог для С. Эйзенштейна. Он становится основой идейной концепции спектакля.
Что касается собственно художественных мотивов, увлекших в данном случае Эйзенштейна, то он сам объясняет принципы этого несколько неожиданного обращения после 20-летнего перерыва к театру. Одна из главных художественных идей Р. Вагнера, так же как и С. Эйзенштейна, заключалась в создании синтетического зрелища. Несмотря на все различия побудительных мотивов и взглядов на проблему немецкого композитора, прошедшего сложный путь от увлечения идеями социальной революции до позиции «казенного художника» (К. Маркс), и одного из основоположников советского кино, 565 это был пункт, в котором их стремления к искусству широких обобщений по-своему перекликались.
Не случайно и то, что именно миф с его «синкретичностью» и опера, соединяющая музыку, сценическое действие и пластический образ, оказываются плодотворной почвой для развертывания идей художественного синтеза, которые пронизывают и у Эйзенштейна теории «вертикального монтажа» (см. «Монтаж 1938») и мысли о соотношении цвета и изображения (см. «Цветовое кино», «Не цветное, а цветовое») и стремление к единству «сцены» и «зрительного зала» (см. «О стереокино»).
Хотя в постановке «Валькирии» удалось осуществить далеко не все, теоретические размышления С. Эйзенштейна и сам спектакль остаются, несомненно, интересной попыткой преодоления канонов оперного спектакля, расширения его границ, решения проблемы синтетического театрального зрелища. В этом «экспериментальном» плане, не говоря уже о прямом вкладе в «вагнериану», они сохраняют свое значение и для сегодняшнего дня.
1 «Давид Сасунский» — армянский народный эпос (X в.).
2 «Джангар» — эпос калмыцкий народный (XV в.).
3 «Манас» — киргизский народный эпос (начал записываться во второй половине XIX в.).
4 Руставели Шота — грузинский поэт, живший в XII в., автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
5 Навои Низамаддин Алишер (1441 – 1501) — узбекский писатель, ученый, музыкант, родоначальник узбекской литературы.
6 Низами Ганджеви Ильяс Юсиф оглы (ок. 1141 – 1203) — азербайджанский поэт-гуманист.
7 «Песня о Нибелунгах» — эпическая поэма (начало XIII в.), представляющая собой литературную обработку старинных германских сказаний и мифов. Послужила основой для тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга», которая включает в себя оперы: «Золото Рейна» (1854), «Валькирия» (1866), «Зигфрид» (1871) и «Гибель богов» (1874).
8 «Эдда» — памятник древней скандинавской литературы, сборник мифологических и героических песен (IX – XII вв.), записанных в середине XIII в.
9 … ленное пожалование… — понятие «ленного права», регулировавшего в средневековье в Западной Европе взаимоотношения между сеньором и вассалом. Оно наследовалось и могло быть отменено лишь судом пэров.
10 Тик Людвиг (1773 – 1853) — немецкий поэт-романтик.
11 «Ругон-Маккары» — цикл из двадцати романов Э. Золя, посвященный, по словам самого автора, «естественной и социальной истории одного семейства в эпоху Второй империи».
12 Джотто (1266 или 1276 – 1337) — итальянский художник, один из родоначальников реализма в западноевропейской живописи эпохи Возрождения.
13 Бонавентура Джованни Фиданца (1221 – 1274) — итальянский философ-схоластик.
14 Гадди Таддео (? – 1366) — флорентийский художник, ученик Джотто.
15 Метерлинк Морис (1862 – 1949) — бельгийский драматург-символист.
16 Марр Николай Яковлевич (1864 – 1934) — советский языковед, академик.
17 «Золотая ветвь» (1890) — исследование американского ученого Джеймса Джорджа Фрезера (1854 – 1931), посвященное истории религиозных представлений у первобытных племен.
18 566 Сорель Шарль (ок. 1597 – 1674) — французский писатель, автор плутовского романа «Правдивое комическое описание Франсиона» (1623).
19 Бербанк Лютер (1849 – 1926) — американский агроном и селекционер.
20 «Арлекин» — подвешенная сразу за порталом сцены падуга, полоса ткани, закрывающая от зрителей верхнюю часть сцены.
21 Театр Байрейта — оперный театр. Был основан Р. Вагнером в 1876 г. в г. Байрейте (Германия).
22 Клоун Грок (псевдоним, настоящая фамилия Андриен Веттах, 1880 – 1959) — музыкальный эксцентрик-клоун, по происхождению швейцарец, гастролировал во всех европейских столицах.
23 Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1947) — заслуженный деятель искусств РСФСР, советский театральный художник, работал с С. Эйзенштейном над постановкой «Валькирии».
«Вы
этого не забудете»
(Пьеса Дж.-Б. Пристли в Театре революции)*
Статья написана в 1945 г. и публикуется впервые по машинописному тексту, хранящемуся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1373).
Спектакль «Вы этого не забудете» по пьесе английского драматурга Джона Бойнтона Пристли (р. 1894) «Инспектор пришел…» был поставлен С. И. Юткевичем в Ленинградском театре комедии в 1945 г., когда театр находился в Москве, играя на сцене филиала МХАТ. Художественный руководитель театра, ныне народный артист СССР Н. П. Акимов выступил в этом спектакле как художник.
Хотя рецензия осталась неоконченной, она представляет интерес благодаря затронутым в ней темам условности и сценического реализма.
1 … персонаж Кутузова, Суворова или Ивана Грозного!.. — Эйзенштейн, по всей вероятности, имеет в виду спектакли «Фельдмаршал Кутузов» (драма В. А. Соловьева, 1940, поставлена Н. П. Охлопковым в театре им. Вахтангова), «Полководец Суворов» (Центральный театр Советской Армии, 1939, постановка А. Д. Попова) и «Великий государь» (драма В. А. Соловьева; была поставлена в 1945 г. в Ленинградском академическом театре драмы им. Пушкина Л. С. Вивьеном и в театре им. Вахтангова Б. Е. Захавой).
2 Леонов Леонид Максимович (р. 1899) — советский прозаик и драматург.
3 Рышков Виктор Александрович (1863 – 1926) — русский драматург, писатель-беллетрист, автор многочисленных пьес. Стремясь к успеху у публики, он часто использовал приемы грубого фарса и чувствительной мелодрамы, в театральной критике в связи с этим появилось определение — «рышковщина».
4 Андреев Леонид Николаевич (1871 – 1919) — русский писатель, один из представителей символизма в русской драматургии («Жизнь человека», «Черные маски», «Анатэма» и др.).
Юдифь*
Статья написана в марте 1947 г., публикуется впервые по авторскому подлиннику — машинописи с авторской правкой, — хранящемуся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
567 Статья, посвященная Эйзенштейном Юдифи Самойловне Глизер (р. 1904), выходит далеко за рамки литературного портрета. С равным основанием она может считаться и статьей о творческих проблемах театра и исследованием процесса возникновения художественного (в данном случае — актерского) образа. Показательно само построение статьи, столь характерное для периода зрелости Эйзенштейна — художника и исследователя: «зарисовки с натуры» свободно переплетаются здесь с экскурсами в различные области искусства, анализ роли органично вырастает из личных воспоминаний. Статья убедительно опровергает бытующую еще легенду об Эйзенштейне как о режиссере, который якобы не понимал и не любил актера. Проникновение в творческую лабораторию Ю. С. Глизер обнаруживает в нем проницательный взгляд и тонкое ощущение специфически актерской образности.
Статья практически является двойным портретом: Эйзенштейн увлеченно пишет здесь и о Максиме Максимовиче Штраухе, своем многолетнем друге и соратнике.
1 Леметр Фредерик (псевдоним Антуана Луи Проспера Леметра, 1800 – 1876) — создатель классического образа финансиста-преступника Робера Макера, ставшего обобщением Июльской монархии. Эйзенштейн посвятил Леметру и его творческому методу главу «Лев в старости» в исследовании «Пафос» (см. том III).
2 Дебюро Жан-Батист-Гаспар (1786 – 1846) — французский актер-мим, создатель пантомимного образа Пьеро. Выступал в парижском театре Фюнамбюль («Канатных плясунов»).
3 Гримальди Джозеф (1778 – 1837) — английский клоун, комический певец, танцор и акробат. Выступая в пантомимах, сочетал буффонаду с драматическими моментами.
4 Китон Бестер (псевдоним, настоящая фамилия — Джозеф Фрэнсис, 1896 – 1966) — американский актер и режиссер, создатель «маски» невозмутимого человека, автор классических кинокомедий 20-х гг. — «Три эпохи», «Наше гостеприимство», «Шерлок-младший», «Генерал» и др. До 1920 г. снимался в короткометражных фильмах с Фатти Арбеклем, один из которых («The Bell Boy», 1919) и описывает здесь Эйзенштейн.
5 Калло Жак (1592 – 1635) — французский гравер и рисовальщик, один из любимых художников Эйзенштейна. Основные произведения — серии «Каприччи» (1617 – 1623), «Бедствия войны» (1632 – 1633) и др. Многоплановость композиций Калло оказала определенное влияние на изобразительный строй фильмов Эйзенштейна (см. об этом в разделе «Торито» учебника «Режиссура», том IV).
6 Мантенья Андреа (1431 – 1506) — итальянский живописец и гравер, крупнейший представитель падуанской школы эпохи Возрождения. Гирландайо (псевдоним, настоящая фамилия — Бигорди) Доменико (1449 – 1494) — живописец флорентийской школы, мастер монументальных фресковых композиций.
7 … «раблезианских» по сюжету… «Balli di Sfessania» — имеется в виду серия гравюр Жака Калло, в которой художник с острым гротеском использовал маски итальянской народной комедии. Гиперболичность образов, озорная непристойность поз и жестов персонажей гравюр сближают серию с «Гаргантюа и Пантагрюэлем» Ф. Рабле.
8 Среднее между Големом и Роботом! Благо оба из одной и той же Праги. — Голем — по средневековой легенде глиняный человек, созданный пражским раввином Левом и оживленный его магическими заклинаниями. Робот — ставшее 568 ныне нарицательным обозначением имя человекоподобного автомата из фантастической пьесы «Р. У. Р.» чешского писателя К. Чапека (1890 – 1938).
9 «Ламэ» — парча.
10 Лауренсия — героиня драмы Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник»).
11 Файко Алексей Михайлович (р. 1893) — советский драматург, автор пьес «Озеро Люль», «Учитель Бубус», «Человек с портфелем» и др. Пьеса «Концерт» написана им в 1935 г.
12 Цезарина де Мирмон — персонаж комедии Скриба «Товарищество, или Лестница славы», поставленной М. М. Штраухом в Театре Революции в 1936 г.
13 Королеву Елизавету в драме Шиллера «Мария Стюарт» Ю. С. Глизер сыграла в 1940 г. (Театр Революции, режиссер С. А. Майоров).
14 Гиацинтова Софья Владимировна (р. 1895) — актриса и режиссер, народная артистка СССР.
15 Бабанова Мария Ивановна (р. 1900) — народная артистка СССР.
16 Бирман Серафима Германовна (р. 1890) — актриса и режиссер, народная артистка РСФСР. Педагог, автор книг и статей о театре. С 1925 г. снимается в кино. Крупнейшая роль на экране — Ефросинья Старицкая в фильме С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный».
17 Сомов Константин Андреевич (1869 – 1939) — русский художник, один из активных участников группы «Мир искусства».
18 Борисов-Мусатов Виктор Елпидифорович (1870 – 1905) — художник, примыкавший к «Миру искусства», был близок к импрессионистическим течениям в русской живописи.
19 Татлин Владимир Евграфович (1885 – 1953) — художник, близкий к конструктивизму. Во многих полотнах Татлина использованы сопоставления и столкновения разных фактур живописных пятен и материалов. Малевич Казимир Северинович (1878 – 1935) — живописец, основоположник так называемого «супрематизма» (беспредметной живописи), ставящего целью «достичь высшей гармонии путем комбинирования разноцветных плоскостей простейших очертаний».
20 Герасимов Александр Михайлович (1881 – 1963) — советский живописец, был президентом Академии художеств СССР и председателем Оргкомитета Союза художников СССР.
21 Маринетти Филиппо Томмазо (1876 – 1944) — итальянский писатель, драматург, глава реакционного течения футуризма, ярый проповедник разрушения классической культуры. В 20-е гг. примкнул к фашизму. Пытался создать «искусство касаний» («тактилизм»), разработав для «предметов искусства, воспринимаемых осязанием», специальную «тактилическую таблицу ощущений».
22 … лесковской Фионы… — Имеется в виду эпизодический персонаж последних глав «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова — каторжанка солдатка Фиона.
23 Скобло — эпизодический персонаж (начальница гимназии) в пьесе советского драматурга Анатолия Глебова «Власть», поставленной в Первом рабочем театре Пролеткульта в 1927 г.
24 Констанцию в «Обыкновенном человеке» Леонида Леонова Глизер сыграла в 1945 г. (Театр Революции).
25 Спиридонова Мария (р. 1889) — лидер «левых» эсеров, участница эсеровского заговора и мятежа в Москве в 1918 г.
26 569 Люксембург Роза (1871 – 1919) — деятель германского и польского рабочего движения, представитель германской социал-демократической партии во II Интернационале, принимала участие в организации КП Германии.
27 Мишель Луиза (1830 – 1905) — французская революционерка, активная участница Парижской коммуны 1871 г., автор романов, стихов и пьес.
28 Ибаррури Долорес (р. 1895) — генеральный секретарь КП Испании, журналист (псевдоним «Пассионария» — «Пламенная»), героиня гражданской войны испанского народа 1936 – 1939 гг.
29 Барримор Лайонел (1878 – 1954) — представитель американской театральной династии, актер и режиссер, много снимавшийся в кино. Выступал также как кинорежиссер и композитор.
30 Трэси Спенсер (1900 – 1967) — американский киноактер, известный в СССР по фильмам «Пожнешь бурю», «Старик и море», «Нюрнбергский процесс» и др.
31 Зуккеро (иначе — Зуккари, Зуккери) Федериго (1540 – 1609) — итальянский живописец, представитель династии художников Зуккеро. В 1574 г. посетил Англию, где создал портрет королевы Елизаветы.
32 … портрета Марка Гаррарда в Хэмптон-Корте… — Гаррард Марк (или Geeraerts Markus, 1561 – 1635) — фламандский живописец, работавший в Англии, автор нескольких портретов королевы Елизаветы. Хэмптон-Корт — замок, построенный в XVI в., самый большой королевский дворец Англии.
33 Верталл Шарль-Альбер (1820 – 1882) — французский карикатурист.
34 Гранвиль (настоящая фамилия — Жан Иньяс Исидор Жерар. 1803 – 1847) — французский карикатурист, акварелист и литограф.
35 Гаварни Поль (1804 – 1866) — французский рисовальщик-сатирик и литограф.
36 Дебюкур Луи-Филибер (1755 – 1832) — французский художник, автор цветных гравюр.
37 Крюнкшенк (Крукшенк) Джордж (1792 – 1878) — график и книжный иллюстратор.
38 Коонен Алиса Георгиевна (р. 1889) — народная артистка РСФСР. С 1914 г. творческая деятельность Коонен была связана с А. Я. Таировым и его Камерным театром.
39 … Рубинчика из «Улицы Радости»… — Роль старого еврея-портного Рубинчика М. Штраух сыграл в пьесе Н. Зархи «Улица радости» на сцене московского Театра Революции.
40 Жемье Фирмен (1869 – 1933) — режиссер, актер и театральный деятель, сыгравший значительную роль в реалистической реформе французского театра. О Ю. С. Глизер в роли Скобло Жемье писал, что у актрисы «наблюдается необыкновенная сила, сдержанная фантазия, тонкие изобразительные нюансы, умение владеть создаваемым ею образом».
Портреты и наброски
Как ни странно, — о Хохловой*
Впервые опубликовано в газете «Кино», М., 1926, 30 марта. Печатается по брошюре «А. Хохлова», М., изд. «Кинопечать», 1926, стр. 5 – 9. Авторский подлинник не сохранился.
Статья посвящена известной киноактрисе Александре Сергеевне Хохловой (р. 1897), игравшей во многих фильмах Л. В. Кулешова: «Необычайные 570 приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924), «По закону» (1925), «Ваша знакомая» (1927), «Великий утешитель» (1933) и др. Эйзенштейн высоко ценил А. С. Хохлову как талантливую эксцентрическую актрису.
1 … требуют мастерства Лон-Чанея, Штрогейма, Бартельмеса… — Эйзенштейн называет имена трех крупных киноактеров Голливуда 20-х гг.: Лон-Чанея (1883 – 1930), Эрика Штрогейма (1885 – 1957) и Ричарда Бартельмеса (1897 – 1963).
2 До осуждения Валентинов Новарро и пр[очих]… — Рудольф Валентине (1895 – 1926) и Рам он Новарро (р. 1899) — популярные американские киноактеры 20-х гг., обладавшие красивой внешностью, но имевшие весьма скромные актерские данные.
3 Это не «советский Вейдт» или «советская Пикфорд». — Имеются в виду популярные киноактеры Конрад Вейдт (1893 – 1942) и Мэри Пикфорд (р. 1895).
4 Присцилла Дин (р. 1896) — американская киноактриса. Фильм с участием ее и Уоллеса Бири «Нищая из Стамбула» (1920, режиссер Тод Браунинг) шел в 1922 – 1928 гг. в СССР и имел большой успех. По воспоминаниям Х. Херсонского, этот фильм был показан делегатам X съезда Советов в 1922 г. («Страницы юности кино», М., 1966, стр. 106).
5 Кэрол Демпстер (р. 1898) — американская киноактриса, работавшая у Д. Гриффита; ее лучший фильм — «Салли из Очилон» (1925).
6 «Медвежья свадьба» — фильм режиссера К. В. Эггерта по сценарию Г. Э. Гребнера и А. В. Луначарского, по мотивам новеллы П. Мериме «Локис». Производство «Межрабпом-Русь» (1925). В рецензиях указывалось, что авторы исказили замысел П. Мериме, создав чисто развлекательный фильм.
7 Гельцер Екатерина Васильевна (1876 – 1962) — балерина, народная артистка РСФСР; много выступала на сцене в первые годы революции, пропагандируя классический балет.
Величайшая творческая честность*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Кино», М., 1936, 22 июня. Авторский подлинник не сохранился.
О встречах Эйзенштейна с А. М. Горьким сведения очень отрывочны и неполны. В «Летописи жизни и творчества А. М. Горького» зарегистрирована одна только встреча — в январе 1935 года; по-видимому, Эйзенштейн участвовал и в других встречах киноработников с писателем в 1935 г. О встрече с А. М. Горьким в 1934 г. других сведений, кроме воспоминаний самого Эйзенштейна, нет. Над сценарием о беспризорных под названием «Преступление» А. М. Горький работал в 1932 г., причем в сентябре 1932 г. написал вторую редакцию этого сценария; поэтому вполне возможно, что встреча с А. М. Горьким и чтение сценария могли состояться в 1934 г. Об этом же эпизоде Эйзенштейн упоминает в своих «Автобиографических записках» (том I, стр. 501). Сценарий А. М. Горького напечатан в его Собрании сочинений, т. 10, М., 1952, стр. 323 – 398.
Эссе об эссеисте*
Публикуется впервые по автографу Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве, с датой «5 ноября 1935 г.» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
Статья о поэте, переводчике, историке литературы и театроведе Пиане Александровиче Аксенове (1884 – 1935), авторе книг «Шекспир» (1936), «Елизаветинцы» 571 (1936), «Пикассо и его окрестности» (1925) и др. Неопубликованная монография И. А. Аксенова «Эйзенштейн» (1935) хранится в составе фонда Эйзенштейна в ЦГАЛИ (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 2774 – 2776).
1 Терзающий глаз Хосе Клементе Ороско вытесняет округлое благополучие фресок Диего Риверы. — Х.-К. Ороско (1883 – 1949) и Д. Ривера (1886 – 1957) — мексиканские художники.
2 Вебстер, Марлоу, Бен Джонсон волнуют и задевают больше Шекспира. — Джон Вебстер (1580 – 1634), Кристофер Марло (1564 – 1593) и Бен Джонсон (1573 – 1637) — английские драматурги елизаветинской эпохи.
3 … он культивировал манеру эссеиста. — Эссе — критический очерк, набросок, свободное изложение какой-либо литературной или общественной проблемы, отсюда — эссеист.
4 … в форме Квинси или Уистлера. — Томас де Квинси (1785 – 1859) — английский писатель, предшественник декадентов. Джемс Мак-Нейл Уистлер (1834 – 1903) — американский живописец-импрессионист, часто применял к названию своих картин музыкальные термины.
Свой!*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Кино», М., 1935, 5 сентября. Авторский подлинник не сохранился.
С Анри Барбюсом (1873 – 1935) Эйзенштейна связывали тесные дружеские отношения. В фонде Эйзенштейна хранится семь писем А. Барбюса за 1928 – 1933 гг. и его отзыв о фильме Эйзенштейна «Старое и новое» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1634). Эйзенштейн встречался с А. Барбюсом неоднократно и во время своего пребывания во Франции и в Москве.
1 Истрати Панаит (1884 – 1935) — французский писатель, по происхождению румын. В 1928 г. посетил СССР, в дальнейшем выступал в западноевропейской печати как противник Советской России, проповедуя сотрудничество классов.
Поль
Робсон
Концерты в Москве*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Рабочая Москва», 1936, 20 декабря. Авторский подлинник не сохранился.
Выдающийся негритянский певец Поль Робсон (р. 1898) был близким другом Эйзенштейна. О нем Эйзенштейн упоминает в своих «Автобиографических записках». В 1931 г. Эйзенштейн собирался ставить фильм «Черное величество» с участием П. Робсона о гаитянском короле Анри-Кристофе. Сохранилась даже планировка кадров к этому фильму (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 340). Широко известна фотография Эйзенштейна, встречающего Поля Робсона на Белорусском вокзале в 1934 г. Поль Робсон неоднократно посещал Советский Союз. Эйзенштейн пишет об его концертных выступлениях 1936 г.
1 Они пересыпаны именами Моисея, Иезекииля, Иерихона, Иордана. — Моисей и Иезекииль — древнееврейские пророки, Иерихон — город, Иордан — река в Палестине.
2 … чтобы увести евреев в обетованную землю… — По библейскому преданию, Моисей по повелению бога вывел еврейский народ из Египта, где он находился в рабстве, и привел его после долгих скитаний в «обетованную» землю — Палестину.
572 Мы и они*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Кино», М., 1938, 5 декабря. Авторский подлинник не сохранился.
Статья посвящена трем выдающимся американским кинематографистам: Д. Гриффиту (1875 – 1948), Ч. Чаплину (р. 1889) и Р. Флаэрти (1884 – 1951) и рассказывает о встрече с ними во время пребывания Эйзенштейна в США в 1930 г.
1 Флаэрти Роберт — основоположник американской документально-этнографической кинематографии. Его фильмы — «Нанук» (1922), «Моана южных морей» (1926), «Табу» (1931), «Человек из Арана» (1932), «Маленький погонщик слонов» (1937), «Земля» (1942), «Повесть о Луизиане» (1949) и др.
Хэлло, Чарли!*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Кино», М., 1939, 17 апреля. Авторский подлинник не сохранился.
Написано в связи с 50-летием Чарли Чаплина.
1 … вспоминаешь те шесть месяцев в Голливуде… — Эйзенштейн имеет в виду свое пребывание в США с июня по декабрь 1930 г. О встречах с Ч. Чаплином Эйзенштейн писал в своих «Автобиографических записках».
Рождение актера*
Публикуется впервые по автографу Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1214). Написано в феврале 1939 г.
Статья о Борисе Николаевиче Ливанове (р. 1904), артисте МХАТ, ныне — народном артисте СССР, о его выступлении в роли Чацкого в спектакле «Горе от ума» (в постановке Вл. И. Немировича-Данченко, 1939).
1 Новалис (Фридрих фон Гарденберг) (1772 – 1801) — немецкий поэт-романтик.
2 … среди зрителей Керженцев. Роза Тамаркина и Борис Эрдман. Эмиль Гилельс и Борис Пастернак. По долгу службы — Сахновский. — Платон Михайлович Керженцев (1881 – 1940) — председатель Комитета по делам искусств; Роза Владимировна Тамаркина (1920 – 1950) — пианистка; Борис Робертович Эрдман (1899 – 1960) — театральный художник; Эмиль Григорьевич Гилельс (р. 1916) — пианист; Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960) — поэт. Владимир Григорьевич Сахновский (1886 – 1945) — режиссер, театровед, с 1937 г. — заведующий художественной частью МХАТ.
3 Почему нет Юзовского, Альтмана, Гурвича? — Иосиф Ильич Юзовский (1902 – 1964), Иоганн Львович Альтман (1900 – 1955) и Абрам Соломонович Гурвич (1897 – 1962) — театральные критики.
Жизнь — подвиг*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Кино», М., 1938, 17 декабря. Авторский подлинник не сохранился.
Статья написана в связи с гибелью выдающегося советского летчика Валерия Павловича Чкалова (1904 – 1938).
573 25 и 15*
Печатается по тексту первой публикации — газета «Кино», М., 1939, 23 мая. В архиве Эйзенштейна сохранился черновой набросок этой статьи (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1223).
Статья Эйзенштейна посвящена его другу и многолетнему соратнику, оператору Эдуарду Казимировичу Тиссэ (1897 – 1961) и написана в связи с 25-летием его работы в кино и 15-летием совместного творчества.
1 … увлекался «Кабирией» и Максом Линдером, Поксоном и Прэнсом… — «Кабирия» (1913) — итальянский фильм Пьеро Фоско (псевдоним реж. Дж. Пастроне) из эпохи пунических войн. Макс Линдер (1883 – 1925) и Пренс (Шарль Пренс Ригаден) — популярные французские киноактеры раннего периода немого кино. Поксон (Джон Банни) — американский киноактер.
2 Михин — см. прим. к статье «Земля наша обильна…». В сборнике «Мосфильм», вып. I, М., 1959, стр. 317 – 324, помещены воспоминания Б. А. Михина «Первое знакомство» — о переходе Эйзенштейна в кинематографию и съемке фильма «Стачка». «Коллектив Эйзенштейна, его, так сказать, “труппа”, мне понравился, — пишет Б. А. Михин (речь идет о просмотре эйзенштейновских спектаклей в Первом рабочем театре Пролеткульта). — После долгих раздумий и обсуждений я решил добиться привлечения Эйзенштейна вместе с его коллективом на работу в кино… В первую очередь надо было решить вопрос о подходящем операторе, близком по духу Эйзенштейну. Это должен был быть человек молодой, но опытный, мастер своего дела. Оператор Э. Тиссэ показался мне удовлетворяющим всем этим условиям».
Око за око*
Публикуется впервые по автографу Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2). Статья написана в 1940 г.
Литературный портрет известного советского журналиста Михаила Константиновича Розенфельда (1906 – 1942). М. К. Розенфельд (как его именует Эйзенштейн — «Майк») известен своим участием в полярных экспедициях 1930-х гг., путешествиями по Северу, по Монголии и Средней Азии. Ему принадлежит сценарий фильма «Ущелье Аламасов» (реж. В. Шнейдеров, 1937). М. К. Розенфельд присутствовал при съемках фильмов Эйзенштейна «Бежин луг» и «Александр Невский». Погиб во время Великой отечественной войны. Архив М. К. Розенфельда хранится в ЦГАЛИ (ф. 1669).
1 Мы на съемках в Армавире. — Речь идет о съемках фильма «Бежин луг» на Северном Кавказе в 1936 г., в районе города Армавира.
2 «Комсомольская правда» хочет выслать специального корреспондента. — М. К. Розенфельд числился специальным корреспондентом «Комсомольской правды», употребляя его шутливое выражение «по особо важным делам». Бубекин, о котором упоминается в статье Эйзенштейна, — ответственный редактор «Комсомольской правды».
3 Слепнев М. Т. (р. 1896) — летчик полярной авиации, принявший в 1934 г. участие в спасении экипажа ледокола «Челюскин», раздавленного льдами в Восточно-Сибирском море. Самолет М. Т. Слепнева (на борту которого находился М. К. Розенфельд) летел в район поисков челюскинцев через Америку, через Аляску. М. Т. Слепневу (как и другим летчикам, принимавшим участие в спасении челюскинцев) было присвоено звание Героя Советского Союза.
4 574 Во время спасения «Малыгина»… — Ледокол «Малыгин» в 1933 г. потерпел крушение около о. Шпицбергена. Работы по спасению «Малыгина» и снятию его с камней проводились в очень широком масштабе; был привлечен ЭПРОН — Экспедиция подводных работ особого назначения. В «Комсомольской правде» М. К. Розенфельд подробно освещал эту эпопею.
5 … месяц дождей в Муганских степях. — Съемка фильма «Старое и новое» проводились зимой 1926 г. в Муганских степях, в Азербайджане.
6 И шесть недель тропических ливней в Тетлапайаке… — Имеются в виду съемки фильма «Да здравствует Мексика!» в Мексике в 1930 г.
Неистовые художники*
Печатается по тексту первой публикации — журнал «Советское фото», М., 1940, № 1, стр. 7. Авторский подлинник не сохранился.
Статья написана в связи с 20-летием советской кинематографии, которое отмечалось в 1940 г. Эйзенштейн перечисляет и характеризует крупнейших советских фотографов-юбиляров: Григория Петровича Гольдштейна (ум. в 1940), Петра Константиновича Новицкого (1885 – 1940), Дмитрия Григорьевича Дебабова (1900 – 1949), Макса Владимировича Алыхерта (р. 1885), Аркадия Самойловича Шайхета (р. 1898), Абрама Петровича Штернберга (р. 1894), Анатолия Васильевича Скурихина (р. 1900), Георгия Петровича Петрусова (р. 1903), Александра Михайловича Родченко (1891 – 1956), Якова Николаевича Халипа (р. 1908), Михаила Михайловича Калашникова (1906 – 1944), Макса Захаровича Ненсона (р. 1893). В. В. Трохачева (р. 1905).
1 … как Атже, или портреты Давида Октавиуса Хилла… — Эжен Атже (ум. 1925) — французский фотограф; Давид Октавиус Хилл (1802 – 1870) — английский фотограф.
[О Маяковском]*
Рукопись-автограф Эйзенштейна, хранящаяся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2), имеет несколько дат: «5 апреля 1940 г.», «19 апреля», «16 – 18 июня» и несколько черновых заглавий: «В. В.», «Конец Маяковского» и др., отражающих работу над заметками о Маяковском. Впервые опубликовано в сокращенном виде в журнале «Искусство кино», М., 1958, № 1, стр. 73 – 75. Печатается текст авторского подлинника.
Кроме публикуемого текста в архиве Эйзенштейна сохранились черновые наброски под заглавием «Предсмертное письмо В. В. Маяковского», в которых Эйзенштейн дает стилистический анализ известного письма В. В. Маяковского. В частности, он пишет: «Я думаю, что один из самых величественных и трагических случаев внутренней синхронности, синхронности через образ и тему при кажущейся внешней безотносительности, — это последнее, что написал Маяковский. Его “Письмо Правительству” перед смертью». Эйзенштейновский анализ письма В. В. Маяковского остался незаконченным.
1 … наш воинский эшелон… — В 1919 – 1920 гг. Эйзенштейн служил младшим прорабом в 18-м военном строительстве — специальной военно-инженерной организации, находившейся в составе Западного фронта.
2 И в плакате РОСТА пригвожден польский пан. — Плакаты РОСТА (Российского телеграфного агентства) — агитационно-пропагандистские плакаты, 575 имевшие широкое распространение в годы гражданской войны. Активное участие в их создании принимал В. В. Маяковский. Эйзенштейн описывает один из плакатов В. В. Маяковского, посвященный войне с белополяками.
3 Театр РСФСР I — был создан в 1920 г. Вс. Мейерхольдом. С 1926 г. стал называться Гос. театром им. Вс. Мейерхольда.
4 … последние репетиции пьесы, странным сочетанием соединившей в своем названии буфф и мистерию. — Речь идет о «Мистерии-буфф» В. В. Маяковского.
5 … его выбритый череп, прикрытый высокой красной турецкой феской. — Имеется в виду Вс. Э. Мейерхольд.
6 ЛЕФ — Левый фронт искусства — литературная организация, существовавшая в 1923 – 1928 гг. В нее входили писатели «левого» направления, бывшие футуристы; возглавлял ЛЕФ В. В. Маяковский, который был и редактором одноименного журнала «Леф».
7 «Монтаж аттракционов» — статья Эйзенштейна 1923 г., написанная в связи с постановкой в Первом рабочем театре Пролеткульта «На всякого мудреца довольно простоты». См. том II, стр. 269.
8 … критикуя «литобработку»… текста Островского одним из лефовцев… — Имеется в виду писатель и драматург Сергей Михайлович Третьяков (1892 – 1939).
9 Дункан Айседора (1878 – 1927) — американская танцовщица, создательница танцев, основанных на древнегреческой пластике. В 1921 – 1923 гг. жила в СССР; при помощи Наркомпроса организовала в Москве школу танцев, которой потом руководила ее приемная дочь — Ирма Дункан.
10 Новый ЛЕФ — литературная организация, существовала в 1929 – 1931 гг. В. В. Маяковский вышел из Нового ЛЕФА в 1930 г.
11 … Маяковскому не понравилось… — В. В. Маяковский был в Мексике в 1925 г., за пять лет до поездки туда Эйзенштейна.
12 Штраух Максим Максимович (р. 1900) — друг и соратник Эйзенштейна по первым театральным и кинематографическим постановкам; ныне — народный артист СССР. Двадцать восемь писем М. М. Штрауха к Эйзенштейну за 1927 – 1946 гг. хранятся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 2257).
13 … выступления, сохранившиеся в ряде специальных сборников… — После самоубийства С. А. Есенина в 1926 г. во многих газетах (особенно в «Комсомольской правде») появились статьи, направленные против «есенинщины» — богемных настроений среди молодежи и писателей. Появились и отдельные сборники статей на эту тему — «Против “есенинщины”» (1926), «Упадочные настроения среди молодежи» (1927) и др.
14 «Адриенна Лекуврер» — пьеса Э. Скриба, поставленная А. Я. Таировым в Камерном театре в 1919 г. и находившаяся в репертуаре театра почти двадцать лет; в главной роли выступала А. Г. Коонен, создавшая в этом спектакле один из лучших своих сценических образов.
15 Театр Зона — был основан в 1912 г. в Москве антрепренером Игнатием Сергеевичем Зоном.
[Рождение мастера]*
Печатается по тексту первой публикации — журнал «Искусство кино», М., 1940, № 1 – 2, стр. 94 – 95, с уточнениями по автографу Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1244).
576 Статья — творческий портрет А. П. Довженко, рассказ о первом просмотре его фильма «Звенигора» в Москве, который состоялся 23 декабря 1927 г. Об А. П. Довженко и его творчестве Эйзенштейн неоднократно высказывался в своих статьях и выступлениях.
1 «Мудрец» Островского — речь идет о постановке пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (в переработке С. М. Третьякова и Эйзенштейна). Впервые эйзенштейновский «Мудрец» (эпизод с Жоффром) был показан на вечере, посвященном 25-летию сценической деятельности Вс. Э. Мейерхольда в Большом театре 2 апреля 1923 г. 22 апреля состоялась премьера в Первом рабочем театре Пролеткульта. Материалы о постановке «Мудреца» сохранились в фонде Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 798 – 808).
2 … я пережил еще большее с «Потемкиным». — Об эпизоде с демонстрацией фильма «Броненосец “Потемкин”» на юбилейном вечере в Большом театре см. «Автобиографические записки», том I, стр. 316.
3 ВУФКУ — Всеукраинское фото-кино управление.
4 Зуев-Инсаров — графолог, автор нескольких книг по графологии.
5 … моя первая работа «Мексиканец». — Спектакль «Мексиканец» по Джеку Лондону был осуществлен В. С. Смышляевым и Эйзенштейном в Первом рабочем театре Пролеткульта в мае 1921 г. Эйзенштейн был и главным художником-оформителем этого спектакля. В его фонде в ЦГАЛИ сохранились многочисленные эскизы декораций и костюмов, списки бутафории, фотографии сцен из спектаклей, афиши и программы (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 769 – 778).
6 … назову «Красный Гофман», и не допишу ее. — В архиве Эйзенштейна эта рукопись не обнаружена.
7 … тринадцать лет спустя «в том же составе» радуемся его прекрасному «Щорсу». — Просмотр фильма Довженко «Щорс» в Московском доме кино состоялся 3 апреля 1939 г.; на этом просмотре выступал Эйзенштейн.
8 … одновременно с выходом «Арсенала»… — Фильм Довженко «Арсенал» вышел на московские экраны 26 марта 1929 г.; следовательно, новая встреча Эйзенштейна, А. П. Довженко и В. И. Пудовкина состоялась в марте – апреле 1929 г.
9 … императрица Евгения, графиня Евгения Монтихо (1826 – 1920), жена французского императора Наполеона III, славилась красотой и была законодательницей мод своего времени; сыграла отрицательную роль во внутренней и внешней политике Третьей империи.
10 Каскад — цирковой прием, падение с лошади.
Мы встречались*
Публикуется впервые по автографу Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1313). Написано 1 мая 1941 г.
Статья посвящена известному американскому летчику Джимми Коллинзу (1904 – 1936), автору книги «Летчик-испытатель» (русский перевод, с предисловием М. Водопьянова, М., 1938). С Дж. Коллинзом Эйзенштейн встречался в США и Мексике в 1930 – 1931 гг.; статья писалась как предисловие к предполагавшейся публикации сценария американского фильма «Летчик-испытатель».
1 Моносзон Лев Исаакович (1890 – 1938) — председатель «Амкино», содействовавший приезду Эйзенштейна в США и оказывавший ему большую помощь 577 во время пребывания в Америке. В фонде Эйзенштейна хранятся письма Л. И. Моносзона (ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1983 – 1985). Письма Эйзенштейна к Л. И. Моносзону опубликованы Р. Н. Юреневым в сб. «Из истории кино», № 7.
2 Шпенглер Освальд (1880 – 1926) — немецкий философ-идеалист. Его основной труд «Закат Европы» (1918 – 1922), содержащий пессимистическую концепцию развития исторического процесса и неизбежной гибели исторических культур, пользовался широкой популярностью в 20 – 30-е гг. на Западе.
3 Линдберг Чарльз — американский летчик, первым совершивший в 1927 г. беспосадочный перелет из США в Европу через Атлантический океан.
4 … нагружаются тэкилой и мескалем — то есть мексиканскими алкогольными, наркотическими напитками.
5 Посада Хосе-Гуадалупе (1853 – 1911) — мексиканский график, один из крупнейших мексиканских художников.
6 Босх, Гойя, Дике и Гросс — художники, в творчестве которых преобладают гротеск, фантастика; Босх Иеронимус (ок. 1450 – 1516) — нидерландский; Гойя Франсиско (1746 – 1828) — испанский; Дике Отто (р. 1891) немецкий; Гросс Георг (р. 1893) — немецкий художник-график.
7 Ермаковка — ночлежный дом в Москве, в районе Каланчевской улицы, около вокзалов.
Валя Кадочников*
Публикуется впервые по автографу, сохранившемуся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
Валентин Иванович Кадочников (1911 – 1942) был одним из любимых учеников Эйзенштейна. Еще в годы учебы в ГИКе (1931 – 1936) Кадочников проявил незаурядные способности режиссера и художника. Эйзенштейн высоко оценивал его студенческие работы и даже намеревался включить в свой учебник «Режиссура» одну из них — постановочную экспликацию-разработку обликов персонажей фельетонам, Е. Кольцова «Иван Вадимович, человек на уровне» (хранится в Кабинете режиссуры ВГИКа). После окончания ВГИКа Кадочников принял участие в постановке фильма «Бесприданница» как ассистент Я. А. Протазанова, в 1937 – 1941 гг. был художником объемных мультипликационных фильмов: «Про журавля и лису, или Случай в лесу», «Серебряный дождь», «Волк и семеро козлят», «Чудесный светофор» и фильма А. Л. Птушко «Золотой ключик».
Как режиссер Кадочников дебютировал объемно-мультипликационным фильмом «Маленький-удаленький» (1938), а в 1941 г. совместно с другим учеником Эйзенштейна Ф. Филипповым поставил сказку «Волшебное зерно». После эвакуации киностудии «Мосфильм» в Алма-Ату Кадочников совместно с П. М. Аташевой начал работу над сценарием фильма «Сказание о Козы-Корпеш и Баян-Слу», но в 1942 г. был отправлен на заготовки саксаула, где его слабое здоровье было окончательно подорвано. Смерть В. И. Кадочникова глубоко потрясла Эйзенштейна. (Судьбам погибшего художника и его учителя в значительной мере посвящена поэма Владимира Луговского «Город снов», вошедшая в его книгу «Середина века».)
Некролог, написанный Эйзенштейном для студийной газеты, стал не только портретом талантливого, скромного и самоотверженного юноши, но и страстным публицистическим призывом бережно относиться к творческим кадрам, заботиться о людях в трудных условиях войны.
1 578 Величко М. А. — ученик Эйзенштейна, сокурсник Кадочникова. Поставил самостоятельно мультипликационный фильм «Лягушата-летчики» (1938), затем работал в группе И. А. Пырьева над фильмами «Трактористы» (ассистент режиссера) и «Секретарь райкома» (второй режиссер). Погиб в результате несчастного случая во время съемок в 1942 г.
Об Иване Пырьеве*
Публикуется впервые по машинописному тексту, сохранившемуся в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2). Написана в 1946 г. и посвящается Ивану Александровичу Пырьеву (р. 1901), автору фильмов «Партийный билет» (1936), «Богатая невеста» (1938), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «Секретарь райкома» (1942), «В 6 часов вечера после войны» (1944).
1 … я работал на великих традициями прошлого подмостках театра в Каретном ряду… — Имеются в виду первые спектакли Художественного театра, которые состоялись в 1898 г. в помещении, где потом находился театр «Эрмитаж», в Каретном ряду. Здесь же в 1920 – 1921 гг. помещалась так называемая Центральная арена Пролеткульта. Эйзенштейн был членом ее театральной коллегии и заведовал художественно-декорационной частью.
2 Смышляев Валентин Сергеевич (1891 – 1936) — актер, режиссер и театральный педагог; один из участников Первой студии Художественного театра. В 1920 г. был привлечен к театральной работе в Пролеткульте.
3 … безупречно балансировал на проволоке. — Г. В. Александров играл в эйзенштейновском спектакле «Мудрец» роль Глумова, по ходу действия он проходил по проволоке над зрительным залом. Об этом см. «Автобиографические записки», том I, стр. 269.
4 … Пырьев заснялся в моей первой киноработе… — В спектакле «Мудрец» И. А. Пырьев играл роль Городулина и снимался в фильме «Дневник Глумова».
5 Соломко Сергей Сергеевич — художник, известный своими рисунками, сделанными в слащаво-сентиментальном духе, иллюстрировал многочисленные издания А. С. Суворина и других дореволюционных издательств.
ПРКФВ*
Первый вариант статьи был написан в ноябре 1942 г. в Алма-Ате — в архиве Эйзенштейна сохранился его авторизованный машинописный текст (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1339, лл. 4 – 16). В 1947 г. статья была переработана Эйзенштейном (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1339, лл. 31 – 59). Публикуется последний вариант, впервые напечатанный в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 129 – 145.
Статья С. М. Эйзенштейна о С. С. Прокофьеве (1891 – 1953) относится к числу его самых удачных литературных портретов. Нескрываемое восхищение гением композитора сочетается здесь с аналитической наблюдательностью и точностью характеристик. В этой статье наряду с статьей «Юдифь» наиболее ярко воплотилась одна из основных интересовавших Эйзенштейна тем исследования — человек в творческом процессе. И если здесь в центре внимания стоит личность композитора, то в теоретических трудах Эйзенштейна наблюдения над работой С. С. Прокофьева привели к фундаментальным выводам о функции музыки в образной структуре фильма (см. во II томе исследование «Вертикальный монтаж», в III томе — «Неравнодушную природу» и лекции о музыке и цвете в «Иване Грозном»).
579 В Прокофьеве режиссер нашел родственного по складу художника, содружество с которым привело к столь значительным достижениям, как «Александр Невский» и «Иван Грозный». Поразительную близость их дарований отмечал и сам Прокофьев. В статье «Музыка к “Александру Невскому”» (см. сб.: «С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания», М., 1961, стр. 228 – 229) он писал: «Когда… С. М. Эйзенштейн от имени “Мосфильма” обратился ко мне с предложением написать музыку для фильма “Александр Невский”, я, будучи давнишним поклонником его замечательного режиссерского таланта, с удовольствием принял предложение В процессе работы интерес увеличился, так как Эйзенштейн оказался не только блестящим режиссером, но и очень тонким музыкантом». Прокофьев мечтал о том, чтобы Эйзенштейн поставил его оперу «Война и мир», а Эйзенштейн излагал замысел фильма о Пушкине с точным указанием будущей музыки Прокофьева. Известно, что после смерти режиссера Прокофьев счел свою работу в кино оконченной.
Как по материалу, так и по замыслу статья «ПРКФВ» родственна также серии очерков «Люди одного фильма» (см. ниже) и составляет неотъемлемую часть цикла статей Эйзенштейна о своих соратниках по искусству.
1 Стасевич Абрам Львович (р. 1907) — советский дирижер, пропагандист творчества Прокофьева. Из музыки к фильму «Иван Грозный», монологов Ивана и фрагментов сценария Эйзенштейна Стасевич скомпоновал ораторию «Иван Грозный» для хора, чтеца, солистов и большого симфонического оркестра (1962).
2 Хлебников Велемир (Виктор Владимирович) (1885 – 1922) — русский поэт-футурист. Его эксперименты в области стихосложения оказали большое влияние на творчество В. В. Маяковского.
3 В другом месте… я это показал на «Сцене рассвета» в «Александре Невском»… — Имеется в виду третий раздел исследования «Вертикальный монтаж» (см. том II).
4 … наиболее «музыкальными» образ[ц]ами монтажа периода немого кинематографа… «Сюита туманов» в «Потемкине». — «Музыке пейзажа» в кино, и в частности анализу с этой точки зрения «Сюиты туманов», Эйзенштейн посвятил исследование «Неравнодушная природа» (см. том III).
5 Челлини Бенвенуто (1500 – 1571) — итальянский скульптор, ювелир и медальер, автор книги «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции». Варки, Бенедетто (1503 – 1565) — друг Челлини, тосканский ученый первой половины XVI в. Цитируемое Эйзенштейном письмо Челлини от 28 января 1547 г. является ответом на анкету, разосланную Б. Варки крупнейшим художникам с вопросом, какое искусство — живопись или скульптура — важнее.
6 «Океан-море, море синее»… — песня эта была написана С. С. Прокофьевым для «Пролога» к первой серии «Ивана Грозного». После перенесения сцен детства Ивана во вторую серию эпизод с этой песней при окончательном монтаже не вошел в фильм.
7 Марш ли это из сказочных «Трех апельсинов», поединок ли Меркуцио и Тибальда., или выход Кутузова в финале «Войны и мира». — Эйзенштейн называет здесь эпизоды из крупнейших сценических творений С. С. Прокофьева — оперы «Любовь к трем апельсинам» (1919) по пьесе Карло Гоцци, балета «Ромео и Джульетта» (1935 – 1936) и оперы «Война и мир» (1941 – 1952).
8 Чимабуэ — флорентийский художник XIII в. Несмотря на очевидную связь с традициями византийской живописи, его фрески выходили за пределы ее канонов, подготовив почву искусству Возрождения.
9 580 Эль Греко (1541 – 1614, настоящая фамилия Теотокопули, Доменико) — испанский живописец.
10 Гоцци Карло (1720 – 1806) — итальянский драматург, автор театральных фантастических сказок (в том числе «Турандот», 1762), для которых он использовал традиции импровизированной комедии масок.
Неповторимость Галины Сергеевны Улановой*
Публикуется впервые по автографу Эйзенштейна, хранящемуся в его архиве, с датой — 1 июля 1947 г. (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2).
Свою статью (вернее, набросок статьи), о Г. С. Улановой (р. 1910), выдающейся советской балерине, Эйзенштейн предполагал, по-видимому, включить в проектируемую им работу о звукозрительном контрапункте, о чем свидетельствует его помета на рукописи «Третье звено в примерах учения о звукозрительном контрапункте»; поэтому в статье о Г. С. Улановой анализируется ее балетное мастерство именно в этом плане. Поводом к написанию статьи явилась постановка в 1946 г. в Большом театре в Москве балета С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
1 Синкретизм — слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное состояние (например, первобытного искусства).
2 … атрибут магического периода мышления. Пралогического. — Пралогика — учение о первичных формах чувственного мышления, возникающего на заре исторического развития человека. О значении этих форм мышления для художественного творчества Эйзенштейн говорил еще в 1935 г. в своем выступлении на творческом совещании работников советской кинематографии (см. II том). См. также его «Неравнодушную природу» (том III).
3 Лавровский Леонид Михайлович (р. 1905) — балетмейстер, народный артист РСФСР. С 1922 г. работал в Ленинграде, где в 1940 г. поставил балет С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»; в 1944 г. перешел в Большой театр, где им же была в 1946 г. осуществлена новая постановка прокофьевского балета.
4 Арабеск — одна из основных поз классического танца, широко применяемая и в современном балете.
5 Боттичелли Сандро (1444 – 1510) — один из крупнейших художников итальянского Возрождения.
6 … в версии театра им. Кирова… — Имеется в виду ленинградская постановка балета «Ромео и Джульетта» 1940 г., где партнером Г. С. Улановой выступал К. М. Сергеев.
7 … партнера Улановой. — В роли Ромео в Большом театре выступал М. М. Габович (1905 – 1965).
8 Начав работать с парой молодых солистов ГАБТ… — По-видимому, Эйзенштейн имеет в виду свою работу в Большом театре в 1940 г. над постановкой вагнеровской «Валькирии».
9 Термен-vox — одноголосый электрический музыкальный инструмент на электронных лампах, созданный в 1924 г. изобретателем Л. С. Терменом.
Люди одного фильма*
Автограф Эйзенштейна, хранящийся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2), имеет несколько помет с датами: 10 мая 1946 г., 18 марта 1947 г., 25 марта 1947 г. Впервые часть статьи была опубликована в сб.: С. М. Эйзенштейн, 581 Избранные статьи, М., 1956, стр. 146 – 149. В настоящем издании этот текст печатается с уточнениями по автографу.
Задуманный С. М. Эйзенштейном цикл очерков о его сотрудниках по фильму «Иван Грозный» — своеобразный коллективный портрет съемочной группы, — к сожалению, остался неоконченным. Однако даже наброски, публикуемые здесь, имеют большую ценность — не только благодаря точным, выразительным характеристикам соратников режиссера, но и как невольная автохарактеристика самого режиссера. Все, кто работал с С. М. Эйзенштейном, отмечают дружескую и деловую атмосферу, царившую в его группе, способность постановщика пробудить во всех участниках съемок творческое начало и, главное, отношение Эйзенштейна к любому сотруднику — от гениального С. С. Прокофьева до скромного бутафора и ассистента — как к своему соавтору.
Признание соавторства и благодарность за него пронизывают эти наброски, исполненные глубокого уважения к чужому таланту, в какой бы сфере он ни проявлялся.
1 Ядовитые писания Берсеня… — По-видимому, Берсень-Беклемешев Иван Никитич — боярин, русский дипломат, живший в конце XV – начале XVI в.; обвинен во враждебных высказываниях против царя Василия III и казнен в 1525 г.
2 … в решениях Стоглава о… художниках. — Стоглав — состоящая из ста глав книга «Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинах» — постановления церковного собора, созванного Иваном Грозным в 1551 г.
3 Крэпе (точнее, креп от франц. «егере») — легкая прозрачная морщинистая ткань, изготовляемая из шелка или бумаги.
4 Ламанова Надежда Петровна (1861 – 1941) — театральный художник-костюмер; была одним из авторов моделей костюмов к фильму «Александр Невский».
5 Коровин Константин Алексеевич (1861 – 1939) — русский живописец и театральный художник, крупнейший представитель русского импрессионизма.
6 [Вольский]. — Сохранился набросок плана очерков, в котором глава о звукооператоре Борисе Алексеевиче Вольском (р. 1903) названа «Миллиметры музыки».
7 Протопоп Аввакум (ок. 1621 – 1682) — поборник русского старообрядчества, оставил «Автобиографию — жития», ценный исторический документ и литературный памятник XVII в.
8 … неоценимого звукооформителя… — Далее в рукописи черновой текст: «Наш с ним культ Сергея Сергеевича [Прокофьева]. Вольский на записи (в будке). Вольский и расстановка микрофонов. Вольский и порезанные ноты на мовиоле. Музыка — на миллиметры. Как я дергаю Вольского (Short insight into my method of morrying Heaven and Hell [— краткое разоблачение моего метода сочетания неба и ада (англ.). — Ред.] — музыки и изображения)…»
9 Стрекоза и муравей. — Название главки об ассистенте по монтажу Эсфири Вениаминовне Тобак дается по упоминавшемуся в прим. 6 плану очерков. В рукописи сохранилось и другое название очерка: «Фира — человекоединица, хотя ростом полуединица!»
10 В одном из планов серии «Люди одного фильма» очерк об ассистенте 582 режиссера Валентине Владимировне Кузнецовой назван «Скотланд-Ярд для артистов Москвы».
11 Лукина Лариса Александровна — редактор музыкального отдела «Мосфильма».
Charlie the Kid*
Статья написана в 1943 – 1944 гг. и впервые опубликована с сокращениями в сб.: «Чарльз Спенсер Чаплин», М., 1945, стр. 137 – 138. Полный текст по авторскому подлиннику (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2) был напечатан в сб.: С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., 1956, стр. 205 – 233. Печатается этот текст.
1 Рембо из Парижа… Гогена на Таити… — Артюр Рембо (1854 – 1891) — французский поэт, один из зачинателей символизма; Поль Гоген (1848 – 1905) — французский живописец.
2 … толкования Канта и Бергсона… объемлющие до смешного малые области истолкования. — Взгляды С. М. Эйзенштейна на проблему комического, и в частности его критика концепций философов-идеалистов Иммануила Канта (1724 – 1804) и Анри Бергсона (1859 – 1941), нашли отражение в первом томе учебника «Режиссура» (раздел «Возвращение солдата с фронта», гл. XI) — см. том IV настоящего издания.
3 Мередит Джордж (1828 – 1909) — английский поэт, беллетрист и эссеист.
4 Лабиш Эжен-Мари (1815 – 1888), Скриб Огюстен-Эжен (1791 – 1861) — французские драматурги, авторы многочисленных комедий и водевилей с занимательной интригой и остроумным диалогом. Из пьес Лабиша наиболее популярны «Соломенная шляпка» (1851), «Путешествие г-на Перришона» (1860) и др.; основные произведения Скриба — «Лестница славы» (1837), «Стакан воды» (1840), «Адриенна Лекуврер» (1849).
5 Из интервью Ч. Чаплина журналу «Intercine» в 1935 г. Изложение этого интервью было напечатано в журнале «Искусство кино» (1936, № 4, стр. 62 – 63) и перепечатано в сб. «Чарльз Спенсер Чаплин» (М., Госкиноиздат, 1945, стр. 184 – 187).
6 В бессмертной «Алисе»… так называемых «Лимерикс». — Кэррол Льюис (Чарльз Л. Доджсон) (1832 – 1898) — математик и писатель, автор книг «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Лир Эдвард (1812 – 1888) — художник и писатель; Эйзенштейн ссылается здесь на его «Сборник бессмыслиц» (1848). Суинберн (Свинберн) Алджернон Чарльз (1837 – 1909) — поэт, автор романтических «Поэм и баллад» (1866), драматической трилогии о Марии Стюарт (1865 – 1888), исследований о Шекспире, Гюго и других произведений. Россетти Данте Габриэле (1828 – 1882) — английский живописец и поэт, один из основателей группы «прерафаэлитов». Рёскин (Раскин) Джон (1819 – 1900) — искусствовед и публицист. «Лимерик» — стихотворение-нонсенс, состоящее из пяти анапестических строк; рифмуются первая, вторая и пятая строки, содержащие по две стопы.
7 Мальро Андре (р. 1895) — французский писатель. Эйзенштейн познакомился с ним в Париже в 1929 г. (см. об этом в «Автобиографических записках» главу «Истинные друзья познаются в беде…», том I). Во время посещения СССР в 1934 г. Мальро вместе с Эйзенштейном заключил договор с киностудией «Межрабпомфильм» на написание сценария по роману «Условия человеческого существования». Замысел не был осуществлен.
8 583 «Ночь в театре» («Чарли в театре») — короткометражная комическая, снятая Чаплином в 1915 г.
9 Фор Эли (р. 1873) — французский искусствовед и критик, многотомная история искусств которого выходила отдельными выпусками с 1909 по 1914 г. Посвятил Ч. Чаплину статью «The Art of Charlie Chaplin» в книге «The Art of Cincplastics» («Искусство Чарли Чаплина» в книге «Искусство кинопластики») (1923).
10 Упоминаемая здесь сцена имеется в фильме «Тихая улица» (1917), а не в «Малыше», как ошибочно указывает С. Эйзенштейн.
11 Бодлер Шарль (1821 – 1867) — французский поэт.
12 Дебюро — см. прим. 2 к статье «Юдифь».
13 Бирс Амброз (1842 – 1914) — американский новеллист, мастер коротких «историй ужасов», построенных на острой фабуле в традиции Эдгара По. Один из любимых писателей С. М. Эйзенштейна.
14 Фаллада Ганс (настоящая фамилия Рудольф Дицген) (1898 – 1947) — немецкий писатель, автор романов «Кто отведал тюремной похлебки» (1934), «Волк среди волков» (1937), «Каждый умирает в одиночку» (1947) и др. Роман Фаллады «Kleiner Mann, was nun?» (1932) вышел в русском переводе под названием «Маленький человек, что же дальше?».
15 «Смеясь, мы расстаемся со своим прошлым» — перефразированные слова К. Маркса из работы «К критике гегелевской философии»: «Зачем так движется история? Затем чтобы человечество, смеясь, расставалось со своим прошлым» (К. Марко и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 1, стр. 389).
Вместо послесловия*
Публикуется впервые по сохранившемуся в архиве Эйзенштейна автографу послесловия (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1285), написанного, очевидно, в 1940 г. к готовившемуся к печати сборнику «Крупным планом».
1 … «Закон жизни», «Бабы», «Моя любовь»… — «Закон жизни» (1940) — фильм режиссеров А. Столпера и Б. Иванова, «Бабы» (1940) — фильм режиссера В. Баталова, «Моя любовь» (1940) — фильм режиссера В. Корш-Саблина.
Приложения
[Литература и кино]*
Публикуется по тексту журнала «На литературном посту», М., 1928, № 1, стр. 71 – 73; в архиве Эйзенштейна (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 948) сохранились черновые наброски ответов Эйзенштейна.
Анкета журнала «На литературном посту» содержала следующие вопросы:
1. Насколько Вы знакомы с современной литературой?
2. Литература и кино.
3. Влияет ли современная литература на кино?
4. Что нужно кино от литературы? Чувствуется ли общий стиль в развитии путей литературы и кино?
5. Что Вы можете сказать о современной критике?
Ответ Эйзенштейна на эту анкету весьма характерен для «типажно-монтажного» периода его творчества с присущим ему воинственным отрицанием 584 «литературы в кино» и прежде всего традиционной фабулы, психологически разработанных человеческих характеров и т. п. Литература, по его мнению, может интересовать кинематограф либо как поставщик нового материала (отсюда внимание к книгам очеркового жанра), либо методологически как школа образного осмысления и «обработки» действительности. Логическим следствием такой позиции является вывод: «О связи же кино и литературы как таковой следует признать, что связи этой все же подлежит быть платонической». Непосредственно из этого вывода родилась через год статья «О форме сценария», сыгравшая столь важную роль в формировании концепции «эмоционального сценария» (см. во II томе статью и комментарий к ней).
Однако уже с начала 30-х гг. взгляды Эйзенштейна на связи литературы и кино начинают эволюционировать. Так, если в 1928 г. романы Джемса Джойса интересуют его прежде всего в плане конструктивных экспериментов «деанекдотизации», то в 1930 г., работая над сценарием «Американская трагедия», Эйзенштейн открывает для кино внутренний монолог и через него — новый подход к проблеме воплощения на экране характера персонажа. Постепенно изменяется и его отношение к сюжету. Продолжая углубленно изучать творчество Золя, он все чаще обращается к произведениям Пушкина, Гоголя, Шекспира, Бальзака, в последние годы жизни — также Достоевского и Лескова.
Заново осмысленные соотношения и связи искусств, в том числе литературы и кино, находятся в центре внимания его исследований зрелого периода — «Монтаж» (том II), «Неравнодушная природа» (том III), а также неоконченных трудов «Метод» и «Пушкин и Гоголь».
1 «Фэксы» ставят «Штурм неба» по «Брюху Парижа», — «Штурм неба» — рабочее название фильма «Новый Вавилон» (1928) режиссеров Г. Козинцева и Л. Трауберга, организаторов ленинградской группы «Фабрика эксцентрического актера» (ФЭКС). Эйзенштейн имеет в виду использование некоторых деталей и мотивов романа Э. Золя «Чрево Парижа» при постановке этого фильма о Парижской коммуне.
2 «Конармия» (1926) — книга рассказов советского писателя Исаака Эммануиловича Бабеля (1894 – 1941).
3 Федорченко Софья Захаровна (1888 – 1959) — советская писательница. Наиболее известна ее книга очерков «Народ на войне».
4 О нем я вскользь писал как-то для «Кино-газеты»… — По всей вероятности, Эйзенштейн ссылается здесь на статью «Бела забывает ножницы» (см. том II).
5 «Улисс», конечно, наиболее интересное для кинематографии явление на Западе. — Эйзенштейн развил впоследствии эту мысль в статье «Одолжайтесь!» (см. в томе II). Об отношении его к Джемсу Джойсу (1882 – 1941) см. также в томе I «Автобиографические записки».
6 … наспех читать, как Драйзера, накануне официальной встречи с ним. — Эйзенштейн познакомился с Теодором Драйзером (1871 – 1945) во время приезда последнего в СССР в 1927 г. Американский писатель упомянул об этом знакомстве в книге «Драйзер смотрит на СССР».
7 «Молодость автора». — Эйзенштейн сокращенно называет здесь роман Джойса «Portrait of the Artist as a Young Man» («Портрет автора в молодости. 1904 – 1914»).
8 … киржацкая партизанщина Шишкова… — Имеется в виду роман «Ватага» (1924) Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873 – 1945), впоследствии автора романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев» и др.
9 585 Кондурушкин Иван Семенович — автор книги «Частный капитал перед советским судом. Пути и методы накопления по судебным и ревизионным делам 1918 – 1926 гг.» (М.-Л., Гос. изд-во, 1927).
10 «Маклочане» О. Давидова — книга очерков о деревне (Л., изд-во «Прибой», 1926), многие мотивы которой были использованы С. М. Эйзенштейн ном в работе над сценарием «Генеральная линия», как и материал книги «Деревня на переломе» (год работы в деревне) Я. И. Бурова (М.-Л., Гос. изд-во, 1926).
11 «Цемент» (1925) — роман Федора Васильевича Гладкова.
12 «Рокамболь» — авантюрный роман Понсона дю Террайля, дважды экранизированный в немом кино (в 1908 г. — в Италии и в 1913 – 1914 гг. — во Франции). «813» — одна из книг серии «Приключения Арсена Люпена» Мориса Леблана. «Нибелунги» — экранизация древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах» (1924, режиссер Фриц Ланг).
13 «Парижанка» (1923) — фильм Ч. Чаплина.
14 … живописи (немецкая «школа»)… — Немецкие экспрессионисты пытались добиться деформации киноизображения откровенно живописными средствами — искаженными пропорциями декораций, нарисованными пятнами света и тени, доведенным до условной маски гримом и т. п. Наиболее характерный пример — фильм «Кабинет доктора Калигари» (1920, режиссер Р. Вине, художники Г. Варм, В. Рёриг, В. Райман). Художнику Герману Варму принадлежит лозунг: «Фильмы должны стать ожившими рисунками».
15 … когда мы с ним делали сценарий «из» «Бени Крика». — Эйзенштейн работал с И. Бабелем над экранизацией «Одесских рассказов» в июне — июле 1925 г., намереваясь снять фильм параллельно со съемками одесских эпизодов сценария «1905 год», выросших затем в фильм «Броненосец “Потемкин”».
16 Блюм Владимир Иванович — советский критик 20-х годов.
17 … цитируется Ленин с показным пафосом в защиту культур-фильма. — Известно несколько свидетельств (В. Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского и других) о высокой оценке В. И. Лениным научно-просветительного кино него роли в пропаганде идей партии, народном образовании и распространении знаний о новейших достижениях науки и техники. Эти высказывания Ленина привлекли внимание кинематографистов и оказали влияние на многие теоретические концепции и фильмы 20-х годов, в частности на творчество С. М. Эйзенштейна (см., например, в настоящем томе статью «Наш “Октябрь”. По ту сторону игровой и неигровой», а также «К вопросу о материалистическом подходе к форме» в томе I).
18 … межрабпомовского салона. — Эйзенштейн имеет в виду ряд фильмов производства акционерного общества «Межрабпом-Русь» (с 1928 г. — «Межрабпомфильм»), продолжавших традиции коммерческого, кассового кинематографа. Примером подобной продукции могут служить фильмы К. Эггерта «Медвежья свадьба» (1925) и «Ледяной дом» (1928).
[Что
мне дал В. И. Ленин]
Ответ на анкету*
Опубликовано по черновому автографу (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2) в журнале «Искусство кино», 1964, № 4, стр. 2 – 8. Печатается этот текст.
7 декабря 1932 г. редакция газеты «Кино» направила С. М. Эйзенштейну письмо следующего содержания:
586 «Уважаемый товарищ Эйзенштейн!
Редакция газеты “Кино”, подготовляя номер, посвященный годовщине со дня смерти В. И. Ленина, просит Вас не отказать принять участие в анкете на тему “Что мне дал В. И. Ленин”. Просьба ответить на следующие вопросы:
1. Видели и слышали ли Вы Ленина при жизни, и какое это на Вас произвело впечатление?
2. Расскажите о первом проявлении влияния на Вас и Вашу творческую работу ленинского учения.
3. Последующее углубление этого влияния.
4. Как Вы пришли к выводу о необходимости серьезного изучения марксизма-ленинизма?
5. Чем обогатил Ваши творческие установки и творческую практику марксизм-ленинизм?
6. Влияние ленинского учения на Вашу конкретную продукцию.
7. Каким образом, считаете Вы, должна отобразить кинематография Ленина и его учение?
8. Расскажите еще все то интересное, что вызывает у Вас тема анкеты, если бы даже это и выходило за пределы ответов на поставленные редакцией вопросы…
Зав. критическим сектором М. Белявский».
Эйзенштейн сразу набросал черновик ответа на эту анкету, но по каким-то причинам не довел работу над ним до конца. Лишь в 1963 г. удалось установить порядок разрозненных страниц, расшифровать конспективно записанные фразы.
Ответ на анкету газеты «Кино» представляет исключительный интерес прежде всего благодаря самой теме. В нем также ярко выразились представления Эйзенштейна о задачах нового, социалистического искусства: не только тематически отражать революционные процессы жизни, но и в самом методе художественного творчества учитывать и использовать теорию марксизма-ленинизма — материалистическую диалектику. Впоследствии Эйзенштейн подробно разработает и обоснует этот тезис в своих основных теоретических трудах — «Режиссура», «О строении вещей», «Пафос». Ответ на анкету отразил переломный этап на пути к ним.
Начало 30-х гг. было для Эйзенштейна периодом кризиса ранних концепций. Предстояло ответить на один из основных вопросов, занимавших внимание режиссера: что лежит в основе структуры фильма — строй логического мышления, к чему приводила теория интеллектуального кино, или закономерности чувственного, пралогического образного мышления, что вытекало из другой линии поисков Эйзенштейна? Десять лет спустя, работая над книгой «Метод», Эйзенштейн признавался:
«… Я… докатился до действительно предельно безотрадной картины, до концепции, разодранной надвое с таким же треском, как завеса храма, разодравшаяся сверху донизу в час трагического события на Голгофе.
Голгофой мне рисовался и мой тогдашний трагический внутренний “раздир души”.
Помогла — диалектика.
Точнее — слова Ленина об ее сущности:
“Вкратце диалектику можно определить как учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики…” (Ленинский сборник IX, стр. 275 – 277).
587 Не напрасно эти примечательные слова обведены рукой Ленина четырехугольной рамкой как нечто особенно важное.
И для раздира мучающих меня противоречий [они] есть, несомненно, высшее… свивающее их единство» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 3).
В ответе на анкету «Что мне дал В. И. Ленин» еще нет решения мучивших Эйзенштейна противоречий. Призывая к «экранизации теории марксизма-ленинизма», «Ответ» прямо перекликается со статьей «Перспективы» — декларацией интеллектуального кино. Но в нем уже осознан путь от «революционности вообще» к овладению методом материалистической диалектики, ставшей фундаментом здания эйзенштейновской теории киноискусства.
1 Образ Ильича невоссоздаваем. — В этом утверждении отразились взгляды, характерные для «типажного» периода творчества Эйзенштейна, когда он отрицательно относился к проблеме создания образа Ленина актерскими средствами. Впоследствии Эйзенштейн пересмотрел эти взгляды и высоко оценивал работу Б. В. Щукина и М. М. Штрауха (см., например, в настоящем томе статьи «Образ громадной исторической правды и реалистичности» и «Ленин в наших сердцах»).
2 Портретов Ленина не видно… Недорисованный портрет — строфа из стихотворения Н. Г. Полетаева (1889 – 1935).
3 … талмудистов «киноправды» документализма. — Имеются в виду резко критические отзывы группы «киноков», и прежде всего Дзиги Вертова (см. журнал «Новый Леф», 1928, вып. четвертый), о попытке типажного воспроизведения в «Октябре» облика Ленина рабочим Никандровым. Д. Вертов, настаивавший на использовании только документального материала для воплощения на экране образа Ильича, создал впоследствии фильм «Три песни о Ленине» (1934).
4 … в журнале АРК. — Статья помещена в томе I настоящего издания.
5 Стецкий Л. И. (1896 – 1938) — в начале 30-х гг. заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП (б).
6 … выполнение этой темы. — Встреча С. М. Эйзенштейна и Г. В. Александрова со Сталиным состоялась после окончания работы над первым вариантом фильма «Старое и новое» («Генеральная линия»). В этом абзаце «Ответа» содержится важное для творческой биографии Эйзенштейна упоминание о причинах, по которым он отложил реализацию замысла фильма о «Капитале» Маркса.
7 … специфик Банвилей, Бодлеров, Сезаннов или ранних Пикассо… — Подразумевается статья Г. В. Плеханова «Искусство и общественная жизнь», где рассмотрено творчество французского писателя Теодора-Фолена де Банвиля (1823 – 1891), поэта Шарля Бодлера (1821 – 1867), художников Поля Сезанна (1839 – 1906) и Пабло Пикассо (р. 1881).
8 … чудовищную ошибку Плеханова по отношению к Горькому (по «Матери»)… — В «Предисловии» к третьему изданию сборника «За двадцать лет» Плеханов писал: «… Горький считает себя марксистом: ведь в своем романе “Мать” он уже выступил как проповедник Марксовых взглядов. По тот же роман показал, что для роли проповедника этих взглядов Горький совершенно не годится, так как взглядов Маркса он совсем не понимает» (Г. В. Плеханов, Литература и эстетика, т. I, ГИХЛ, 1958, стр. 132).
588 Указатель имен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Агапов Б. Н. 558
Айзеке, америк. журналистка 372
Аксенов И. А. 156, 404, 405, 406, 570, 571
Алейников П. М. 555
Александр Невский 94, 105, 107, 117, 118, 120, 124, 126, 127, 179, 194, 204, 327, 359, 425, 430, 457, 459, 462, 470, 491, 563, 573, 579, 581
Александров А. Н. 557
Александров Г. В. 205, 263, 423, 454, 559, 561, 578, 587
Альфиери В. 100
Андерсен Г. 514
Анри-Кристоф 571
Арватов Б. И. 59
Арвидсон Л. 153
Аристотель 476
Аристофан 521
Архимед 72
Арцыбашев М. П. 553
Аташева П. М. 577
Афиногенов А. Н. 545
Бабель И. Э. 526, 528, 584, 585
Байрон Д.-Г. 192
Бальзак О. 89, 139, 190, 229, 273, 485, 547, 555, 584
Баргесс Н. 157
Бартельмес Р. 151, 178, 399, 550, 570
Басманов А. Д. 483
Баталов В. П. 583
Батый, хан 204
Бах И.-С. 471
Белинский В. Г. 50, 51, 187, 544
Белый А. (Бугаев Б. Н.) 73, 545
Белявский М. 586
Берсень-Беклемишев И. Н. 481, 581
Бири У. 570
Бирман С. Г. 375, 392, 482, 568
Бирройс 69
Бисмарк О. 115
Блектон С. 552
Богатов Г. 558
Богданов А. А. 184
Богородицкий В. А. 165
Бодуэн де Куртенэ И. А. 307, 562
Боженко В. Н. 179
Боккаччо Д. 540
Болотников И. 327
Большинцов М. В. 555
Бонч-Бруевич В. Д. 184, 185, 585
Борисов-Мусатов В. Е. 375, 568
Браунинг Т. 570
Брашованов Г. 358
Брунеллески Ф. 208
Бруни Ф. А. 120
Бруно Д. 112
Бучма А. М. 483
Бэрк Т. 551
Бэрли, лорд 388
Вагнер Р. 86, 209, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 516, 564, 565, 566
Вакулинчук Г. 464
Варламов К. А. 373
Варм Г. 585
Василий III, царь 581
Васильев Д. И. 557
Васильевы Г. Н. и С. Д., братья 50, 51, 69, 187, 328, 549
Вашингтон Г. 271
Вебер П. 92
Вегенер П. 541
Везендонк М. 345
Вергилий 448
Вернер К. 173
Вертов Д. А. 134, 188, 541, 548, 552, 556, 558, 587
Вивьен Л. С. 566
Вильгельм Завоеватель, английский король 494
Вингфальд Р. 388
Вишневский В. В. 259, 260, 262, 381, 558
Водопьянов М. В. 576
Вольский Б. А. 460, 487, 488, 581
Ворошилов К. Е. 558
Врангель П. Н. 116
Габович М. М. 580
Гардин В. Р. 555
Гардинер Р. 559
Гаррарда М. 387
Гвоздев А. А. 91
Генрих VIII, англ. король 277
Герасимов С. А. 202, 205, 289, 560
Гертович И. Ф. 492
Герцен А. И. 193
Гис К. 388
Гитлер А. 266, 269, 278, 288, 484, 518, 519
Гиш Д. и Л., сестры 151
Гиш Л. 132, 151, 168, 178, 550
Гладков Ф. В. 585
Глизер Ю. С. 366, 367, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 567, 568, 569
Глинка М. И. 562
Гоголь Н. В. 45, 73, 83, 192, 193, 361, 469, 491, 543, 545, 563, 584
Годдар П. 559
Гольбейн Г. 394
Гольдшмидт Р. 113
Гольдштейн С. 557
Гомер 191
Горо О. 308
Горький А. М. 178, 192, 193, 194, 196, 202, 205, 253, 254, 281, 402, 403, 456, 514, 516, 536, 558, 560, 570, 587
Гранвиль (Жерар Ж.-И.) 388, 569
Гребнер Г. Э. 570
Гризмер Д. 158
Гримм Я. и В., братья 514
Гриффит Д. 129, 131, 132, 133, 134, 136, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 178, 179, 400, 411, 412, 413, 546, 549, 550, 551, 552, 570, 572
Грок (Веттах А.) 355, 368, 566
Грюне К. 551
Грэхем Х. 513
Гудериан Х. 484
Гудон Ж.-А. 89
Давид Ж.-Л. 208
Д’Аламбер Ж.-Л. 496
Дан Ф. 391
Дантон Ж.-Ж. 70
Дебюро Ж.-Г. 368, 515, 567, 583
Дебюсси К. 375
Дезассент 376
Делакруа Э. 101
Демулен К. 70
Деникин А. И. 546
Дерби Д.-Г. (Джон Феникс) 159, 160
Джексон Э. 279
Джойс Д. 89, 90, 526, 547, 584
Дзиган Е. Л. 263
Дизраэли Б. 395
Диккенс Ч. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 161, 162, 163, 192, 504, 546, 549, 550
Диксон Т. 552
Диоклетиан, римск. имп. 71
Дисней У. 359
Днтерле У. 549
Добина З. 558
Довженко А. П. 104, 169, 205, 263, 264, 289, 328, 439, 440, 441, 549, 552, 560, 576
Доллер М. И. 549
Достоевский Ф. М. 47, 192, 196, 511, 584
Дрэза, франц. декоратор 92
Дубровский-Эшке Б. В. 557, 558
Дункан И. 575
Дэтома, франц. декоратор 92
Дюма-отец А., 325
Дюпон А. 540
Дюрер А. 389
Евгения Монтихо, франц. ими. 442, 576
Егорова Е. Г. 556
Елизавета, англ. королева 375, 380, 387, 394, 395, 568, 569
Ермолова М. Н. 389
Ермольев И. Н. 183
Жак Н. 551
Жанна д’Арк 316
Журкин Г. 458
Заборовская П. П. 378
Зархи И. А. 50, 178, 202, 544, 569
Захава Б. Е. 566
Зимрокк К. 345
Зиновьев П. А. 556
Златогорова Т. 557
Золя Э. 100, 123, 196, 347, 442, 525, 549, 563, 565, 584
Зон И. С. 575
Зуев-Инсаров, графолог 439, 576
Иван Грозный 112, 194, 277, 361, 387, 390, 459, 462, 468, 472, 480, 481, 485, 492, 494, 566, 568, 578, 579, 581
Иванов Б. 583
Иванов В., художник 558
Иванов В. В. 562
Ивановский А. В. 552
Ивик, древнегреч. поэт 42
Идзумо Т. 562
Ин Ши 312
Кадочников В. И. 451, 452, 453, 577, 578
Калатозов М. К. 205
Калиостро 509
Калли Д. 551
Карамзин Н. М. 552
Карл Смелый, бургунд. герцог 277
Кауфман М. А. 558
Кауфман Н. 554
Качалов В. И. 389
Каюков С. Я. 555
Керенский А. Ф. 391
Кимбелл К. 153
Кимминс, англ. педагог 514
Кирико 101
Клей К.-М. 279
Колесов Л. К. 362
Коллинз Д. 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 576
Кольцов М. Е. 577
Конвей Д. 549
Коновалов А. И. 391
Кононенко Е. В. 514
Корелли М. 162
Корнель П. 101
592 Коровин К. А. 483, 491, 581
Корчагина-Александровская Е. А. 555
Корш-Саблин В. В. 583
Костелло М. 153
Кошут Л. 279
Крейгер И. 335
Кренкель Э. Т. 557
Кромвель О. 115
Крупская Н. К. 558
Крылов В. 558
Крюзе Д. 549
Крюков Н. Н. 558
Кулешов Л. В. 134, 235, 263, 400, 548, 569
Курбский А. М. 463
Курт Ю. 309
Кутепов А. П. 546
Кутузов М. И. 194, 204, 361, 470, 552, 566, 579
Лаваль П. 286
Лавренев Б. А. 562
Лавров Н. В. 303
Лавровский Л. М. 475, 476, 580
Ламанова Н. П. 483, 485, 486, 581
Лафайет М.-Ж.-П. 279
Леблан М. 585
Левенштейн, финансист 335
Леже Ф. 101
Лекуврер А. 582
Ленин В. И. 95, 105, 107, 111, 116, 118, 179, 184, 185, 187, 194, 199, 200, 201, 203, 212, 229, 236, 240, 242, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 262, 300, 420, 434, 456, 529, 530, 536, 542, 553, 556, 557, 558, 585, 586, 587
Лентовский М. В. 325
Леонардо да Винчи 208, 389, 441, 442, 550
Леонидов Л. М. 389
Леонов Л. М. 361, 379, 395, 566, 568
Ливанов Б. Н. 391, 416, 417, 418, 419, 572
Линкольн А. 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 559
Лисенко Н. А. 134
Литт Д. 157
Ломов, бутафор 480
Ломова Л. А. 481
Ломоносов М. В. 44
Лонгфелло Г. 270
Лоран С. 278
Лорд А. 552
Луговской В. А. 577
Луи-Филипп, франц. король 325
Лукин В. А. 555
Луначарский А. В. 185, 202, 379, 556, 570, 585
Льюис Д.-Г. 141
Любашевский Л. С. 558
Людовик V, франц. король 277
Люксембург Р. 569
Лялин С. 39
Мазарини Ж. 276
Майер К. 540
Майлстоун Л. 551
Майоров С. А. 568
Маклаглен В. 277
Максимов В. В. 134
Малларме С. 100
Мао Тун 312
Марецкая В. П. 204
593 Мария Стюарт, шотланд. королева 388, 568, 582
Мария Тюдор (Кровавая), англ. королева 277
Маркс К. 35, 44, 115, 120, 121, 171, 193, 232, 251, 275, 337, 339, 533, 543, 564, 583, 587
Маркс, братья, киноактеры 160
Матернус Ф. 349
Маутнер Ф. 172
Маяковский В. В. 91, 193, 196, 264, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 454, 456, 574, 575, 579
Медведкин А. И. 231, 232, 233, 234, 235, 555
Мейербер Д. 376
Мейерхольд В. Э. 60, 72, 303, 310, 328, 545, 552, 553, 575, 576
Менделеев Д. И. 491
Меньшиков А. Д. 390
Мериме П. 570
Мессершмидт В. 484
Метерлинк М. 91, 347, 376, 565
Микеланджело Буонарроти 112, 191, 207, 208, 210, 280, 441, 442, 483, 485
Мильтон Д. 126
Минин К. 117, 120, 124, 194, 549
Минин Н. 168
Мирабо О.-Г. 89
Миргорьян Г. 556
Миттельгольцер, америк. летчик 443, 444
Митчелл Т. 277
Михин Б. А. 221, 246, 423, 554, 573
Мичурин И. В. 349
Мозжухин И. И. 134
Мольер Ж.-Б. 543
Моносзон Л. И. 444, 446, 576, 577
Морган Л.-Г. 337
Мочалов П. С. 373
Мурнау Ф. 551
Мусоргский М. П. 196
Мэй Лань-фан 311, 312, 313, 314, 315, 324, 374, 562
Наполеон I (Бонапарт) 204, 276, 362, 484, 518
Наполеон III, франц. имп. 442, 576
Некрасов Н. А. 193
Некрасов Н. В. 391
Немирович-Данченко Вл. И. 572
Ненашева Л. 556
Нибло Ф. 551
Никандров В. Н. 587
Николай I, имп. 45
Норрис Ф. 167
Оверстрит Х.-Э. 499, 500, 501, 502, 503, 504
Озанфан А. 101
Оки Д. 559
Орленев П. Н. 389
Орлова Л. П. 188
Островский А. Н. 58, 65, 66, 70, 72, 105, 205, 313, 434, 438, 576
Охлопков Н. П. 254, 328, 401, 557, 558, 566
Паркер Л.-Б. 551
Паулюс Ф. 491
Пеладан Ж. 347
Перестиани И. Н. 545
Перов В. Г. 471
594 Петр I, имп. 105, 117, 118, 128, 194, 204, 260
Петров А. А. 555
Пикассо П. 73, 101, 375, 404, 405, 471, 535, 571, 587
Пио, театральный декоратор 92
Платон 347
Плутарх 280
По Э. 583
Пожарский Д. М. 117, 120, 124, 194, 549
Покровский В. 557
Полетаев Н. Г. 587
Полонский В. А. 134
Понсон дю Террайль П.-А. 585
Портнов В. 555
Пославский Б. Д. 555
Правов И. К. 549
Преображенская О. И. 549
Пристли Д. 360, 361, 362, 363, 566
Прокофьев С. С. 196, 375, 425, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 478, 492, 578, 579, 580, 581
Протазанов Я. А. 184, 205, 553, 577
Птушко А. Л. 577
Пудовкин В. И. 177, 186, 202, 263, 439, 440, 441, 442, 525, 549, 550, 561, 576
Пуссен Н. 120
Пушкин А. С. 37, 100, 101, 105, 108, 115, 116, 125, 128, 192, 193, 196, 260, 439, 541, 542, 547, 548, 550, 563, 579, 584
Пшибышевский С. 182
Пырьев И. А. 205, 289, 454, 455, 456, 578
Радищев А. Н. 193
Райзман Я. И. 483, 484, 485, 486
Райман В. 585
Ремарк Э.-М. 551
Ренсимен Д. 342
Репин И. Е. 120, 123, 196, 391, 471, 483, 491
Рёриг В. 585
Ричард I (Львиное Сердце), англ. король 494
Ричард III, англ. король 155
Робеспьер М. 70
Робинсон А. 551
Роза С. 485
Розенфельд М. К. 426, 427, 428, 573, 574
Ромм М. И. 188, 203, 251, 252, 254, 557
Роом А. М. 205
Ротшильд Я. 443
Рошаль Г. Л. 205
Рубинштейн И. 330
Рублев А. 471
Рузвельт Т. 444
Рэтц де, кардинал 276
Сад Д.-А.-Ф. де, маркиз 276
Садуль Ж. 550
Салтыков Н. А. 116
Салтыков-Щедрин М. Е. 83, 105, 192, 235, 511, 545
Сансон Ш.-А. 115
Свердлов Я. М. 558
Светлов М. А. 558
Сейч Д. 551
Сен-Дени 515
Серафимович А. С. 525
Сергеев К. М. 580
Серов В. А. 101, 122, 196, 207, 380
Сигизмунд II, король польский 480
Синегуб, поручик 126
Скриб Э. 379, 388, 394, 500, 568, 575, 582
Сладкопевцев В. В. 555
Смышляев В. С. 59, 72, 454, 455, 545, 576, 578
Солнцева Ю. И. 560
Соловцов В. М. 555
Соловьев В. А. 566
Соловьев Н. 557
Сологуб Ф. К. 551
Софокл 330
Станиславский К. С. 60, 310, 389, 547
Стокер Б. 551
Столпер А. Б. 583
Стравинский И. Ф. 375, 392, 393
Страхов Н. Н. 47
Строева В. П. 558
Суворин А. С. 578
Суворов А. В. 194, 204, 361, 566
Суздальцев Н. П. 216
Суриков В. И. 101, 123, 196, 390
Сю Э. 489
Тельман Э. 226
Теннисон А. 152
Терещенко М. И. 391
Тимирязев К. А. 205
Тиссэ Э. К. 221, 246, 422, 423, 424, 425, 429, 558, 559, 573
Тициан Вечеллио 485
Тоде Г. 347
Толстая С. А. 553
Толстой А. К. 553
Толстой Л. Н. 126, 184, 192, 196, 205, 514, 553
Томас О. 157
Томпсон Д. 157
Тонг Тчонг-чи 318
Тренев К. А. 562
Третьяков С. М. 61, 66, 545, 575, 576
Троянский Г. А. 555
596 Уитмен У. 159, 169, 281, 347
Уланова Г. С. 474, 475, 476, 477, 478, 479, 580
Улиг Т. 335
Уокер У. 279
Уолхейм Л. 133
Успенский В. 556
Утамаро К. 389
Уткин А. А. 555
Уша А., В., Г., З., Л., М., Х. 527
Уэбстер А.-Г. 279
Фале Ш. 552
Фатти (Арбекль Роско) 233, 369, 370, 556, 567
Федоров Е. К. 557
Феофан Грек 471
Фельдман Д. М. 558
Фидз, англ. художник 388
Филпот Д.-Г. 349
Филиппов Ф. И. 577
Форд Д. 272, 273, 274, 275, 277, 282, 559
Фоско П. 573
Франс А. 375
Фридрих II, прусск. король 115, 228, 549
Фрунзе М. В. 116
Фуше Ж. 276
Хальс Ф. 485
Ханжонков А. А. 183
Ханзель Н. 362
Харримэн Д. 393
Херсонский Х. Н. 570
Хмелев Н. П. 392
Хмельницкий Богдан 204
Хокусаи К. 389
Холлендер Ф. 540
Холодная В. В. 134
Хохлова А. С. 400, 401, 569, 570
Цезарь Гай Юлий 276
Цинциннат Л.-К. 71
Цйодзюро К. 561
Чайковский П. И. 195
Чапаев В. И. 51, 52, 115, 116, 118, 119, 127, 179, 187, 188, 194, 204, 231, 240, 526, 543
Чапек К. 568
Чаплин Ч. 70, 81, 82, 83, 231, 232, 233, 266, 268, 269, 310, 311, 368, 411, 412, 413, 414, 415, 494, 495, 496, 497, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 540, 559, 572, 582, 583, 585
Чардынин П. И. 551
Челлини Б. 208, 467, 468, 485, 579
Чемберс Р. 551
Чен Пинг 312
Черепи А. 549
Черкасов Н. К. 254, 392, 459, 481, 482, 558
Чернышевский Н. Г. 193
Черный Саша 43
Чертков В. Г. 553
Честертон Г. 133
Черчилль У. 395
Чехов А. П. 83, 195, 196, 205, 483, 513, 545
Чиаурели М. Э. 103, 202, 264, 548
Чирсков Б. Ф. 188
597 Чкалов В. П. 205, 260, 384, 421, 491, 572
Чувелев И. П. 555
Шекспир В. 52, 112, 125, 154, 156, 161, 191, 280, 349, 379, 388, 394, 404, 405, 570, 571, 582, 584
Ширшов П. П. 557
Шишков А. С. 176
Шкваркин В. В. 545
Шкловский В. Б. 543
Шнейдеров В. А. 573
Шоу Б. 368
Штейнберг Л. П. 558
Штраух М. М. 66, 69, 203, 327, 366, 367, 377, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 435, 567, 568, 569, 575, 587
Щепкин М. С. 373
Щипановский А. Н. 309
Щорс Н. А. 106, 107, 116, 118, 127, 179, 187, 194, 441, 576
Щукин Б. В. 95, 203, 250, 252, 254, 255, 557, 558, 587
Эгдешман М. Н. 578
Эйнштейн А. 208
Эйр Р. 349
Эллиот Э. 153
Эль Греко (Теотокопули Д.) 472, 483, 580
Энгельс Ф. 44, 120, 121, 122, 193, 224, 232, 337, 339, 543, 548, 564, 583
Энгр Ж. 101
Энсио И. 307
Эразм Роттердамский 521
Эренбург И. Г. 545
Эрмлер Ф. М. 229, 230, 240, 263, 555
Эрнст М. 101
Эфенди В. Д. 25
Южин А. И. 389
Юраносуке 306
Юренев Р. Н. 577
Юрьев, музыкант 492
Юткевич С. И. 188, 203, 263, 287, 289, 361, 560, 566
Якамоси 309
Яннингс Э. 70
Янукова В. Д. 66
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* «Перспективы», том II настоящего издания, стр. 129.
7* «Советский киноэкран», 1940, № 23, стр. 8 – 9.
12* «О литературе», журнал «На литературном посту», 1928, № 1.
13* ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 936, лл. 3 и 5.
14* Всюду, где упоминается слово «материал», следует понимать его в формально кинематографическом смысле, а отнюдь не как исторический или фактический. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
15* По заслугам высоко расценивая эту замечательную картину, у нас совершенно неправильно оценивают характер ее значимости. На мой взгляд, значимость ее для нас отнюдь не практическая, а чисто стимулирующего характера. «Парижанка» для нас значительна в чисто абстрактном плане — как степень совершенства, до которой можно дойти в какой-либо области. В этом отношении значение ее для кино совершенно того же порядка, как дорический храм, чисто сделанное сальто-мортале или Бруклинский мост.
У нас же ее восприняли как практически полезное для нас явление. Попросту как объект для «сдирания» и подражания. Образцы подобного отношения — печальные страницы нашей киноистории: участки реакции и регресса по линии общего развития идеологии форм советской кинематографии. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
16* — существующему положению (лат.).
17* — волей-неволей (лат.).
18* — приведение к нелепости (лат.).
19* См. для сравнения текст «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, действие второе, явления восьмое и десятое. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
20* Нужно отметить, что как игра отдельных мест, так и целый ряд легких изменений текста, сделанных С. Третьяковым для смехотворного сталкивания этих фрагментов, сейчас, конечно, за двенадцать лет, утрачены и забыты. Приводимая врезка явлений, таким образом, приблизительна, хотя и показательна. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
21* Согласие Городулина устроить Глумова на службу игралось в седьмом явлении, а не в девятом. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
22* Первый монтажный кусок пленки «настоящего фильма» мне самому пришлось держать в руках, помогая Э. Шуб по перемонтажу «Доктора Мабузо» вскоре после постановки «Мудреца». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
23* Кажется, в 1925/26 году. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
24* — подвижные стены (франц.).
25* Далее в подлиннике зачеркнут следующий текст: «О них подробно можно прочесть хотя бы в книге А. Гвоздева “Западноевропейский театр на рубеже XIX – XX столетий” (изд. “Искусство”, 1939 год). Приводимые цитаты взяты оттуда».
26* — духа природы (англ.).
27* «Old Dickensians» — то есть старые почитатели Диккенса. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
28* Перевод С. М. Эйзенштейна.
29* Цитирую по своей статье о встрече с Гриффитом в газете «Кино» от 5 июля 1932 года. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
30* Для наглядности я разбиваю начало этой главы на более мелкие, чем у автора, абзацы. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
31* — «Анатомия киноискусства» (англ.).
32* Логически информационный крупный план встречается даже еще раньше, например у того же Портера в его «Жизни американского пожарного» (1902) крупно снят пожарный сигнал. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
33* Описание технического устройства этого сложнейшего сценического оборудования можно найти в журнале «L’Illustration» от 14 марта 1891 года. Там показано устройство трех параллельно бегущих тротуаров, по которым мчатся реальные лошади в сцене скачек из какого-то обозрения на подмостках театра «Revue des varietés». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
34* Цитирую по книге «The American Procession», American Life Since, 1860, in Photographs, New York and London, 1933, где помещена фотография мчащегося паровоза из этой постановки. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
35* Братья Маркс — известные американские эксцентрики. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
36* Сам Гриффит в известном объявлении в «The New York Dramatic Mirror» от 3 декабря 1913 года пользует оба обозначения: «The larg of close-up». Но характерно, что в американском кинообиходе удержалось именно второе обозначение: «close-up». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
37* Дж. Селдес — американский искусствовед, критик и журналист, автор ряда книг по вопросам театра и кино. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
38* «The Seven lively arts», N. Y.-L., 1924. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
39* Фрэнк Норрис — автор эпических романов о САСШ. Его перу принадлежит знаменитая сцена в романе «Октопус», посвященном эпосу пшеницы, когда крупный спекулянт на хлебе тонет в море пшеницы, наваленной в элеваторе. Норрис (1870 – 1902) писал под большим влиянием Эмиля Золя. Ему принадлежит и роман «Me Teague», из которого Эрик фон Штрогейм сделал удивительную картину «Алчность». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
40* Первые робкие попытки подобных композиций делались Портером в «Клептоманке» и самим же Гриффитом в «Юдифи из Бетулин». Первый фильм показывал два воровства: одно совершала богатая дама, другое — бедная женщина, укравшая кусок хлеба. Действие сплетается параллельно и сводится в конце в судебное разбирательство. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
41* — «во всем прежде всего проявляется разум» (лат.). (Перевод С. М. Эйзенштейна).
42* «Le Language» par. J. Vandryes закончена в 1914 году, издана в Париже в 1921 году. Русский перевод — Соцэкгиз, 1937. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
43* Ныне — Душанбе.
44* От acreage — площадь в акрах (англ.).
45* Курсив оригинала. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
46* Курсив оригинала. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
47* — «Дойче альгемейне цейтунг», 11 февраля 1934, «Большая речь имперского министра пропаганды перед кинематографистами» (нем.).
48* См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, М., Госполитиздат, 1962, стр. 37.
49* Далее часть текста утрачена.
50* Конечно, традиции эти не соблюдаются в европеизированной Японии, но в кодексе они значатся. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
51* По моему крайнему убеждению, кино есть сегодняшняя стадия театра. Театр в старой форме умер и если существует, то только по инерции4. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
52* Не случайно даже то, что в театре едят! Я не успел узнать, есть ли в театре ритуальная еда? Едят ли что попало или существует определенное меню? Тогда в ансамбль включалось бы и вкусовое ощущение! (Прим. С. М. Эйзенштейна).
53* «Самисэн» — японский музыкальный инструмент, подобие мандолины. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
54* См. № 32 [журнала] «Жизнь искусства» за тек[ущий] год6. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
55* Перевод этой танки, как и следующих, принадлежит А. И. Щипановскому. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
56* «Воспитанники Грушевого Сада» — старинное название, даваемое китайским актерам, воспитывавшимся в соответствующей части императорского дворца. Официальный титул Мэй Лань-фана — «Первый из Грушевого Сада» — означает, что он занимает высшее положение среди актеров Китая. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
57* Не забудем, что в известной, но значительно меньшей степени это встречается в других языках. Часто формы восклицания, вопроса или утверждения ничем не отличны в начертании. И требуется особое обозначение, дабы их ритмически-интонационно приводить к желаемому смыслу. (Восклицательный знак впереди фразы у испанцев!) (Прим. С. М. Эйзенштейна).
58* — непревзойденным, наилучшим (лат.).
59* Совершенно очевидно, что здесь я оперирую только той областью гуманитарных наук и эстетической практики, которая опирается на традицию и скрупулезно ее воспроизводит в тех формах, в которых она исторически складывалась, и самими историческими этапами, когда эти традиции складывались. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
60* К такой же мысли об идее «Гибели богов» приходит и Ромен Роллан. Цитируя то место из письма Вагнера к Улигу от 12 ноября 1851 года, где говорится о том, что «Кольцо» в целом должно было бы быть поставлено «после Великой революции», Ромен Роллан пишет: «… наконец, он создает “Гибель богов”; и Валгалла вместе с современным ему обществом гибнет в катастрофе, чтобы уступить место возрожденному человечеству…» («Musiciens d’aujourd’hui: Wagner»). (Прим. С. М. Эйзенштейна).
61* Не случайно Вагнер, сперва хотевший назвать эту драму «Вотан», в дальнейшем назвал ее именно «Валькирией». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
62* «Индустрию» Вагнер понимает в данном случае как стандартность и ремесленничество. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
63* — «Кипящий ураган стихийных сил и страстей» (нем.).
64* Об этом пишет и сам Вагнер в «Обращении к друзьям»: «Не бог создал историю Зевса и Семелы, а человек, в его чисто человеческом порыве, что внушил человеку, что бог изнывает в томлении любви по земной женщине. Конечно, только сам человек…» (Прим. С. М. Эйзенштейна).
65* Первое знакомство Вагнера с Данте и увлечение им относится как раз к этому времени. Он в восторге от того, что Лист работает над симфонией на эту тему, и «Дантевская симфония» Листа остается навсегда любимым произведением Вагнера; в ней он видел музыкальное «воплощение души дантовской поэзии в ее чистейшей просветленности». (Прим. С. М. Эйзенштейна).
66* Генрих Тоде, Франциск Ассизский и истоки Ренессанса, Берлин, 1904 (нем.).
67* — «Древо жизни» (лат.).
68* — Пеладан, Идеи и формы (франц.).
69* — «Сумасбродный пастух» (франц.).
70* — «Священное древо, или Дерево в религиях и мифах» Дж. Г. Филпота, Лондон, 1897.
71* Далее часть текста утрачена.
72* — «Ежемесячник театрального искусства» (англ.).
73* В подлиннике фраза осталась незаконченной.
74* — «Умение превзойти себя — это всегда высшее действие, источник, сущность самой жизни» (франц.).
75* Далее часть текста утрачена: лист оборван.
76* — на веревку (нем).
77* Тот факт, что мелодия очень часто не «изобретается», а берется из готового стороннего, например фольклорного, напева, дела здесь не меняет.
Ведь избираются в таком случае из всего многообразия подобных мелодий и тем только те, что «увлекают» автора, задевают его воображение, — то есть созвучные с известным строем внутренней его необходимости, ищущей средств обнаружиться вовне, и в этом смысле «выбор мелодий» чисто принципиально совпадает с изобретением ее. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
78* Примерно то же самое делает и монтажер, «вслушиваясь» в возможности кусков и отчеканивая в окончательную структурную форму то, что витало ощущением кусков при съемке их режиссером. Напоминаю, что здесь дело касается подлинно «монтажно» снятых сцен, а не таких, где, кроме по очереди снятых синхронно говорящих крупных и средних планов, ничего нет и даже невозможен примитивнейший прием «сплетения» сцен путем «захлестов» произносимой реплики на план слушающих. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
79* Сейчас я говорю только о пластической стороне ощущения «рельефности», которое получается через монтаж. О прочих выразительных и смысловых функциях и возможностях монтажа написано так много, что здесь нет никакой необходимости вдаваться в это! (Прим. С. М. Эйзенштейна).
80* Любопытно, что именно так, через сопоставление отдельных его элементов и отдельных фаз его «поведения», создан поразительный стихийный и динамический образ Днепра в «Страшной мести» Гоголя. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
81* — первая среди равных (лат.).
82* Вот эти шаги в том виде, как они ложатся на музыку:

(Прим. С. М. Эйзенштейна).
83* — Без перспективы (англ.).
84* Не помню, где и кто впервые обмолвился этим непочтительным обозначением для человеческих достоинств М[ожет] б[ыть], это вывеска парижского трактира, подобная той, что visavi Пер-Лашел: «Au repos des vivants» [«место успокоения живых»]. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
85* Kid (америк. разговорн.) — ребенок, малыш. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
86* — «На плечо» (англ.).
87* — «Десять маленьких негритят» (англ.).
88* «Ruthless Rhymes for Heartless Homes», Лондон, издание… девятнадцатое. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
89* Перевод Н. Кончаловской.
90* Чарли — взрослый. (Прим. С. М. Эйзенштейна).
91* — заранее, изначально (лат.).